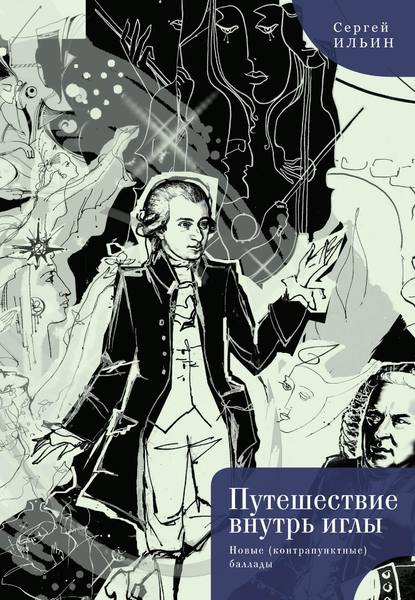По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Им встретился мальчик странный:
собрался он рыб удить
в дождливой громадной луже,
где рыб не могло и быть.
В трамвае сидели люди,
болтая о том и сем,
но лишь он к ним обращался,
в горле вставал у них ком:
будто на чуждом наречье,
он все обращался к ним,
они ж от него скрывали,
каким он был им чужим:
сочувствуя отводили
догадливые глаза,
и взгляд его застилала
обидчивая слеза.
Вот наконец и достигли
они родного двора:
детство припомнить и юность
пришла для него пора, —
минувшая жизнь с отъездом
не только распалась в прах,
мстить за себя ему стала,
являясь все чаще в снах,
тогда как все эмигрантство,
в котором он счастлив был,
ни разу и не приснилось:
но кто же смысл его смыл?
И если у сна со смертью
глубокая общность есть,
не выиграл он ни йоты,
в Мюнхене вздумав осесть:
сойдет с него эмигрантство,
как старая чешуя,
останется русская сущность —
бессмертная, как змея.
И мыслью этой пронзенный,
в которой обмана нет,
опять обратил вниманье
на странный вокруг он свет,
и тонкая – ниоткуда —
вонзилась в него печаль,
и больше всего на свете
себя ему стало жаль.
Зачем он сюда приехал?
вернется ли он назад?
в душе поселились разом —
чистилище, рай и ад.
Благо, желая развеять
черные мысли его,
отец ему знак вдруг сделал,
не вымолвив ничего.
И точно: перед подъездом,
взгляд держа у земли,
бывшая одноклассница
что-то чертила в пыли
носком старомодной туфли,
точно карандашом,
и жадно пломбир лизала
острым своим язычком.
И спрашивать она стала,
помнит ли он, кто она,
и что у него за паспорт,
и ласкова ли жена,
чем хороша заграница,
какой он проделал путь,
и не хотел бы в награду
мороженого лизнуть?..
От этих странных вопросов
кругом пошла голова,
а в тополях шелестела
цинковая их листва…
И солнце в небе сияло,
и не было облаков, —
это и было мгновенье,
в котором – веки веков.
Даром за все это время
тайны срывая печать,
слова ему не сказала
его же родная мать?