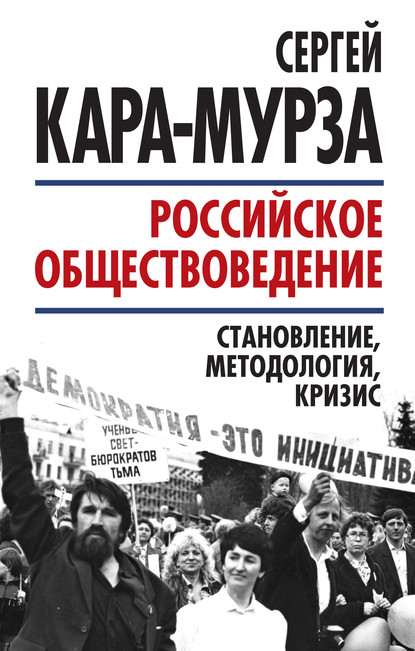По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Российское обществоведение: становление, методология, кризис
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Те же ошибки продолжили делать вожди Белого движения и их советники, включая кадетов и эсеров. Красноречива неудача запоздалого социального проекта – земельной реформы в Крыму и Северной Таврии по инициативе Врангеля, ставшего в апреле 1920 г. главнокомандующим и правителем Юга России. В его правительстве были А.В. Кривошеин (правая рука Столыпина в его реформе) и другой сподвижник Столыпина, Г.В. Глинка. Этот проект вошел в историю как «Левая политика правыми руками».
Врангель потребовал «вырвать из рук наших врагов главное орудие пропаганды против Белой армии и Белого движения: всякое подозрение в том, будто бы цель нашей борьбы с красными – восстановление помещичьих прав на землю и месть за их нарушение». В Крыму была налажена мощная по тем временам пропаганда, но проект опирался на утопические представления об установках крестьян, кулаков и помещиков – и провалился. Попытка реанимации Столыпинской реформы, даже в гораздо более «левой» форме, была отвергнута всеми вовлеченными в проект общностями и лишь ускорила крах режима Врангеля [22].
Белые не смогли (и даже принципиально отказались) предложить населению России программу сборки страны и народа. Это требовалось населению, и тот, кто предложил бы внятный и приемлемый проект такой сборки, сразу получил бы поддержку. Но вследствие ошибок в сфере этнических отношений белые «напоролись на национализм и истекли кровью».
Если бы Белое движение опиралось на верное знание об идущих на «постимперском пространстве» общественных процессах, оно могло бы избежать возникновения целого ряда порочных кругов.
Для нас важен тот факт, что обществоведение Российской империи оставило очень мало материалов о методологии и организации разработки и принятия решений в управлении. Многие критически важные решения в практике управления империи остаются необъясненными. Например, нет объяснения, почему монархия противилась попыткам учредить нормальное правительство, которое могло бы действовать как согласованное целое – царь вызывал к себе министров по одному. Много написано о роли Распутина, но он не мог задать модель институтов управления огромного государства. Их так создали и воспроизводили. Но тогдашние обществоведы этого не изучали, и наши сведения о структуре и философской базе этих институтов обрывочны – вот что важно.
Точно так же нет объяснения принятой Временным правительством упомянутой выше необычной доктрины непредрешенчества. Кто автор этой доктрины, какие доводы интеллектуалов партии либералов убедили правительство сделать такой выбор? Анализ подобных решений был бы очень полезным учебным материалом для нынешней российской политологии. Но реальность механизмов и методологии управления первого буржуазно-либерального государства в России нам практически неизвестна.
Советская власть: типы социального знания
На какое знание опирались советская власть и госаппарат? Почему они выдержали Гражданскую войну и вызванные ею бедствия и решили немало важных задач по восстановлению хозяйства, по сборке страны и народа, выполнили ряд больших программ развития?
Это стало возможным потому, что в госаппарат вошел большой контингент практиков – людей, которые знали на опыте состояние дел сверху донизу. Проект советской власти приняла и включилась в его осуществление значительная часть старой элиты – генералитет и офицерство, руководители полиции и жандармерии, значительная часть чиновничества и даже министров царского и Временного правительств, Академия наук, промышленники. Их дополнили практики «снизу» – грамотные рабочие и крестьяне, командиры Красной армии и студенты. Возникла дееспособная, знающая и увлеченная национальным проектом элита.
Опираясь на реальное знание, которым обладала Россия в лице этих работников, стало возможным укрепить новое государство и целый исторический период решать очевидные необходимые задачи, не допустив разрыва непрерывности с системой знания прежнего государства. Эти кадры руководили большими программами и оказались на высоте даже такого вызова, как Великая Отечественная война. Но социальное знание, которым они пользовались, было прежде всего знанием традиционным. Оно было сконцентрировано в опыте и здравом смысле.
Применение и развитие этого знания протекали в тяжелой дискуссии и в конфликте с официальным обществоведением, в основу которого тогда был положен исторический материализм. Эти дискуссии нарастали, они вели к расколам, а в крайней форме – и к репрессиям. Дискуссии были важными, но из-за эмоционального накала в них доминировали ценностные компоненты. Да и социальная цена их была очень велика.
Много удалось сделать при дефиците научного обществоведческого знания. Скажем, без развитой этнологии Советское государство смогло в 1918–1920 гг. усмирить этнический национализм окраин и на новой основе воссоздать «империю» в форме СССР. Сейчас в зарубежной антропологии это считается великим достижением.
Опыт и глубокое осмысление практики, жесткие дискуссии позволили избежать многих провалов. Но были и катастрофические ошибки, вызванные нехваткой рационального знания. Одна из них связана с первым этапом коллективизации; это рана, которая кровоточит постоянно. Реализация принятой в конце 1920-х гг. доктрины этой программы привела к голоду и тяжелому расколу сельского общества. Взятая за основу в исходной доктрине модель кооператива, выработанная в кибуцах в Палестине, признанная в европейском левом движении очень эффективной, была неприемлема для традиционного крестьянского мироощущения. Другое дело, что эта ошибка очень быстро (за три года) была проанализирована и исправлена.
Но после войны, во второй половине ХХ в., становилось все более очевидно, что наличие обществоведения научного типа – это необходимое условие выживания. Без него уже невозможно было успешно управлять урбанизированным индустриальным обществом. Традиционное и неявное знание уже не отвечало сложности задач. Общественные процессы выходили из-под контроля. Многие проявления недовольства приходилось подавлять, загоняя болезненные явления вглубь. Ю.В. Андропов в свое время признал, что «мы не знаем общество, в котором живем»[9 - Буквально Ю.В. Андропов сказал в 1983 г. следующее: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».].
В этом признании было предчувствие катастрофы. Это – как если бы капитан при начинающемся шторме в зоне рифов вдруг обнаружил, что на корабле пропали лоции и испорчен компас. Ведь это сказал человек, который много лет был председателем КГБ. Это признание для нас сегодня очень важно. Ведь Ю.В. Андропов не обвинил в нашем незнании общества каких-то академиков или целые институты Академии наук. Это незнание он представил как всеобщую национальную проблему, а значит, проблему нашей культуры, даже нашей картины мира.
Власть обслуживала огромная армия обществоведов: только научных работников в области исторических, экономических и философских наук в 1985 г. было 163 тыс. человек. Еще больше таких специалистов работало в госаппарате, народном хозяйстве и социальной сфере. Уже к 1988 г. было видно, что перестройка толкает общество к катастрофе. Но элита обществоведов этого не видела (или умалчивала, что несовместимо с научными нормами).
Если при этом «мы не знали общества, в котором живем», это значило, что их анализ методологически был неадекватен своему предмету – советскому обществу 1960–1985 гг. В результате и высшее руководство страны, и работники госаппарата на всех уровнях, и само общество не имели необходимого научного знания. Познавательные инструменты советского обществоведения не годились. А значит, и общество с государством, ведомые таким обществоведением, были подслеповатыми, если не слепыми. Это и привело к катастрофическому провалу.
В чем сегодня видится его причина? Почему ни в Российской империи, ни в СССР не возникла система научного знания об обществе? Разумеется, и раньше, и в советское время у нас было много блестящих мыслителей, которые высказывали блестящие идеи и писали интересные книги, но в науке отдельные таланты и даже их малые группы не могут заменить системы – социального сообщества, следующего нормам научности и связанного профессиональной этикой и коммуникациями особого типа.
В 1990-е гг. ряд аналитиков склонялись к мысли, что слабость советского обществоведения была обусловлена тем методологическим фильтром, которым служил взятый из марксизма исторический материализм с его специфической структурой познавательных средств. О методологическом несоответствии истмата реальности ХХ в. надо говорить особо – это большая и важная тема. Она актуальна, потому что, хотя сейчас российское постсоветское обществоведение сменило свой идеологический вектор и ориентируется на либеральные (или даже «антимарксистские») ценности, в методологическом плане никакого сдвига не произошло. Те же преподаватели, что и раньше, исходят из тех же постулатов истмата, а замена идеологической компоненты не повлияла на логику их рассуждений. Оказалось, что несущественно, за что они «болеют» – за труд против капитала или за капитал против труда. Парадигма задается фундаментальной картиной мира, а в либерализме и в истмате эти картины примерно одинаковы: обе сложились в проекте Просвещения.
Одна и та же причина обусловила слабость российского обществоведения и в начале ХХ в., и в конце. Она прямо вызвана принципиальными различиями в генезисе российского и западного обществоведения. Длительное господство истмата в официальной идеологии лишь затянуло смены парадигмы обществоведения с натурфилософской парадигмы на научную.
Что мы в результате получили при развитии нашего обществоведения на этой траектории? Мы пришли к такому положению, что Запад, при всех его провалах и кризисах, обеспечил постоянное снабжение государства и общества беспристрастным, инженерным обществоведческим знанием[10 - Надо сказать, что и западное обществоведение не раз давало сбои в ХХ в. Как и в науке в целом, в нем происходили кризисы, связанные со сдвигами в картине мира, в представлениях о человеке, в самой общественной реальности. Зрение обществоведов в анализе ряда явлений было деформировано механистическим детерминизмом, унаследованной от ньютоновской модели мироздания верой в то, что наш мир прост и устроен наподобие математически точной машины. Это – особая тема. Но в России мировоззренческий кризис 80—90-х гг. ХХ в. привел к поражению даже и этой механистической рациональности.]. А уж как им пользоваться – это решают «потребители» (политики, администраторы, общественные деятели, предприниматели и обыватели), исходя из своих ценностных представлений.
Пример – западная (почти исключительно американская) советология. Когда знакомишься с ее материалами, испытываешь уважение к качеству знания, которое советологи получали о нас: скрупулезно, ответственно, достоверно. Если заказчик требует: найдите в СССР такую социальную общность, которую можно использовать как таран против Советского государства, – разворачивается серия больших и глубоких проектов научного типа. Этнологи начинают комплексные исследования потенциально пригодных для этой роли этнических обществ, уходя вглубь истории как минимум на два века. Другие исследуют субкультуры российского и советского преступного мира, третьи – научную и гуманитарную интеллигенцию. Работают замечательные специалисты и по Достоевскому, и по Михаилу Булгакову; в Гарвардском университете целыми группами изучают «Собачье сердце», на все лады трактуя образы и Шарикова, и профессора Преображенского.
Если политические заказчики заключают контракт на анализ общности российских шахтеров как фактора дестабилизации системы, советологи изучат социокультурные особенности этой общности в разных условиях начиная с конца ХIХ в. и напишут монографию. А в закрытой аналитической записке скажут: вот идеальный контингент для создания в момент ослабления государства таких-то и таких-то кризисов. Выводы делаются с высокой точностью. И ведь большая часть таких монографий и даже часть этих докладов находились в СССР в спецхране, но наши советские обществоведы не видели в них никакой прикладной ценности и не верили их выводам. Они не владели методологией, чтобы понимать их смысл – иначе надо было бы предположить, что они игнорировали выводы советологов из идеологических антигосударственных соображений. Это невероятно.
Так же работают западные междисциплинарные центры прикладного обществоведения для решения политических проблем в любой части мира. Заказчик ставит задачу: как свергнуть президента Маркоса на Филиппинах? Проектные группы начинают изучать филиппинское общество, его историю, культуру, современные веяния и выбирают предположительно лучшие альтернативы. Устраивают революцию типа «оранжевой» – и вот в Маниле собираются у ворот воинских и полицейских частей толпы красивых девушек в нарядных платьях, с цветами и улыбками, они бросают цветы солдатам, поют им песни, лезут на грузовики. И прежде надежные профессиональные карательные отряды режима отказываются применять силу против таких демонстрантов. Всеобщее ликование – демократия победила.
Но при этом было установлено, что такой способ будет эффективен именно на Филиппинах, а в Южной Африке или в Тунисе сценарий должен быть совсем другим. Это блестящие инженерные разработки на основе научного обществоведения. Что могло этому противопоставить Советское государство? Нашим специалистам даже расшифровать подобные разработки было трудно, потому что у нас так не работали.
Вспомним недалекую историю. В 1960-е гг. СССР переживал очень сложный период. Страна выходила из состояния «мобилизационного социализма». Это довольно трудная задача – одна из самых сложных операций. Ее провели очень плохо, заложили в обществе массу «мин». Общество переживало кризис урбанизации – большинство населения за очень короткий срок стало городскими жителями. Люди переезжали в города, резко меняли образ жизни, приспосабливались к другому производству и быту, другому пространству. Массы людей испытывали тяжелый стресс, одновременно происходила смена поклонений. Общество быстро менялось и усложнялось, эти процессы надо было быстро изучать, находить новые социальные формы, чтобы снизить издержки трансформации. Но обществоведение методологически не было готово к решению этих задач, и страна скользила к обширному кризису, который превратился в системный.
Советское обществоведение не имело даже языка, чтобы описать подобные политические технологии. Для этого требовался ясный и беспристрастный «инженерный» язык. Видный социолог Г.С. Батыгин писал: «Советская философская проза в полной мере наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии, иногда надрывный, но чаще восторженный. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом. …В той степени, в какой в публичный дискурс включалась социально-научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии» [4, с. 43].
«Пророчески-темный стиль» присущ натурфилософии, можно сказать, это стиль социальной алхимии, а не науки. Такое обществоведение было не в состоянии интеллектуально овладеть созревающим кризисом, проблематизировать реальность и нарабатывать жесткое «инженерное» знание. Попытки противостоять кризису, перераставшему в катастрофу, не были обеспечены социальными технологиями, основанными на знании научного типа.
Аргументация в текстах обществоведов нередко опиралась на апелляцию к авторитетным писателям-классикам. Особенно часто взывали к Достоевскому (во время перестройки то и дело поминалась «слеза младенца»), консерваторы чаще обращались к Толстому. Чехов тоже использовался как идеологический молоток. А ведь он специально предупреждал, что ни в коем случае нельзя верить писателю, который пишет на общественные темы. Писатель не описывает реальное общество, он создает образ общества, утверждая ту или иную нравственную идею. В этом образе многие черты деформированы и гипертрофированы – чтобы что-то воспеть или что-то проклясть в общественном явлении или процессе.
В 1991 г. прошла дискуссия о методологической основе советской социологии. А.И. Кравченко писал: «Подсознательная установка всякого русского человека: наука об обществе есть наука о духовном, знание ценностное и знание о ценностях. Поэтому социология у него гуманитарна по своей изначальной сущности… Вспомним работы Н. Кареева, М. Михайловского, П. Сорокина и большинства других российских социологов… Это чисто гуманитарное знание. Таковы же и работы титанов русской социальной мысли Н. Бердяева и С. Булгакова.
Совсем иной характер сочинений М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса или Ф. Херцберга. Как бы глубоки не были философские рассуждения, на первом месте – тщательность методологической прописки темы, возможности количественного измерения явлений. Это – альфа и омега настоящего позитивизма, того самого, который на отечественной почве так и не привился.
Мы не прошли школы позитивизма, суровой методической выучки, дисциплины и культуры научного мышления. Быть может, поэтому мы так приблизительны и поверхностны в своих теоретических суждениях, необязательны в выводах, неточны в расчетах… Значит, и нынешняя советская социология никак не может быть похожа на свой западный аналог, как бы ни учились мы у заграницы, как бы ни списывали с нее кружева…
Но если уж быть логичным до конца, то надо было бы еще в 50-е гг. отказаться от марксистской философии как метафизики. Но не отказались. И что же вышло? Философские положения выводят прямо из данных опроса респондентов» [23].
Тот факт, что советская философия, следующая догмам исторического материализма, не могла обеспечить обществоведение методологией, адекватной динамике общественных процессов, был известен партийному и государственному руководству. Но исследовать причины этого состояния и создать возможности для формирования автономного от сообщества коллектива методологов не удалось.
В 1949 г. Ю.А. Жданов, тогда зав. сектора науки ЦК ВКП(б), в докладной записке М.А. Суслову писал: «Философию развивали революционеры и ученые. Что же касается наших философов-профессионалов, заполняющих институты философии и философские кафедры учебных заведений, партийных школ, то никто из них за тридцать лет советской власти и торжества марксизма в нашей стране не высказал ни одной новой мысли, которая вошла бы в сокровищницу марксистско-ленинской философии. Более того, никто из наших философов-профессионалов не высказал ни одной мысли, которая обогатила бы какую-либо конкретную область знания. Это в равной степени относится к Деборину и Митину, Юдину и Александрову, Максимову и Кедрову и всем остальным» (см. [24]).
Врангель потребовал «вырвать из рук наших врагов главное орудие пропаганды против Белой армии и Белого движения: всякое подозрение в том, будто бы цель нашей борьбы с красными – восстановление помещичьих прав на землю и месть за их нарушение». В Крыму была налажена мощная по тем временам пропаганда, но проект опирался на утопические представления об установках крестьян, кулаков и помещиков – и провалился. Попытка реанимации Столыпинской реформы, даже в гораздо более «левой» форме, была отвергнута всеми вовлеченными в проект общностями и лишь ускорила крах режима Врангеля [22].
Белые не смогли (и даже принципиально отказались) предложить населению России программу сборки страны и народа. Это требовалось населению, и тот, кто предложил бы внятный и приемлемый проект такой сборки, сразу получил бы поддержку. Но вследствие ошибок в сфере этнических отношений белые «напоролись на национализм и истекли кровью».
Если бы Белое движение опиралось на верное знание об идущих на «постимперском пространстве» общественных процессах, оно могло бы избежать возникновения целого ряда порочных кругов.
Для нас важен тот факт, что обществоведение Российской империи оставило очень мало материалов о методологии и организации разработки и принятия решений в управлении. Многие критически важные решения в практике управления империи остаются необъясненными. Например, нет объяснения, почему монархия противилась попыткам учредить нормальное правительство, которое могло бы действовать как согласованное целое – царь вызывал к себе министров по одному. Много написано о роли Распутина, но он не мог задать модель институтов управления огромного государства. Их так создали и воспроизводили. Но тогдашние обществоведы этого не изучали, и наши сведения о структуре и философской базе этих институтов обрывочны – вот что важно.
Точно так же нет объяснения принятой Временным правительством упомянутой выше необычной доктрины непредрешенчества. Кто автор этой доктрины, какие доводы интеллектуалов партии либералов убедили правительство сделать такой выбор? Анализ подобных решений был бы очень полезным учебным материалом для нынешней российской политологии. Но реальность механизмов и методологии управления первого буржуазно-либерального государства в России нам практически неизвестна.
Советская власть: типы социального знания
На какое знание опирались советская власть и госаппарат? Почему они выдержали Гражданскую войну и вызванные ею бедствия и решили немало важных задач по восстановлению хозяйства, по сборке страны и народа, выполнили ряд больших программ развития?
Это стало возможным потому, что в госаппарат вошел большой контингент практиков – людей, которые знали на опыте состояние дел сверху донизу. Проект советской власти приняла и включилась в его осуществление значительная часть старой элиты – генералитет и офицерство, руководители полиции и жандармерии, значительная часть чиновничества и даже министров царского и Временного правительств, Академия наук, промышленники. Их дополнили практики «снизу» – грамотные рабочие и крестьяне, командиры Красной армии и студенты. Возникла дееспособная, знающая и увлеченная национальным проектом элита.
Опираясь на реальное знание, которым обладала Россия в лице этих работников, стало возможным укрепить новое государство и целый исторический период решать очевидные необходимые задачи, не допустив разрыва непрерывности с системой знания прежнего государства. Эти кадры руководили большими программами и оказались на высоте даже такого вызова, как Великая Отечественная война. Но социальное знание, которым они пользовались, было прежде всего знанием традиционным. Оно было сконцентрировано в опыте и здравом смысле.
Применение и развитие этого знания протекали в тяжелой дискуссии и в конфликте с официальным обществоведением, в основу которого тогда был положен исторический материализм. Эти дискуссии нарастали, они вели к расколам, а в крайней форме – и к репрессиям. Дискуссии были важными, но из-за эмоционального накала в них доминировали ценностные компоненты. Да и социальная цена их была очень велика.
Много удалось сделать при дефиците научного обществоведческого знания. Скажем, без развитой этнологии Советское государство смогло в 1918–1920 гг. усмирить этнический национализм окраин и на новой основе воссоздать «империю» в форме СССР. Сейчас в зарубежной антропологии это считается великим достижением.
Опыт и глубокое осмысление практики, жесткие дискуссии позволили избежать многих провалов. Но были и катастрофические ошибки, вызванные нехваткой рационального знания. Одна из них связана с первым этапом коллективизации; это рана, которая кровоточит постоянно. Реализация принятой в конце 1920-х гг. доктрины этой программы привела к голоду и тяжелому расколу сельского общества. Взятая за основу в исходной доктрине модель кооператива, выработанная в кибуцах в Палестине, признанная в европейском левом движении очень эффективной, была неприемлема для традиционного крестьянского мироощущения. Другое дело, что эта ошибка очень быстро (за три года) была проанализирована и исправлена.
Но после войны, во второй половине ХХ в., становилось все более очевидно, что наличие обществоведения научного типа – это необходимое условие выживания. Без него уже невозможно было успешно управлять урбанизированным индустриальным обществом. Традиционное и неявное знание уже не отвечало сложности задач. Общественные процессы выходили из-под контроля. Многие проявления недовольства приходилось подавлять, загоняя болезненные явления вглубь. Ю.В. Андропов в свое время признал, что «мы не знаем общество, в котором живем»[9 - Буквально Ю.В. Андропов сказал в 1983 г. следующее: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».].
В этом признании было предчувствие катастрофы. Это – как если бы капитан при начинающемся шторме в зоне рифов вдруг обнаружил, что на корабле пропали лоции и испорчен компас. Ведь это сказал человек, который много лет был председателем КГБ. Это признание для нас сегодня очень важно. Ведь Ю.В. Андропов не обвинил в нашем незнании общества каких-то академиков или целые институты Академии наук. Это незнание он представил как всеобщую национальную проблему, а значит, проблему нашей культуры, даже нашей картины мира.
Власть обслуживала огромная армия обществоведов: только научных работников в области исторических, экономических и философских наук в 1985 г. было 163 тыс. человек. Еще больше таких специалистов работало в госаппарате, народном хозяйстве и социальной сфере. Уже к 1988 г. было видно, что перестройка толкает общество к катастрофе. Но элита обществоведов этого не видела (или умалчивала, что несовместимо с научными нормами).
Если при этом «мы не знали общества, в котором живем», это значило, что их анализ методологически был неадекватен своему предмету – советскому обществу 1960–1985 гг. В результате и высшее руководство страны, и работники госаппарата на всех уровнях, и само общество не имели необходимого научного знания. Познавательные инструменты советского обществоведения не годились. А значит, и общество с государством, ведомые таким обществоведением, были подслеповатыми, если не слепыми. Это и привело к катастрофическому провалу.
В чем сегодня видится его причина? Почему ни в Российской империи, ни в СССР не возникла система научного знания об обществе? Разумеется, и раньше, и в советское время у нас было много блестящих мыслителей, которые высказывали блестящие идеи и писали интересные книги, но в науке отдельные таланты и даже их малые группы не могут заменить системы – социального сообщества, следующего нормам научности и связанного профессиональной этикой и коммуникациями особого типа.
В 1990-е гг. ряд аналитиков склонялись к мысли, что слабость советского обществоведения была обусловлена тем методологическим фильтром, которым служил взятый из марксизма исторический материализм с его специфической структурой познавательных средств. О методологическом несоответствии истмата реальности ХХ в. надо говорить особо – это большая и важная тема. Она актуальна, потому что, хотя сейчас российское постсоветское обществоведение сменило свой идеологический вектор и ориентируется на либеральные (или даже «антимарксистские») ценности, в методологическом плане никакого сдвига не произошло. Те же преподаватели, что и раньше, исходят из тех же постулатов истмата, а замена идеологической компоненты не повлияла на логику их рассуждений. Оказалось, что несущественно, за что они «болеют» – за труд против капитала или за капитал против труда. Парадигма задается фундаментальной картиной мира, а в либерализме и в истмате эти картины примерно одинаковы: обе сложились в проекте Просвещения.
Одна и та же причина обусловила слабость российского обществоведения и в начале ХХ в., и в конце. Она прямо вызвана принципиальными различиями в генезисе российского и западного обществоведения. Длительное господство истмата в официальной идеологии лишь затянуло смены парадигмы обществоведения с натурфилософской парадигмы на научную.
Что мы в результате получили при развитии нашего обществоведения на этой траектории? Мы пришли к такому положению, что Запад, при всех его провалах и кризисах, обеспечил постоянное снабжение государства и общества беспристрастным, инженерным обществоведческим знанием[10 - Надо сказать, что и западное обществоведение не раз давало сбои в ХХ в. Как и в науке в целом, в нем происходили кризисы, связанные со сдвигами в картине мира, в представлениях о человеке, в самой общественной реальности. Зрение обществоведов в анализе ряда явлений было деформировано механистическим детерминизмом, унаследованной от ньютоновской модели мироздания верой в то, что наш мир прост и устроен наподобие математически точной машины. Это – особая тема. Но в России мировоззренческий кризис 80—90-х гг. ХХ в. привел к поражению даже и этой механистической рациональности.]. А уж как им пользоваться – это решают «потребители» (политики, администраторы, общественные деятели, предприниматели и обыватели), исходя из своих ценностных представлений.
Пример – западная (почти исключительно американская) советология. Когда знакомишься с ее материалами, испытываешь уважение к качеству знания, которое советологи получали о нас: скрупулезно, ответственно, достоверно. Если заказчик требует: найдите в СССР такую социальную общность, которую можно использовать как таран против Советского государства, – разворачивается серия больших и глубоких проектов научного типа. Этнологи начинают комплексные исследования потенциально пригодных для этой роли этнических обществ, уходя вглубь истории как минимум на два века. Другие исследуют субкультуры российского и советского преступного мира, третьи – научную и гуманитарную интеллигенцию. Работают замечательные специалисты и по Достоевскому, и по Михаилу Булгакову; в Гарвардском университете целыми группами изучают «Собачье сердце», на все лады трактуя образы и Шарикова, и профессора Преображенского.
Если политические заказчики заключают контракт на анализ общности российских шахтеров как фактора дестабилизации системы, советологи изучат социокультурные особенности этой общности в разных условиях начиная с конца ХIХ в. и напишут монографию. А в закрытой аналитической записке скажут: вот идеальный контингент для создания в момент ослабления государства таких-то и таких-то кризисов. Выводы делаются с высокой точностью. И ведь большая часть таких монографий и даже часть этих докладов находились в СССР в спецхране, но наши советские обществоведы не видели в них никакой прикладной ценности и не верили их выводам. Они не владели методологией, чтобы понимать их смысл – иначе надо было бы предположить, что они игнорировали выводы советологов из идеологических антигосударственных соображений. Это невероятно.
Так же работают западные междисциплинарные центры прикладного обществоведения для решения политических проблем в любой части мира. Заказчик ставит задачу: как свергнуть президента Маркоса на Филиппинах? Проектные группы начинают изучать филиппинское общество, его историю, культуру, современные веяния и выбирают предположительно лучшие альтернативы. Устраивают революцию типа «оранжевой» – и вот в Маниле собираются у ворот воинских и полицейских частей толпы красивых девушек в нарядных платьях, с цветами и улыбками, они бросают цветы солдатам, поют им песни, лезут на грузовики. И прежде надежные профессиональные карательные отряды режима отказываются применять силу против таких демонстрантов. Всеобщее ликование – демократия победила.
Но при этом было установлено, что такой способ будет эффективен именно на Филиппинах, а в Южной Африке или в Тунисе сценарий должен быть совсем другим. Это блестящие инженерные разработки на основе научного обществоведения. Что могло этому противопоставить Советское государство? Нашим специалистам даже расшифровать подобные разработки было трудно, потому что у нас так не работали.
Вспомним недалекую историю. В 1960-е гг. СССР переживал очень сложный период. Страна выходила из состояния «мобилизационного социализма». Это довольно трудная задача – одна из самых сложных операций. Ее провели очень плохо, заложили в обществе массу «мин». Общество переживало кризис урбанизации – большинство населения за очень короткий срок стало городскими жителями. Люди переезжали в города, резко меняли образ жизни, приспосабливались к другому производству и быту, другому пространству. Массы людей испытывали тяжелый стресс, одновременно происходила смена поклонений. Общество быстро менялось и усложнялось, эти процессы надо было быстро изучать, находить новые социальные формы, чтобы снизить издержки трансформации. Но обществоведение методологически не было готово к решению этих задач, и страна скользила к обширному кризису, который превратился в системный.
Советское обществоведение не имело даже языка, чтобы описать подобные политические технологии. Для этого требовался ясный и беспристрастный «инженерный» язык. Видный социолог Г.С. Батыгин писал: «Советская философская проза в полной мере наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии, иногда надрывный, но чаще восторженный. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом. …В той степени, в какой в публичный дискурс включалась социально-научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии» [4, с. 43].
«Пророчески-темный стиль» присущ натурфилософии, можно сказать, это стиль социальной алхимии, а не науки. Такое обществоведение было не в состоянии интеллектуально овладеть созревающим кризисом, проблематизировать реальность и нарабатывать жесткое «инженерное» знание. Попытки противостоять кризису, перераставшему в катастрофу, не были обеспечены социальными технологиями, основанными на знании научного типа.
Аргументация в текстах обществоведов нередко опиралась на апелляцию к авторитетным писателям-классикам. Особенно часто взывали к Достоевскому (во время перестройки то и дело поминалась «слеза младенца»), консерваторы чаще обращались к Толстому. Чехов тоже использовался как идеологический молоток. А ведь он специально предупреждал, что ни в коем случае нельзя верить писателю, который пишет на общественные темы. Писатель не описывает реальное общество, он создает образ общества, утверждая ту или иную нравственную идею. В этом образе многие черты деформированы и гипертрофированы – чтобы что-то воспеть или что-то проклясть в общественном явлении или процессе.
В 1991 г. прошла дискуссия о методологической основе советской социологии. А.И. Кравченко писал: «Подсознательная установка всякого русского человека: наука об обществе есть наука о духовном, знание ценностное и знание о ценностях. Поэтому социология у него гуманитарна по своей изначальной сущности… Вспомним работы Н. Кареева, М. Михайловского, П. Сорокина и большинства других российских социологов… Это чисто гуманитарное знание. Таковы же и работы титанов русской социальной мысли Н. Бердяева и С. Булгакова.
Совсем иной характер сочинений М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса или Ф. Херцберга. Как бы глубоки не были философские рассуждения, на первом месте – тщательность методологической прописки темы, возможности количественного измерения явлений. Это – альфа и омега настоящего позитивизма, того самого, который на отечественной почве так и не привился.
Мы не прошли школы позитивизма, суровой методической выучки, дисциплины и культуры научного мышления. Быть может, поэтому мы так приблизительны и поверхностны в своих теоретических суждениях, необязательны в выводах, неточны в расчетах… Значит, и нынешняя советская социология никак не может быть похожа на свой западный аналог, как бы ни учились мы у заграницы, как бы ни списывали с нее кружева…
Но если уж быть логичным до конца, то надо было бы еще в 50-е гг. отказаться от марксистской философии как метафизики. Но не отказались. И что же вышло? Философские положения выводят прямо из данных опроса респондентов» [23].
Тот факт, что советская философия, следующая догмам исторического материализма, не могла обеспечить обществоведение методологией, адекватной динамике общественных процессов, был известен партийному и государственному руководству. Но исследовать причины этого состояния и создать возможности для формирования автономного от сообщества коллектива методологов не удалось.
В 1949 г. Ю.А. Жданов, тогда зав. сектора науки ЦК ВКП(б), в докладной записке М.А. Суслову писал: «Философию развивали революционеры и ученые. Что же касается наших философов-профессионалов, заполняющих институты философии и философские кафедры учебных заведений, партийных школ, то никто из них за тридцать лет советской власти и торжества марксизма в нашей стране не высказал ни одной новой мысли, которая вошла бы в сокровищницу марксистско-ленинской философии. Более того, никто из наших философов-профессионалов не высказал ни одной мысли, которая обогатила бы какую-либо конкретную область знания. Это в равной степени относится к Деборину и Митину, Юдину и Александрову, Максимову и Кедрову и всем остальным» (см. [24]).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: