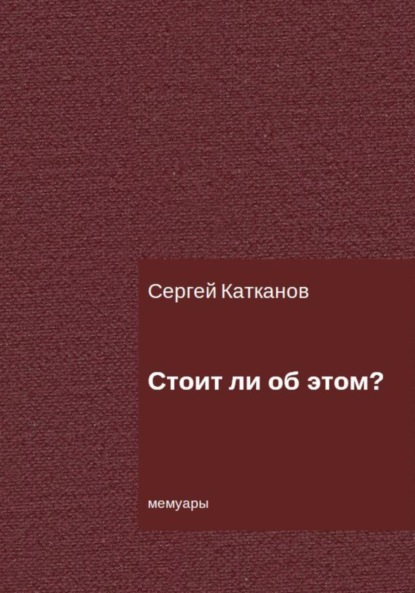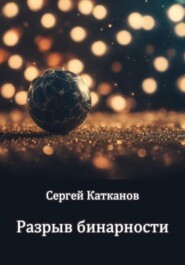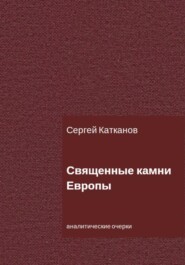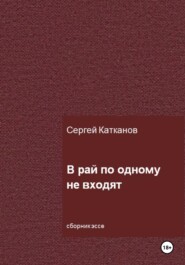По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стоит ли об этом?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Серёга, мы на юбилей идём, как думаешь, что подарить?
– А сколько лет юбиляру?
– 70.
– Тогда подарите ему могильный венок.
Отец так жизнерадостно и долго смеялся моей шутке, что я даже удивился. Потом он ещё несколько раз вспоминал эту шутку и каждый раз смеялся. А я тогда ничего не знал про человека, к которому родители пойдут на юбилей, с моей стороны это был просто чёрный подростковый юмор. Но для отца в моей шутке, видимо, был свой смысл. Он ничего не забыл. Он был, конечно, рад тому, что вот эти люди, которые думали, что из Юрки ничего путного не вырастет, теперь приглашали его за свой стол, как уважаемого человека. Но он всё помнил.
***
Про ужасы крепостного права у нас до сих пор знают больше, чем про кошмары изуверского колхозного рабства. Если в деревнях люди подыхали от голода, вкалывая от зари до зари фактически бесплатно, так они разумеется разбежались бы по городам, где никакого голода не было, но колхозники были лишены такой возможности. У них не было даже паспортов, они не могли сбежать. И вот отец, закончив 8 классов, решил всё-таки податься в город вопреки всему и не смотря ни на что. К сожалению, я забыл подробности того, как они с мамой выправляли все необходимые для этого справки, помню только, что это было нечто невообразимое и на первый взгляд совершенно невозможное. Несколько раз подряд им должно было крупно повезти, на что трудно было надеяться. Но повезло. Господь благословил.
Он поступил в ремесленное училище, что по тем временам считалось немалой честью. В училище было 3 отделения: столяры, плотники, бондари. Столяры считались элитой, учится на бондаря было наименее почётно. Отца приняли на плотника. И он закончил училище с 5-м разрядом. У плотников всего было 6 разрядов. Имеющие 6-й разряд – это виртуозы ремесла. Почти все выпускники училища получили 3-й разряд, лишь несколько человек – 4-й. Отцу, единственному из выпускников, дали 5-й разряд. Этот факт из биографии отца всегда приводил меня в восхищение.
Кстати, на топор я с детских лет смотрел, как на оружие чести. Помню, отец рассказывал, как в общаге училища процветала дедовщина – после отбоя в комнату приходили парни со старших курсов, у всех всё отбирала, недовольных – били. Однажды они рассказали об этом мастеру, а мастер только усмехнулся: «Первый раз слышу, что плотников обижают. Ведь плотники – ребята с топорами». Парни всё поняли, после работы они не сдали топоры, как положено, а взяли к себе в комнату, положив под матрасы. Когда после отбоя к ним опять пришли их обидчики, десять пацанов вскочили на ноги, выхватив топоры. «Деды» ретировались и больше не приходили.
А сейчас вот вспомнил случай из своего детства. Когда мне было 12 лет, родители «взяли дачу», то есть 4 сотки болотины без плодородного слоя. Землю мы с отцом наносили на носилках из ближайшего леса. Потом стали делать забор, для которого нужны были жерди. Отец тем временем строил дом, и ему было не до того, чтобы заниматься вырубкой жердей, это он доверял мне. И вот я ходил в лес с топором вырубать жерди. А в лесу уже тоже кое-какие участки нарезали, к ним я, конечно, не подходил, вырубая только бесхозный лес. Но владельцы одного из участков услышали стук топора и подумали, что это их лес рубят. И вот тащу я две жердины, а навстречу мне – два крепких сорокалетних мужика, а мне было тогда лет 14. Мужики, ни в чём не пытаясь разобраться, по всякому меня обматерили, один из них, приближаясь ко мне уже злобно крикнул: «Я те щас задам». А я перекинул топор с руки на руку и очень холодно ему сказал: «Попробуй». Мужик встал на месте, как вкопанный. Он так и не решился ко мне приблизиться. А я тем временем получил возможность объяснить им, что не приближался к их участкам. Когда я пересказал отцу эту ситуацию, он удовлетворённо хмыкнул.
Но это я отвлёкся, а отец тогда недолго проработал плотником, почему-то решив сменить дерево на железо, и устроился на речной флот. Ему было 19 лет, когда он работал рулевым-мотористом на «Ангаре». Однажды он почувствовал в области желудка сильную боль. Боль была такой страшной, что он катался по палубе, обхватив руками живот. А судно тогда подходило к Кириллову. В порт по рации вызвали «скорую» и оттуда его сразу привезли на операционный стол районной больницы. Это была прободная язва желудка. Оперировали под местным наркозом, отец рассказывал, что он всю операцию с хирургом разговаривал. Во время операции в больнице неожиданно погас свет. Хирург крикнул, чтобы со всей больницы несли керосиновые лампы. Ламп в больнице хватало, потому что свет вырубало часто. Вот так его и штопали при тусклом свете керосиновых коптилок.
Потом хирург сказал отцу, что если бы его привезли в больницу на полчаса позже, операция уже не потребовалась бы, ограничились бы вскрытием.А ведь то, что судно на момент прободения оказалось так близко к райцентру – чистая случайность, если, конечно, у Бога есть случайности. Тогда на волоске повисла не только жизнь отца, но и моя жизнь тоже – я бы не родился, если бы «Ангара» шла чуть дальше от Кириллова.
После той операции отец прожил ещё сорок лет, и все эти годы он страдал от язвенной болезни желудка, ежегодно ложился в больницу. Под конец жизни огромные язвы в желудке уже почти не заживали. Такую цену он заплатил за послевоенный голод. Ребёнок выжил, питаясь всякой дрянью, но бесследно такие вещи не проходят. Я в детстве питался не плохо, но у меня язвенная болезнь уже наследственная. И сейчас, когда во время обострения кусок не лезет мне в горло, я вспоминаю тот послевоенный голод, косивший людей задолго до моего рождения. У моего сына язвенная болезнь тоже наследственная, впрочем, у него она протекает мягче, чем у меня.
Отец вышел на пенсию по льготному речному стажу в 55 лет, продолжал работать, но не долго, вскоре свалился с инфарктом и оказался уже на инвалидности, а в 59 лет он умер.
Отец завещал похоронить его рядом с его мамой, и только на его похоронах я впервые обратил внимание на даты жизни бабушки – она тоже умерла в 59 лет, как и он. А его сестра, та самая, которая ещё в детстве работала на лесоповале, умерла в 54 года. К тому времени она уже несколько лет была на инвалидности. Они пережили тот голод, но он всё равно достал их и убил.
***
Из рассказов отца о детстве я помню ещё 2 случая. Однажды ему доверили пасти стадо колхозных свиней. И вот ему понравилось ездить верхом на самом здоровом и упитанном хряке. Голодавший ребёнок весил, как пушинка, а хряк, питавшийся куда лучше этого ребёнка, был здоров и упитан. Но потом ему крепко досталось от мамы, когда она об этом узнала. Она объяснила ему чуть не со слезами: «Юра, если бы ты сломал спину колхозному хряку, нам бы век не рассчитаться».
Отец говорил, что мама воспитывала его в основном коромыслом поперёк спины. Несчастной вдове солдата, оставшейся с четырьмя детьми на руках, было не до педагогических тонкостей. Впрочем, она была добрым мягким человеком, и отец её очень любил. Он говорил: «Когда мама умерла, я две недели в себя придти не мог».
И ещё был случай в его детстве. Они с товарищем заметили, что в заброшенный дом на краю деревни постоянно залетают и вылетают дикие пчёлы. Решили, что пчёлы устроили там улей, то есть можно полакомиться мёдом. А ведь они сладкого тогда вообще не ели, о существовании сахара знали лишь по наслышке, то есть мёд для них был куда соблазнительнее, чем был бы сейчас для нас. Однако, было страшно, они понимали, что пчёлы без боя мёд не отдадут. Всё-таки они решились: накинули рубахи на головы и ринулись в дом. Пчёлы их сильно покусали, но они вернулись с великолепным трофеем – большим восковым комком, внутри которого был мёд. Так Бог спасал голодных мальчишек, время от времени подбрасывая им то, что могло поддержать организм.
Отец говорил, что выжил только потому, что был самым младшим, его жалели и старались подкармливать. Если у них было что-нибудь такое, что делить не имело смысла, морковка какая-нибудь, это отдавали ему.
***
Когда отец уже работал на флоте, он поступил в 9-й класс вечерней школы, как это тогда называли – школа рабочей молодёжи. Учились, видимо, в холодное время года, когда не было навигации, и они работали на заводе. Смена заканчивалась в 17 часов, а в 18 – начинались занятия и шли до 21 часа. Такой режим обучения всегда казался мне подвигом и я искренне недоумевал – неужели человек может выдерживать такой режим в течение двух лет? Причём, прогуливать много не приходилось, потому что знания спрашивали очень серьёзно и троек просто так не ставили.
Когда я учился в старших классах обычной школы, мы знали, что тройку по любому предмету поставят просто так, работать надо было только для того, чтобы получить оценки выше тройки. А когда сам работал учителем в деревне и некоторое время вёл занятия в вечерней школе, это уже было откровенное глумление над здравым смыслом. Парни могли ходить на занятия, а могли и не ходить, это не имело никакого значения. Они приходили в школу лишь иногда, от скуки, что-либо узнать вообще не пытались, и что-либо спрашивать с них никому в голову не приходило. Они только числились в школе, и аттестаты им выдавали просто так.
Тогда, в начале 60-х, ученика, который не показывал по всем предметам удовлетворительных знаний, просто отчисляли из школы, и отец занимался по-настоящему. В его аттестате половина оценок – четвёрки. Особенно меня заворожила его четвёрка по тригонометрии. Я сей премудрости не превозмог и синуса от тангенса не отличал, сколько со мной не бились.
Я считаю, что отец совершил подвиг, вырвавшись из такой дикой среды, которую нам сейчас и представить невозможно. Сын матери, которая даже читать не умела, он превозмог все трудности и получил нормальное по тем временам образование. Он стал культурным человеком, любил читать художественную литературу, и это позволило мне дальше продвигаться по путям книжной мудрости. В области гуманитарной культуры я довольно быстро обогнал отца, и он по этому поводу немного комплексовал, но ведь я смог достичь своего уровня только благодаря его суперпрыжку из дикости в цивилизацию.
Когда он уже сошёл на берег и работал простым слесарем на судоремонтом заводе, его считали очень хорошим профессионалом. В этом деле есть очень узкая специализация – дефектовка. Это измерение бесчисленного количества зазоров в дизеле, которые составляют сотые доли миллиметра. Для этого требуются сложные приборы, но простого знания о том, как они приборы работают, оказывается недостаточно, там необходимо какое-то особого рода чутьё, которое мало у кого есть. Дефектовщик на заводе был только один, он не мог никого обучить своему делу – ни у кого не получалось. Отец пошёл к нему в обучение и овладел этой премудростью. Вскоре он уже был единственным дефектовщиком на заводе.
У него было множество приборов, под которые ему выделили особый кабинет. Иногда коллеги шутили в его адрес: «Слесарь с личным кабинетом». Он был первым, лучшим. Стремился ли он к этому когда-нибудь? Думаю, что нет. Он всего лишь был самим собой.
Мы с отцом были довольно разными людьми, и я только с годами начал понимать, как много во мне от него, как много он мне дал. Помню, он говорил: «Знаешь, Серёга, как в жизни бывает? Одни делают ремонт, а другие стоят за спиной и ключи подают. Так вот я ключи никогда не подавал, мне их подавали».
Потом, когда я стал журналистом, он любил слушать мои рассказы о работе. Как-то я рассказывал ему про одну тему, которую мне удалось раскопать. Он говорит: «Серёж, ты бы не лез в это дело, а то неприятностей не оберёшься». Я ему ответил: «Папа, я никогда не стоял за спиной у других и ключей не подавал». Он молча улыбнулся и кивнул.
В журналистике я сделал по тем временам карьеру головокружительную – за 6 лет прошёл путь от корреспондента районной газеты до заместителя главного редактора крупнейшей областной газеты. Отца моя карьера восхищала, и я был очень рад тому, что мне удалось стать профессионалом в своём деле, так же, как и ему в своём. Были направления, в которых я был первым, лучшим. Стремился ли я когда-нибудь к тому, чтобы быть первым? Нет, никогда. Но я всегда хотел реализовать себя по максимуму. Это во мне от отца.
Отец читал всё, что я писал. Иногда мои статьи его восхищали. Помню, мама рассказывала: «Отец прочитал твою статью и просто воскликнул: «Ну Серёга даёт!»». А иногда ему не нравились мои статьи, и он устраивал мне суровые нахлобучки: «Так нельзя».
И вот сейчас я подумал о том, что отцу, наверное, не понравилось бы, то что я о нём написал. Папа, прости если что не так.
Через год после смерти отца, в 1999 году, я написал небольшую повесть о своём детстве, которое прошло на реке. С тех пор прошло 15 лет, но я приведу здесь эту повесть, не изменив ни одного слова.
Мы плывём на самоходке
Флагман
Я вырос на палубе речного сухогруза и в первый свой рейс ушёл, имея 10 месяцев отроду, о чём в последующие годы очень любил говорить. Отец был штурманом на «Ангаре», мама также плавала несколько навигаций поваром, ну и я вместе с ними. Но «Ангару», я откровенно говоря, совершенно не помню. Кстати, её давно разрезали на металлолом. Суда уходят, а памяти нет.
Зато в мельчайших деталях помню следующее судно, на котором плавал,«Лену». Ласковое имя нашей самоходки никак не было связано со слабым полом, просто крупные сухогрузы в Сухонском пароходстве называли именами сибирских рек. Позднее «Лену» переименовали в «Капитана Язенкова» и моё детство как будто от меня отрезали. Названия вообще опасно менять. Начинается беспорядок в головах.
Впрочем, что названия… «Лена» уже много лет стоит заваренная в затоне. Нет теперь нужды в этом по-прежнему крепком и могучем судне. "Ангару" разрезали, потому что она своё отслужила, старушка умерла, можно сказать, естественной смертью. А «Лену» бросили, потому что жизнь пошла другая. Ниточкам памяти свойственно истлевать и лопаться. Хуже, когда по этим ниточкам ножом.
Помню дословно первые слова стародавней публикации в «Речнике Сухоны»: «Всего несколько шагов по трапу и мы на флагмане Сухонского пароходств теплоходе «Лена». Публикация была посвящена моему отцу, с фотографией: китель с нашивками, фуражка-мичманка… Механик флагмана.
Отца больше нет со мной.«Лена» тихо умирает в затоне, словно на больничной койке. Но для меня живы и отец и «Лена». Иногда мне даже кажется, что всё ещё плыву по Сухоне на «Лене». Всё ещё 1970 год. А здесь, в самом конце 20 века, в годы смерти, суетится совершенно другой человек, К тому мальчику не вернёшься, но нам уже довольно жить с ним врозь. Я хочу найти его и пригласить к себе, на грань столетий.
Его похоронили в море
Самое сильное впечатление моих детских речных будней немного грустное, хотя и светлое по-своему. Вечером мы сидим с отцом в кают-компании, проще говоря, это столовая, самое большое помещение на судне, хотя не больше маленькой комнаты моей городской квартиры. Отец играет на гармошке и поёт « Раскинулось море широко». А на меня эта песня всегда производила сильное, пронзительное впечатление.
Я не очень вообще-то понимал, что там происходило, на непонятном морском корабле. Заболел человек, а ему говорят: «Механик тобой не доволен». Почему такая несправедливость? Мой папа тоже механик, но он так не поступает. Потом в песне шли зловещие и таинственные слова: «К ногам привязали ему колосник, простынкою труп обернули». На мои расспросы отец лаконично ответил: «Его похоронили в море». Эти отцовские слова странным образом много раз вспоминались в течение долгих лет. Запомнится же…
И вот мы хороним отца. Апрель, кругом всё залито, когда копали могилу, постоянно приходилось отчерпывать воду, но она тут же снова набиралась. Я подумал: «У него вся жизнь была с водой связана, в воду и провожаем…»
Это спустя десятилетия, а тогда в кают-компании… Отец заканчивает песню так, что кажется, гармошка разорвётся от тоски: « А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает». Я не выдерживаю, у меня слёзы в три ручья. Опускаю голову, чтобы папа не заметил, но понимаю, что это не поможет, и тогда я лезу под стол, – только чтобы папа не увидел слёз. Он бережно и тревожно спрашивает: «Серёжа, что с тобой?» Я молчу. Отец не сразу понимает, что это из-за песни, всего лишь из-за песни, он тоже молчит, но я чувствую, что он уже всё понял. Я медленно влезаю из-под стола (стол прикручен к полу металлическими уголками на шурупах, это я успел хорошенько рассмотреть). Слёзы добросовестно размазаны по щекам и уже подсыхают. У меня просветление. Ну, песня и песня. А мы плывем на самоходке по мирной реке. Мой папа механик и никого не обижает. Все живы. Смерти нет.
От винта за кормой
А волны бегут от винта за кормой… Тут всё-таки была для меня не просто песня. Я мог часами стоять на корме, уставившись в белые клокочущие буруны из-под винта. Они завораживали, гипнотизировали, целиком поглощая неустойчивое детское внимание. Это было истинное чудо. Кристально-белая пена в какие-то секунды рождалась из тихой мутной поверхности реки.
Чудо-буруны были удивительно близки и вместе с тем совершенно недосягаемы. Если руку протянуть, до них оставалось не больше метра, но… этот метр отделял жизнь от смерти. Я хорошо это знал. Там, под белой пеной – огромные острые винты в цилиндрических насадках, они вращаются со страшной силой, они неумолимы. Если я упаду в белые буруны, винтами меня изрубит на куски. Ребёнка, бытие которого на грузовом судне столь проблематично, взрослые, конечно же, постоянно предупреждали о таких вещах. Мальчик становился серьёзным и даже суровым. Кругом безжалостная вода и неумолимый металл. Один шаг в сторону – и неминуемая гибель.
И всё-таки страшных винтов не видно, о них можно забыть, а белая пена так манит к себе, так влечёт. Однажды я стырил в форпике огромный гвоздь, кажется двухсотку, и бросил в пену, как будто от этого должно было что-то произойти. Ничего не произошло, я был немного разочарован. Мне, видно, очень хотелось вступить с этой пеной в диалог, послать весточку, а никакого другого способа не просматривалось.
Теперь я понял, в чём была гипнотическая сила бурунов. Они часами оставались всё такими же и всё-таки каждую секунду обновлялись, становились другими. Эта движущаяся неподвижность – некий символ вечности. Как же тут было не трепетать чувствительной душе ребёнка.