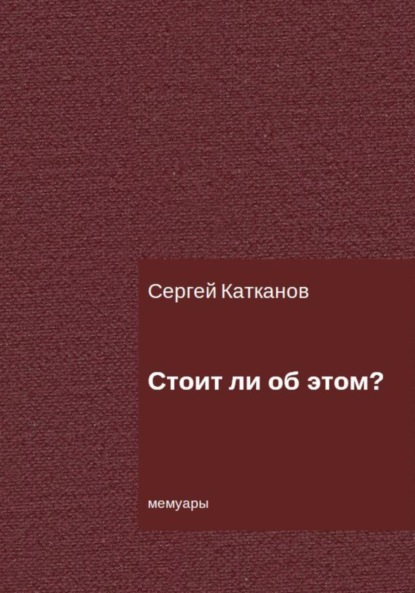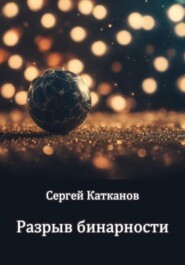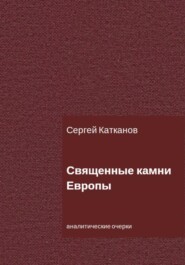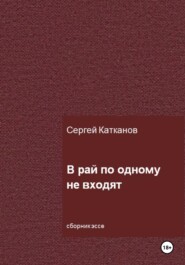По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стоит ли об этом?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я суетился в открытом трюме, нашёл там метровую палку и зачем-то выбросил за борт. Отец это увидел и только что не закричал: «Ты что, с ума сошёл? Слава Богу, хоть не видел никто. Мы здесь даже горелые спички за борт не бросаем, а ты целую дубину за борт проводил». Отец не был зол на меня, его просто поразила простота моего обращения с каналом имени Москвы.
А я окончательно извёл отца, до бесконечности спрашивая его, когда же мы прибудем в столицу. Наконец он сказал мне: «Иди, ложись спать, когда проснёшься, будем уже стоять у пирса в Москве». Я поскорее забрался на свой диванчик. Очень хотелось сразу же уснуть, и, разумеется, это никак не получалось…
Открыл глаза – уже светло. Машины подо мной не урчат. Значит стоим. Значит в Москве. Я подскочил к иллюминатору, как зигзаг молнии, смазанный салом. И… на моём лице отразилась вся мировая скорбь. В иллюминаторе виднелись захудалые обшарпанные двухэтажные домишки. Я мучительно пытался понять, почему мы не в Москве, а то, что это не Москва сомнений не было никаких. Поплёлся искать отца, намереваясь потребовать объяснений. Отец, узнав причину моей печали, рассмеялся: «Это и есть Москва, просто мы стоим в порту на самой окраине. Не переживай, скоро в центр поедем». Москва нисколько не разочаровала, она даже оказалась ещё чудеснее, чем я мог предположить.
Кириллов
Когда мне пошёл третий десяток, несколько лет подряд очень часто снился сказочный город (сейчас эти сны давно уже не повторяются). Нет, это была не Москва, город был совсем не похож на шумную столицу. Общее впечатление от моего сонного миража можно было передать словами: «Водоём и нечто старинное». Во сне всегда больше впечатлений, чем деталей. Проснувшись, я старательно пытался понять, на что, из виденного мною в реальности похож этот таинственный, загадочный город, куда летела моя душа, где она замирала от радостных предчувствий встречи с чем-то запредельным. Там, кажется, был какой-то замок… Нет, не замок, хотя нечто очень похожее. Что же?.. Однажды меня осенило. Мой таинственный мираж был перевоссоздан, вылеплен и смоделирован из Кириллова монастыря.
В Кириллове «Лена» стояла довольно часто. Я очень полюбил и его деревенские берега с бревенчатым пирсом, и само Сиверское озеро и таинственный монастырь, подобного которому, я нигде и ничего не видел. Одной из моих детских драгоценностей стал простенький набор открыток с видами монастыря.
Я зачем-то переписывал в отдельную тетрадку названия монастырских церквей и даже просил папу перерисовать туда же план монастыря из книги про Кириллов, которую подарили на день рождения матросу Валере.
С полным пониманием значимости происходящего, я старательно выводил в своей тетрадке: «Церковь Иоанна Лествичника». Я, конечно, ничего не мог знать про преподобного Иоанна, и даже не догадывался, что прозвище этого святого происходит от простого слова «лестница». Но я слышал тихую, неотмирную музыку слова «лествичник», улавливал тихий шелест листвы и ветвей, внимал манящей монастырской тишине.
Ничего не зная ни об истории Кириллова монастыря, ни о монашестве вообще, я бродил по обители, словно между таинственных теней иного мира.Какие-то непонятные монахи жили здесь. Они построили эти необычные здания и храмы. Я не думал о монахах ни хорошо, ни плохо, так же как и о церквях, и о том, зачем они были построены. В стенах обители мне было хорошо и интересно, а причина этого не столь уж далека от поверхности детского сознания: «Здесь не как везде». Может быть, этим неглубоким детским штампом довольно точно выражался истинный, глубинный смысл монастырского бытия. Не как везде.
Ребёнок ещё и близко не догадывается, какие мрачные бездны скрыты порою под этим «везде». Ребёнку просто хорошо там, где это везде отходит на второй план. Это обязательно надо, чтобы было «не как везде». Потому я так, наверное, и «Лену» любил, нашу плавучую обитель, которая подолгу некасалась земли, потому мне снился тот «неведомый град» выросший в душе из Кирилловской обители. А почему больше не снится?
Прощание славянки
Август заканчивался. Мне пора было «первый раз в первый класс», а «Лена» всё ещё стояла у пирса в Кириллове. Нам с мамой пришлось ехать в Вологду на автобусе.
Когда мы сошли на берег, на «Лене» в рубке через усилители включили «Прощание славянки». Я очень любил этот торжественный и немного грустный марш. Все на судне об этом знали. И теперь, покидая судно, я не сомневался, что «Прощание славянки» включили именно ради меня Большоесудно прощался с маленьким мальчиком, словно на берег сошёл капитан. Я почувствовал тогда, что на судне был заметен, нужен. Детское сердце защемило.
Через некоторое время после того, как умер отец, когда я уже написал первые странички эти заметок, мама передала мне некоторые отцовские письма, которые он писал ей с судна, когда она уже не плавала с ним, и я тоже был на берегу.
Отец писал: «В основном у меня всё в порядке, в машине работа всегда найдётся, так что постоянно при деле. Зайду в каюту – как-то пусто в ней без Серёжи, и опять в машину лезу. Вчера весь вечер стиркой занимался. Когда Серёжа на судне был, не так скучно было, а сейчас начинаю считать дни до конца навигации…»
Это была наша с ним последняя навигация. Мы сошли на берег.
1999 год
Когда в поле дует осенний ветер
С 14 лет до 21 года был самый ужасный период в моей жизни. Что со мной случилось? Я был нормальным ребёнком: гонял на велике, стрелял из рогатки, постоянно что-то вырезал из дерева. И до сих пор я различаю на руках много шрамов, оставшихся от той поры. Одноклассники меня уважали и никаких проблем в общении с ровесниками у меня не было. Помню, мы очень любили бороться, и для меня ничего не стоило одолеть трёх противников разом, я мог спокойно сложить их в кучу и сесть сверху. Пятерых за раз одолеть уже не мог, но и они не могли со мной справиться. Я был мальчиком довольно дерзким и рисковым, то есть у меня всё было нормально.
Но вот, едва мне перевалило за 14 лет, как жизнь стала мне в тягость. У меня начало развиваться какое-то совершенно ужасное мировосприятие. Всё виделось мне исключительно в чёрных тонах. Это не было особенностью переломного возраста, потому что, оставив его за спиной и поступив в институт, я смотрел на жизнь всё так же мрачно. Почему? Может быть, я читал больше других, но мало ли будущих учёных-филологов читали ещё больше меня, да ничего же с ними от этого не случалось. А у меня первые же попытки осмысления бытия привели к результатам по-настоящему трагическим. И это отнюдь не было следствием юношеской склонности «маленько пострадать». Всё было очень по-взрослому.
Именно в эти годы, с 1978-го по 1984-й, я вёл дневник. Отец по моей просьбе приносил с завода разные неиспользованные «журналы судовых испытаний», и я добросовестно заполнял своими каракулями один за другим. В этом была какая-то странная связь с моим детством, проведённым на палубе, но она только подчёркивала разрыв с тем мальчиком, каким я был. За детством и отрочеством у меня почему-то не наступила юность.
И вот пришло время разобраться с той горой дневников. Сейчас, когда мне 51 год, я уже готов к тому, чтобы дать оценку их содержанию. И хотя мне по-прежнему больно перелистывать их пожелтевшие страницы, но я уже к этому готов, потому что теперь у меня есть ключ к их прочтению.
Конечно, на 90 процентов эти журналы заполнены тем, что даже мне самому сейчас уже не интересно. Тогда я просто беседовал со своим дневником, рассказывая ему о том, что сейчас уже не имеет ни малейшего значения. Но там оказалось много фрагментов, которые, складываясь в общую картину, отражают первый этап моей духовной биографии. Тут и процесс самопознания, имеющей свои личностные особенности, и мучительный поиск истины, попытки осмыслить земное бытие и своё место в нём, и отражение эпохи перезрелого социализма, позднее получившей название эпохи застоя. Здесь нет никаких политических оценок, но это, кроме прочего, и о том, как эта эпоха отзывалась в живой человеческой душе. Собственно говоря, это о том, как страдает душа, жаждущая Бога, но не находящая Его.
Да, теперь мне кажется, что всё это имеет некоторое значение. И я уже готов провести для нескольких человек небольшую экскурсию в ад.
14 лет
17.03.78.
Кажется, я начал много нового понимать в причинах моей хандры. Дело в том, что на многое я не способен, я это уже давно понял, а на малое размениваться я не согласен, поэтому вообще что-либо делать опротивело. Именно поэтому я изорвал вчера мои стихи. Они были мне милы, но я знал их невысокую цену. А то, что, во-первых – плохо, а во-вторых, написано мной, не имеет права на существование. Хрен с ними, со стихами, но ведь я могу вообще перестать что-либо делать. Я видел в своих мечтах мир куда более совершенный, чем наш, поэтому довольствоваться малым на земле мне противно, большего же иметь не могу. Но ведь надо же как-то жить и я раздуваю мелкие неприятности в целые муки.
Сознаю, что всеми этими рассуждениями я воспитываю лень натуры, что скоро от моей природной решительности не останется и следа. Но ведь что ни делай, а верхов мне не достичь, а середина, на мой взгляд, не многим лучше ничтожества. К тому же, читая книги, я привык быть с великими «на ты», привык ставить себя на их место, а в жизни получается такая глупость…
Ещё во мне есть ощущение бесполезности. Сначала я хотел как можно больше сделать в жизни, но понял, что ничего толкового не сделаю. Потом хотел как можно больше понять, но ведь всё это уйдёт вместе со мной в могилу. Что же осталось? Ничего.
Может быть, я пишу это только для того, чтобы прикрыть собственную лень? Но безвольных людей, таких, как я – большинство, и их это нисколько не смущает. А во мне есть то, чего нет в них.
06.05.78.
Сашка сказал мне, что раньше уважал меня за оригинальность, а теперь – за целеустремлённость. Эта черта никогда не числилась в списке моих достоинств, но я примерно понимаю, что он имел ввиду. Он принял за целеустремлённость то, что у меня есть определённые жизненные принципы, и то, что я всегда имею на вещи свой личный взгляд. Но меня отличает как раз отсутствие цели, я вообще не знаю, зачем живу. Все мои действия ни на что не направлены. Я чувствую в себе могучие силы любить, я могу любить очень сильно, но растрачиваю весь жар души по бумажным пустякам. Мне кажется, в жизни всё, что я буду любить, будет отворачиваться от меня.
14.06.78.
Почему я так недоверчиво отношусь к марксизму? Я недолюбливаю марксизм за его чрезмерную правильность, плановость и, как это ни странно – осуществимость. Мне не нравится будничность, житейская пыль, и я хочу противопоставить марксизму то, что не покрыто ржавчиной бытия, то, что прекрасно, обворожительно и неосуществимо. Зачем заниматься тем, что неосуществимо? Этот вопрос равносилен вопросу: зачем люди не рождаются мудрыми стариками? Мне предстоит тысячу раз пересматривать свои взгляды и проклинать существующий порядок вещей, до тех пор, пока я не повзрослею.
15 лет
25.02.79
«Я не верю ни во что!». Как мило и привлекательно звучат эти слова в устах классических скептиков. Надо же! Ни во что не верить, на всё смотреть в презрением, вот здорово, наверное. Где мне было понять своим куриным умом, что это неверие было для столь любимых мною разочарованных героев страшным проклятием. Приятна ли жизнь, когда отрицаешь её абсолютный смысл, отрицаешь смысл всего сущего? И когда в поисках веры скользишь по жизни ироническим взглядом, и не находишь ничего, во что можешь поверить. Хотел бы, а не можешь.
Я помню, как тогда, в церкви, хоровая молитва старушек произвела на меня впечатление массового психоза. Построили дом, повесили иконы, собрались, накурили ладана и просят для себя и своих ближних благополучия. У кого? У того, чьё существование отрицается самим ходом жизни. Меня просто потрясла бессмысленность их действий. Но такая ли уж бессмысленность? Они имеют веру, пусть слепую и бездоказательную. Для них церковь – место, где разговаривают с высшей силой мироздания. Для них это возможно, для меня – никогда.
Сумятица бесконечных мыслей, ощущение неправильности выводов, бессилие сделать правильные. Иногда – боязнь этих выводов. Презрение ко всему сущему, осознание величия недоступного. Видит бог, как это приятно. Я всеми силами хочу верить бездоказательно, но не могу. Я не могу найти доказательств того, во что стоило бы верить.
28.03.79
Наивная невинность, подкупающая доверчивость… Но почему подкупающая? Почему люди, умудрённые жизненным опытом, через многое прошедшие, считают своим идеалом существо, которое стоит на самой низшей ступени этого восхождения? Те, у кого восприятие жизни дошло до самого трагического предела и сочетается с незаурядным умом, воспринимают невинность уже несколько болезненно, в таком восприятии есть что-то нездоровое. Взгляд такого человека – всёискажающий, не может не искажать собственный идеал. Но почему идеал именно такой? Любой человек ищет идеал вне собственного «эго». Или вообще вне объективного мира. И этому вовсе не препятствует выбор «жертвы» среди людей. Поэтому у человека, начинающего жить, идеал в человеке с опытом, а у опытного человека идеал в том, кто ещё и жить не начал.
16 лет
03.01.80.
Есенин писал: «Успокойся, смертный, и не требуй правды той, что не нужна тебе». Да живи ты себе, как живётся, по возможности – честно, и не залетай слишком высоко. И чем больше своих извилин ты узлом завязал, тем легче тебе будет. В этом смысле дураки – счастливые люди. Их не трогают всякие там вселенские дисгармонии. А самые счастливые – дураки, довольные собой. Как у Уэллса в «Стране слепых». Они были твёрдо уверены, что нет ничего, кроме их темноты, и ничего не могло поколебать их спокойствия. Так же и дураки.
Но есть и умные счастливцы. Этоте, кто смог зацепиться за идею. Они из чего-то для себя правду слепили и живут этой собственной правдой, часто считая её объективной. Одни твёрдо верят в коммунизм и отдаются его строительству. Я не верю в коммунизм, но я не стану смеяться над ними, потому что они ухватились за идею, и эта идея придаёт вес их жизни. Другие верят в деньги. В них правда. Они дают счастье. Мир до дна продажен. Тоже идея, тоже жизнь объясняет. Третьи верят в бога. Это, пожалуй, самое удачное, потому что объясняет решительно всё без исключения.
Вера, побуждающая к действию, наполняет жизнь смыслом. Впрочем, не всё так просто. Человек может перепробовать много идей за свою жизнь, много раз может разочароваться. Но если человек ищет, он чаще всего может найти себе идею, за которую можно держаться. Время, когда он не знает во что верить – это время отчаяния, время потери смысла.
Объективной правды не существует. Да она и не нужна. Правда у каждого своя (у кого есть). А вообще весь секрет состоит в том, чтобы жить честно. Это часто наполняет человека ощущением того, что он живёт не бесцельно. А истина… Да на кой она хрен.
Но если ты начинаешь приближаться к правде, если ты начинаешь всё видеть таким, какое оно есть, ты либо свихнёшься, либо поверишь в бога. Один человек выносит больше правды, другой – меньше. Но есть доза, которую не вынести никому.
14.06.80.
Вместе со мной умрёт ещё один человек – Марина. Но никто, даже она сама, этого не заметит.