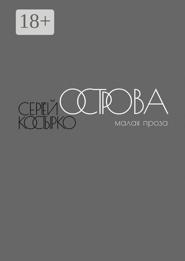По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Постоянство ветра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Откуда мне знать. Я думаю, вернее – чувствую, что напрягать себя этим вопросом глупо. Бессмысленно. Здесь попытка понять «куда» – это попытка поднять себя за волосы.
Попробуй успокоить себя. Успокоить хотя бы тем, что не бывает так, чтобы что-то было, а потом вдруг его не стало. Совсем не стало. То есть не стало так, как будто и не было совсем. Но ведь было же. И есть. А раз было, раз есть, то, значит…
Ничего бесследно не исчезает, это мы тоже знаем.
3.
У Чехова, которого читаю всю жизнь, постоянный мотив в письмах – ответственность за дар, данный тебе. За который ты отвечаешь перед родителями, перед обществом, перед миром. То есть твоя главная обязанность в этой жизни – воплотиться. Сохранить, отграничить свою самость. И пафос подобных заклинаний как раз в этом – в уверенности, что возможна граница между тобой и всем прочим. И что мы в состоянии устанавливать и держать эту границу.
А ты посмотри на заборы. Вот они, перед тобой, – полощутся за окном «скорой», как сохнущее на ветру белье. Ну и где эта незыблемость границ?
На самом-то деле «мира» и «тебя в мире» как чего-то отдельного нет.
Ты и есть мир.
И не тряситесь так, не упорствуйте, не стройте заборов. Не скорбите, что обвисают они полосой драного, пропыленного, выгоревшего брезента. Что штакетины становятся «мягкими».
В последние годы даже у нас в Чурикове, на окраине Малоярославца, деревянных заборов практически не ставят. В основном железные. Каменные. Навеки, типа. Дурачки. Потому что самый честный, самый правильный материал для забора – дерево.
«Новый Мир» 2012, 7
Пляж
Картинка – маслом по жести: густо-синее море, золотая полоска песка, фигурки мужчины и женщины в купальных костюмах, зелень на невысоких горах и надпись на иврите. Бывшая вывеска магазина пляжных принадлежностей. Краска потрескалась, местами облупилась, песок и голубое небо потемнели, металл под ними прогнулся, повторяя рельеф стены трехэтажного дома, построенного когда-то четырьмя нанятыми арабами. Кирпичи для дома арабы лепили вручную. Буро-коричневой оползающей руиной торчит он в ряду фешенебельных отелей и офисов улицы Йоркон, и от дома этого глаз не оторвать. И – от картинки на его стене. С сюжетом, тысячу раз виденным на рекламных щитах, но тревожащим, как в первый раз. Тревожащим чем? Беспомощностью художника, оказавшегося перед тем странным, перед тем непостижимым, что есть Пляж.
…Вы только что шли по набережной, упакованный в брюки и полосатую рубаху, черные очки, бейсболку, упакованный в стены домов над вами в привычную городскую озабоченность – «не забыть позвонить», «распечатать», «купить», «закончить», «доделать». Но вот вы сворачиваете с набережной, вы делаете пять (всего пять!) шагов по ступенькам вниз, на песок пляжа, и руки ваши вдруг сами начинают стягивать рубаху – жест еще минуту назад немыслимый. Автоматизмом своим напоминающий жест, которым снимают шапку – при входе в церковь – или надевают – при входе в синагогу, которым сбрасывают сандалии у порога мечети. Жест этот, продолжившийся чередой таких же привычных полуритуальных актов (выбор лежака, переодевание, установка зонта и проч.), завершается краткой заминкой перед вхождением в воду, когда вы замираете на несколько секунд, всего себя подставив солнцу, а перед вами – ничего, кроме воды и неба.
Вы стоите практически голый (полоска плавок на бедрах – это уже не одежда, это жест), и у вас нет ощущения раздетости. Напротив. Всей кожей ощущаете вы покрывшую вас горячую солнечную пыль, вы ощущаете небо, сомкнувшееся вокруг вашего тела. Потому как никто не знает, где оно, небо. Там, где облака и самолет? Или небо – это то, что лежит сейчас на крышах домов, или… Границу земли и неба отбивает линия горизонта, чтобы посмотреть на которую вы, стоящий сейчас у кромки воды, не поднимаете, а чуть-чуть опускаете взгляд. Что на самом деле означает – вы стоите в небе.
И кем вы становитесь через несколько секунд? Когда, сделав короткий разбег, отталкиваетесь от дна и плавно уходите под воду, вытянув вперед руки, – в сине-зеленый сумрак упругой и податливой воды, прохладой своей мгновенно пробуждающей ваше тело и сознание? Вы чувствуете, что просыпаетесь в воде. Кем?
Под вами проносится стайка крохотных рыбок. Они сейчас – море.
И вы – море.
И тут как бы нет ничего сакрального. Тут почти все сугубо телесное, то самое, с плакатиков из моего детства: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
Или все-таки нет? Или – сакральное?
Что делает с нами Пляж?
Пляж создает для нас свой образ моря. Образ, избавляющий нас от страха перед ним. Естественного, жизненно необходимого человеку страха, потому как море – это стихия, человека не учитывающая. Море может вдруг потемнеть, вздыбиться, встать над пляжем гигантской волной с седыми космами пены и с пушечным грохотом накрыть берег, превращая пляжные кофейни и раздевалки в ломкие спичечные коробки. И мы, наблюдающие внезапную осатанелость моря с безопасного расстояния, глаз не можем оторвать от тускло поблескивающего, текущего под гребнем волны изгиба ее, волны – чрева. Чрева ненасытного. Прообраза гигантской воронки, реализующей понятия рока и обреченности.
Но и море спокойное может быть недружелюбным, мелкопакостным и агрессивным, как стая дворовой шпаны, когда вы торопливо пробираетесь вдоль горы по каменистой тропке, прикрываясь от долетающих до вас снизу брызг, и вдруг оказываетесь полностью в воде, когда вас накрывает внезапно выхлестнувшая на тропинку волна, и, ослепленный, ошеломленный внезапностью этого подлого жеста, вы непроизвольно хватаетесь за куст, торчащий из расщелины. Сравните себя – стоящего на той тропинке, мокрого, тускло озабоченного мыслью, сколько еще осталось идти по этой проклятой тропинке до поселка, – сравните с собой пляжным, раскинувшим тело на упругом пластиковом брезенте лежака; чувствующим, как стягивает кожу соль высыхающей после плавания морской воды; с собой, щелкающим зажигалкой и опускающим руку за пластиковой бутылкой с минералкой.
Пляж – это усмиренное пространство.
Минималистский пейзаж, которым вы безотчетно любуетесь, не так уж безмятежен. Беспредельная гладь воды под бездонным небом и на стыке их – линия горизонта, экзотика для горожанина – это на самом деле еще и знак Бесконечности. В котором ничего умозрительного – море и небо абсолютно подлинные. И явленное этим знаком Пространство не может не курочить, не плющить сознание ощущением вашей телесной ничтожности – песчинки, пылинки, атома – перед масштабами мироздания. Но холодок от этого ощущения укрощается звуком хлопающего пологом солнечного зонта над вами; двумя перышками парусов чуть ниже линии горизонта, от которых вы не можете оторвать взгляда; запахом кофе из чашки, принесенной официантом из пляжного кафе. Укрощается видом двух крохотных девочек с ведерком и совочками, роющих мокрый песок, – беспечность их рядом с морем напоминает беспечность двух бабочек, порхающих над цветком, растущим из камня над черной бездонной пропастью, и прочнее этой беспечности нет ничего.
Пляж – это образ блаженного равновесия в природе. Точнее – форма эстетического проживания ее. И проживания – что принципиально важно – коллективного, делающего его актом почти мистериальным. Хотя, казалось бы, погруженность участников пляжного действа в игры с мобильниками, плеерами, ракетками и воланами – мелко-суетные, сугубо человеческие, нелепые с точки зрения природы – должна отделять их от природной жизни. Нет, не отделяют. Парадоксальным образом именно этот ритуал становится для нас чем-то вроде рамы (рампы), многократно усиливающей пронзительность явленной Пляжем картины мира. Проясняющей для нас ее внутренние смыслы. Более действенного перформанса представить невозможно.
Для нашего глаза, воспитанного городской культурой, нет ничего более заезженного, чем мотив воды и берега. Но на пляже все это – каждый раз заново. Может, потому, что почти все компоненты картины – нерукотворные. Здесь соавторство двух художников: нас, «подмастерьев», соорудивших раму для картины, и Мастера, Художника – Творца, создавшего небо, море, песок, горы, ветер, морскую пену.
Кто вы на пляже? На пляже вы – тело. Пляж возвращает вас в себя как часть природы. Но возвращение это отрефлексированное, осознанное. С помощью всей этой пляжной мишуры – ярких красок купальников, полотенец, фотоаппаратов и серфингов. Вы обустраиваете пляж так, чтобы ощутить негу бытия. И в этом ваша сила. Вам дана жизнь – и вы обязаны жить, не скуля от ужаса перед нею. «Не впадать в грех уныния» – вот, если хотите, религиозная формула, предложенная вам пляжем.
Повторяю, малость и ничтожность атрибутов пляжной мистерии смущать не должна. Вот эта крохотная тинейджерская игрушка – плеер в ваших ушах, из которого втекают в вас, зарывшегося в горячий песок в двух метрах от вяло накатывающей и откатывающей волны, меланхолические композиции на мотивы Гленна, в которых звуки музыкальных инструментов переплетены с шорохом набегающей волны и криками чаек. Слушайте эту музыку, слушайте, не выключайте ее и не закрывайте глаз. Иначе вы останетесь один на один со звуком воды рядом с вами, с влажным шорохом наката ее и отката, наката и отката, наката и отката, и чем ласковей, чем вкрадчивей будут эти звуки, тем вернее они подчинят вас себе, спровоцировав непроизвольный подсчет: одна волна, вторая, третья, тридцать вторая, сорок седьмая – подсчет, который вы уже не в состоянии прекратить, даже ощутив холодок жути, входящей в вас, уже сознающего, чем вы, по сути, занялись – подсчетом того, что человеку считать не положено. Хотя бы потому, что волна, которая для вас по счету сорок седьмая, на самом деле не сто, и не тысяча, и даже не миллион сто сорок седьмая – череда этих звуков началась задолго до вас, задолго до способности человека считать, и продолжится она и после того, как истлеет, превратится в землю остов вашего тела. Вы сейчас трогаете то, что человеку не надо трогать, – Время. И ощущение Времени холодным ознобчиком войдет в вас. И Временем станет вокруг все, что окружает вас, – тот же песок, на котором вы лежите и который когда-то – неимоверно давно – был камнем, размолотым тысячелетиями в песок, а еще раньше, до камня, был, возможно, деревом или водорослями, живыми, колышущимися, со своим кровотоком, своими сроками жизни. И чтобы спастись от накатывающего детского кошмара, в котором еле слышный шорох наволочки под ухом грохотом отдается в непомерно разбухающем и разбухающем пространстве Времени и безбрежное эхо этого грохота катит по безграничной в этот момент Вселенной, которая – Вечность, нужно резко открыть глаза и сесть, переждать радужный солнечный туман в глазах, чтобы из него соткалось протяжное тело девушки, стоящей под соседним зонтом и втирающей в тело крем от загара, и тронуть взглядом – только очень осторожно, чтоб не оцарапать, – ее текущую под солнцем кожу, впадину пупка, стремительное скольжение линии бедра, ноги. Чтобы почувствовать ток горячей крови под ее кожей. И этот ток крови под этой вот кожей – это тоже ощущение Вечности, но уже наделяющее вас силой, способностью жить и радоваться жизни.
Пляжная эротика? Можно сказать и так. Но только если не путать слово «эротика» с его антонимом – «порнография». На пляже вы обнажаетесь не для взглядов представителя другого пола, вы обнажаетесь под взглядами солнца и неба, вы обнажаетесь для погружения в море. Содержание слова «эротика» определяется здесь дискурсом, в котором она, эротика, взаимодействует с понятиями Время и Пространство.
Как все-таки убог рядом с этим нудизм, отправляющий нас в просмотровый кабинет поликлиники. Стократ эротичнее натяжение лайкры двух полосок ткани на груди и бедрах, не скрывающих, а рисующих скрытую плоть, точнее, прорисовывающих обнажающую ее – плоти – сокровенную витальность.
…Парадокс: какое еще зрелище может быть более тревожным и угнетающим, нежели вид толпы обнаженных, беспомощных и беззащитных перед лицом стихий людей на берегу моря. Но именно эту картину наше время сделало для нас праздником. Нашим избавлением от неостановимого, казалось бы, скольжения человека все дальше и дальше от своего природного естества к искусственным формам жизни.
Именно урбанистическая культура породила феномен пляжа как наше возвращение к собственной природе. Словами «пляж», «морской курорт» человечество пользуется каких-нибудь триста лет. Одно из самых первых, известных нам курортных посланий датируется 1732 годом. Некий англичанин Уильям Кларк пишет своим друзьям: «Сейчас мы жаримся на солнце на брайтельстонском берегу <…> Утренние мои занятия – купание в море, затем покупка рыбы, вечером езжу верхом, дышу воздухом, осматриваю остатки военных лагерей древних саксов, считаю экипажи на дороге и рыболовные суда на море».
Сегодня нам уже нечем
измерить значимость вот этого жеста – перенесения действа сугубо приватного, интимного, всегда закрытого стенами ванной комнаты, бани или дворцового бассейна, – наружу – под открытое небо, на берег реального, живого моря, в «дикую природу». Действа, бесконечно далекого от сакрального – под водительством Иоанна Крестителя – омовения в водах Иордана или от языческих беснований плоти на игрищах в ночь на Ивана Купалу. Перед нами жест, совершаемый просвещенным джентльменом, жест, уже содержащий отрефлексированную «курортную скуку» («жаримся на солнце», «купаемся в море», «считаем проезжающие экипажи и проплывающие суда»), она же – счастливое изнеможение от полноты жизни, как таковое осознаваемое нами всегда задним числом.
Место, откуда послано было это письмо, называется Брайтельстон. Через двадцать-тридцать лет название это станет первым синонимом словосочетания «морской курорт». То есть и Алушта, и Ялта, и Гагры, и Копакабана, и Сус, и Тель-Авив, на пляже которого, зарыв книжку в песок, я сочиняю эту «запись», назывались раньше Брайтельстон.
«Новый Мир» 2012, 7
Кабаков в Старом порту Тель-Авива
Так сошлось: вечером в мастерской Михаила Гробмана на третьем этаже старинного по тель-авивским меркам дома, куда меня устроили пожить на время отпуска, я читал книгу Ильи Кабакова про концептуализм.
Ну, а утром следующего дня, гуляя вдоль моря, я оказался на территории Старого порта в Тель-Авиве. Неожиданным сюжетом которого, собственно, и завершилось мое чтение кабаковской книги.
1.
Творчество Кабакова я знаю меньше, чем его славу. И потому, когда у нас с Гробманом зашел разговор о втором русском авангарде и хозяин несколько раз сослался на Кабакова, я спросил, нет ли в его библиотеке каких книг Кабакова или альбомов. Были, разумеется. И много. Я унес их из гробмановской квартиры на первом этаже «к себе» на третий, в мастерскую.
Тексты оказались хороши. Очень хороши. Кабаков пишет не хуже, чем рисует. (Слово «рисует», которое выскочило здесь по инерции – а чем еще занимается художник? – я стирать не стал, хотя… Что на самом деле делает Кабаков? Рисует? Строит? Составляет (режиссирует) монументальные натюрморты-мистерии из старой, советских времен мебели, посуды, радиоприемников, швабр, репродукций картин, драных обоев и т.д.?). К текстам прилагались фотографии инсталляций Кабакова. Именно «прилагались» и именно «к текстам». То есть главным творением Кабакова для меня в процессе чтения его книг и рассматривания альбомов оставалась все-таки сама его концепция. Ситуация в данном случае, похоже, естественная. А может быть, даже и просчитанная самим художником.
И я, читая кабаковское размышление о месте художника в современной жизни, естественно, спорил с автором. Заочно.
То есть не я, разумеется, спорил. Слишком разные у нас весовые категории для такого спора. Кабаков – художник, философ, ну а я пассивный рядовой потребитель, способный только повторить то, что, на мой взгляд, уже сформулировало само время. Это первое.
И второе – читая Кабакова, я как бы продолжал предшествующий этому чтению разговор с Гробманом. Меня не отпускали две его фразы. Фразы неожиданно колючие и долгоиграющие. Гробман вообще – собеседник странный. В общении с ним чувствуешь сразу же, что беседа – это его стихия, более того – что у Гробмана явный темперамент проповедника, но при этом он может – и довольно часто – оставлять впечатление человека неразговорчивого, почти замкнутого. Возможно, из-за своей манеры, излагая мысль, опускать логические связки. И делается это не из лени, а, скорее, из внутренней установки, что, ежели собеседник не понимает его, то, значит, у него (собеседника) и нет, на самом деле, нужды понимать это. Способ говорения, который одновременно – способ фильтрации собеседников. Может, потому некоторые фразы Гробмана втыкались, как занозы. Ну, например, как бы простенькое и очевидное, но со странным внутренним скосом выговоренное им: «Удар по современному русскому искусству – это подпольное существование московского авангарда 60-х. Отсутствие открытого, с вовлечением публики, диалога с последующим поколением художников, который (диалог) состоял бы из усвоения молодыми культуры русского авангарда, а потом – опровержения этой культуры уже в их собственном творчестве».
И еще одна фраза Гробмана из другого разговора: «Непризнанных гениев не бывает, – сказал он и, сделав паузу, повторил: – Не бывает непризнанных гениев».
То есть – это я уже для себя раскручиваю гробмановскую да, по сути, и кабаковскую тоже мысль – чтобы стать настоящим художником, таланта и мастерства мало, необходима включенность в актуальный художественный процесс. Ибо процесс этот всегда больше самого художника. Нет, вполне возможно, что потомки через два-три десятилетия могут открыть еще одного неведомого гения и охнуть: «Мать честная! Да он, оказывается, сделал это раньше, сделал очевиднее и талантливее, чем N.N., определявший когда-то для нас развитие процесса!» Ну и что? Процесс-то оформил N.N. И потому Художником того времени для нас останется именно N.N. А неведомому гению место в музее.
Да. Похоже. Я вспоминаю собственные впечатления от триумфального – с персональной выставкой в Эрмитаже – возвращения Кабакова на родину. Горчил этот триумф. Кабакова приняли с энтузиазмом и пиететом. Не более того. Живая жизнь (увы, потенциальная) его работ для России осталась в 70—80-х. А новые, не знавшие Кабакова художники пробежались в 90-х по концептуалистскому дискурсу, заново изобретая уже опробованные Кабаковым велосипеды и быстренько их перерастая, и вот сейчас с уважением и благодарностью знакомятся с работами одного из отцов русского концептуализма и заодно вносят уточнения в предысторию своего нынешнего творчества. Путаную, как выясняется, историю, но – уж какая была. Спасибо и за такую.
Я ведь тоже читаю Кабакова с тем же опозданием, то есть читаю уже своим худо-бедно, но накопленным за двадцать лет опытом посетителя выставок посткабаковского периода.