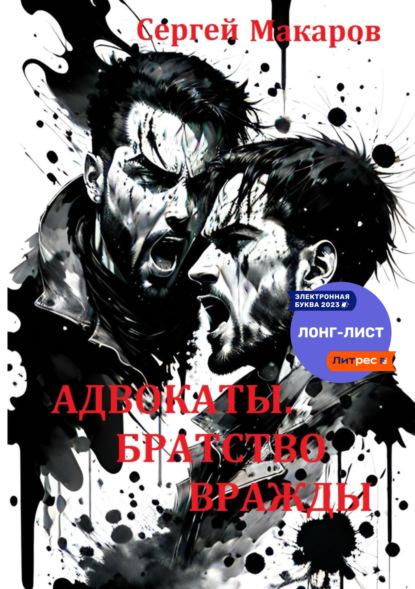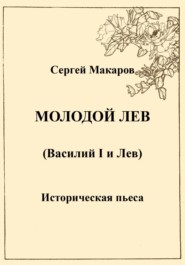По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Адвокаты. Братство вражды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ближе к делу, – поправила ее судья, к тому моменту уже просчитав этот тип свидетельницы и поняв, что придется направлять поток ее повествования в нужное русло. – Что вы можете сказать о Константине Никифоровиче Дубравине?
– Первый раз я его увидела, когда он встречал Кариночку с поезда. И потом я его видела, он так изменился! И вот он говорит Кариночке «Ты моя родная!».
– Я не поняла, – спросила судья, отрываясь от своих записей, которые вела по ходу дачи показаний. – А в чем изменения-то? Он воспринимал ее как ближайшую и единственную родственницу, общался с нею, и все нормально было?
Свидетельница спохватилась, что просили ее рассказать в суде нечто другое, поэтому добавила:
– И иногда так ррраз – и вдруг спрашивает Кариночку «А ты кто такая?». Или вот иду однажды, Мусечку свою выгуливаю, а тут он навстречу – сонный, растерянный, в домашних тапочках и с палитрой, как лунатик идет, хотя на дворе декабрь. Я с ним поздоровалась, а он в ответ: «Убери свою шавку, я сегодня автографов не даю». Не узнал меня, представляете? Меня! Так и запишите в эти свои протоколы для экспертов! И знаете, это ведь накануне составления завещания было. Ну, разве можно такому человеку завещание делать? Тем более не на роднулечку свою, Кариночку, а на какую-то чужую женщину!
– Понятно, – продолжила допрос свидетельницы судья. – А как часто вы лично видели Константина Никифоровича Дубравина?
– Ну… часто… ну… вместе с Кариночкой. Я живу рядом с ней, и мы вообще с ней часто мою Мусечку выгуливаем вместе, она у меня такая активная девочка, утром просыпаюсь, а она рядом с поводком и такая глазками…
Виктор решил перебить свидетельницу и включился в допрос:
– Уважаемый суд, разрешите задать вопрос свидетельнице?
– У стороны истицы нет вопросов вашему свидетелю?
Юристы помотали головами, давая понять, что вопросов у них нет.
– Да, задавайте.
– Спасибо! Скажите, пожалуйста, – обратился Виктор к свидетельнице, – Вы можете описать внешность Константина Никифоровича Дубравина в последние годы его жизни?
– Ну… да… пожилой такой, уже, в общем-то старый, дряхлый, с редкими волосами, ну почти облысевший, сухонький такой, маленький, как Луи де Фюнес, – описывала внешность человека свидетельница.
– Спасибо. Уважаемый суд, – обратился Виктор к судье, – прошу приобщить к материалам дела фотографию Константина Никифоровича Дубравина с друзьями, сделанную в день, когда им удалось добиться установки на доме их умершего друга, художника Вереева, мемориальной доски в память о нем. На доске видна дата установки – это два года назад, через год после составления и удостоверения оспариваемого в этом процессе завещания.
Виктор передал фотографию судье, ну и, чтобы полностью соблюсти процессуальные требования, передал фотографию и тем двум юристам тоже. Фото четко запечатлело, что хотя Константин Никифорович и являлся очень пожилым человеком, но шевелюра у него была просто роскошная: густая, совершенно белая седина, смотревшаяся очень благородно и даже величественно.
К слову, телосложением он отличался достаточно крупным и был скорее похож на Жерара Депардье, чем на Луи де Фюнеса.
Виктор задал свидетельнице еще один вопрос:
– Вы точно уверены, что он был похож именно на Луи де Фюнеса?
– Ой, да подумаешь – французских актеров перепутала, – хорохорилась свидетельница, кокетливо обводя взглядом зал и всех присутствующих в нем людей, мол, такая мелочь, и чего только к ней придираются.
– Вы хоть раз лично видели наследодателя? – строго спросила судья.
– Ни разу, – тихо проговорила свидетельница.
– Обязательно занесите эту фразу в протокол, – сказала судья, обращаясь к секретарю судебного заседания.
– Можно, я пойду уже, а то мне как-то нехорошо стало, – проговорила свидетельница, и так как судья ее не остановила, сошла с трибуны и, подхватив свой поддельный «Louis Vuitton», довольно быстро покинула зал судебного заседания – пока ее не остановили.
Соответственно, следующим был свидетель со стороны ответчицы Николай Викентьевич Микулин – пожилой и очень благообразно выглядящий мужчина, в одеянии которого было что-то неуловимо-художественное, и когда он начал говорить, стало понятно, что именно:
– С Костей мы были знакомы с пятьдесят четвертого года, когда оба стали преподавать в Строгановском училище. Мы подружились, сначала сами, потом семьями – у Кости была первая жена, у них был сын, умерший потом уже взрослым.
– Уважаемый суд, свидетель говорит то, что явно не относится к делу! – вскочил с места один из двух юристов.
Судья молча строго посмотрела в сторону этого юриста (и от ее взгляда он предпочел молча сесть на скамейку) и потом сказала:
– Николай Викентьевич, продолжайте, суд слушает вас.
– Благодарю вас, – проговорил свидетель, и в его ответе было очень много почтительного достоинства. – С Костей мы общались ну не каждый день, конечно, но очень часто – и лично, и по телефону. После выхода на пенсию мы оба продолжили рисовать, Костя несколько раз организовывал свои выставки. И вот мы в разговорах обсуждали творческие планы друг друга, говорили об общих знакомых. Костя общался со многими нашими знакомыми из художественной среды.
– В предыдущие три года как часто вы встречались с Константином Никифоровичем? – спросила судья.
– Да, почитай, почти каждый день и общались. Лично я приезжал в гости к Косте и Даше дня за четыре до его смерти, а по телефону разговаривал с ним накануне его смерти – как потом оказалось. Я еще запомнил: надо же, вчера так хорошо поговорили с Костей, а сегодня звонит в слезах Дашенька и говорит, что Костя умер.
Свидетель, погрустнев, помолчал, и потом добавил:
– Понимаете, он всегда побойчее меня был, и надо же такому случиться – умер раньше меня. Сердце. Он так воодушевленно говорил о творчестве, о новых планах, и знаете – большинство своих планов он осуществлял – писал картины. Он был очень творческим, он не мог без рисования. То есть он всю жизнь, вплоть до последнего дня, был очень последователен. Мне иногда казалось, что он моложе меня, хотя мы ровесники. Ясный ум он сохранял до последних дней: он шутил и на нашей последней личной встрече, и во время нашего последнего телефонного разговора.
– Спасибо, Николай Викентьевич. У сторон есть вопросы? – спросила судья.
Вопросов не было.
– Спасибо, Николай Викентьевич, вы можете идти.
– Уважаемый суд, – встал со своего места Виктор, – разрешите заявить ходатайство о приобщении к материалам дела каталога работ Константина Никифоровича Дубравина, переданных им год назад Союзу художников Москвы. В отношении каждой работы указан год, и очевидно, что Константин Никифорович творил все годы своей жизни, без перерывов.
– Ясно, хорошо, – сказала судья. – У другой стороны есть возражения?
– Возражаем категорически! То, что завещатель малевал до смерти, еще не значит, что он был нормальным! Ван Гог вон тоже до смерти кисточкой орудовал, и что? Шизофреником и помер!!!
Строгий взгляд судьи пресек этот поток вопиюще-наглого бескультурья.
По другой стороне было видно, что они и рады бы возразить что-то по существу – да нечего.
– Суд на месте определил: ходатайство стороны ответчика удовлетворить, документ приобщить к материалам дела, оценку доказательствам дать при вынесении решения.
Следующей была свидетельница со стороны истицы. Выглядела она скромнее, чем первая свидетельница (хотя вполне уместно будет сказать – она выглядела просто приличнее).
Но это впечатление держалось лишь до тех пор, пока она не начала давать показания, потому что говорила она довольно развязно, как-то неаккуратно, что ли.
– Я являюсь подругой Карины. С дядей, Никифором Константиновичем, у нее были прекрасные отношения. Он ездил к ней в гости, и она ездила к нему в гости. И несколько раз я ездила к нему вместе с Кариной. Вел он себя просто безобразно: плохо держал ложку, разливал суп, говорил иногда бессвязно, котлетами в нас бросался. Иногда он меня принимал за Карину, иногда спрашивал у своейной бабы: «А кто эти девки?». А однажды, когда никто не видел, даже щипать Карину начал и предлагать картины его посмотреть. Но мы же тут все понимаем, о каких картинах шла речь?
Свидетельница обвела присутствующих уверенным взором – мол, как я тут режу правду всем в глаза.
– Сколько раз вы вместе с Кариной были у ее дяди?
– Нууу, не помню точно, но я была у него за четыре месяца до его смерти и за полгода. Точно помню, что видела его таким за несколько дней до завещания.
Дарья Григорьевна тихо сказала Виктору: