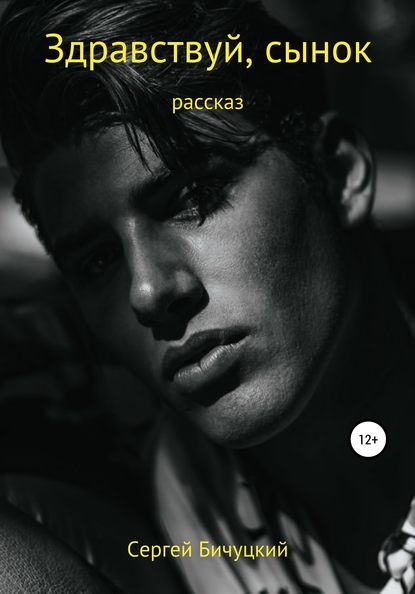По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Здравствуй, сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здравствуй, сынок
Сергей Марксович Бичуцкий
В чём смысл жизни? Живут люди, живут и порой даже и не задумываются над этим. И многим кажется, что смысл жизни у каждого свой. Так ли это? Вот и и герой этого рассказа даже и не задумывался над этим вопросом, пока не пришёл последний час.
Глава 1
Здравствуй, сынок! – первым делом сказал Семёныч, проснувшись, и только затем перекрестился. Каждый день так. Сначала здоровался с сыном, а уж потом с Богом. Почему? Тосковал по сыну. Заболел тоской этой, потому и разговаривал с ним, будто тот рядом. А с Богом-то что? Бог Он Бог и есть – всегда тут, потому и здоровался с ним после сына. Знал, что неправильно это, но был уверен, что Господь всё понимает, и простит. Полежал немного, окончательно отходя ото сна, сбросил одеяло и с трудом сел на постели. Посмотрел на будильник, недовольно скривился и попенял сыну:
– Чего не разбудил-то? Зорьку давно пора доить, а я валяюсь тут, как дрючок. Пойдёшь со мной? – спросил, натягивая брюки. – Ладно-ладно, сам подою. Знаю, что не любишь! Никто из вас не любит. Белоручки какие. Всё на старика повесили. Всё батя, да батя, – ворчал, надевая рубаху. – А лет сколько бате забыл? То-то. Ну, да ладно. Что с вами поделаешь?
Ополоснул лицо ледяной водой, вытерся жёстким вафельным полотенцем, подошёл к стоящей на столе фотографии сына в рамке под стеклом, провёл легонько рукой, то ли пыль стёр, то ли погладил, накинул фуфайку, со скрипом открыл двери в сени, натянул резиновые сапоги и вышел на крыльцо. Вдохнул полной грудью живительную свежесть просыпающейся весны, и стал спускаться по будто от боли стонущим ступенькам. Всё скрипело – и двери, и полы, и крыльцо. Старел дом. Чего уж там! Вместе с хозяевами старел. Батя ставил сруб ещё лет семьдесят назад. Ему тогда чуть поболе пяти было. Шестьдесят годов стоял как литой. На совесть батя сработал. А тут, лет эдак десять назад, начал, ни с того, ни с сего, корячиться, да поскрипывать во всех пределах. Подумал было, что с фундаментом что-то, но, обследовав, видимых изменений не обнаружил. И причин явных, таких, чтобы бросались в глаза, вроде не было, а проседал, и всё тут. Может и не в фундаменте вовсе дело? Может просто древесина иструхлявилась? Особенно нижние венцы? Может и так, но дом, как и человек, старился, горбился, хирел, расползался потихоньку и щели, выдувавшие тепло от натопленной с вечера печки, появлялись нескончаемо. Разбираться, в чём причина, ни здоровья, ни желания не было. Пытался, конечно, конопатить, но они появлялись вновь и вновь, будто вредитель какой специально проковыривал. Лишь бы Семёнычу напакостить. Вредителя этого старик знал прекрасно, поэтому не очень переживал, понимая, что бороться с ним, и касательно дома, и касательно самого себя, дело бесполезное. Время! Как с ним бороться? Да никак! Терпеть, да не пыжиться! Семёныч и терпел. Ко всему за долгие годы жизни притерпелся, а уж к возрасту…. . Совсем внимания не обращал. Жил себе и жил. Без целей каких-то и задач. По привычке, можно сказать. А что ещё оставалось одному-то? Была когда-то семья. И жена, и дети, и любовь, и смех, и горе. Всё было. Было, да сплыло! Стёрла жизнь, как ластиком, всё, что было дорого, и зачем дальше жить одному, толком и не понимал. Сына, конечно, дождаться хотел, но и это желание постепенно стало простой привычкой. Вернее сказать, болезнью. Хронической. Не болит, не болит, а тут вдруг как стрельнёт-бабахнет, хоть вой, хоть бараном в стену. Семёныч в таком разе, не раздумывая, спускался в погреб, доставал трёхлитровую банку самогона, собирал на стол, что под рукой было, ставил напротив фотографию сына, рядом стакан, да тарелку с закуской, и начиналось обычное застолье с тостами да разговорами. Понятное дело, что говорил сам с собой, но это только если со стороны смотреть. А, если вникнуть в суть, то вроде как бы беседовали отец с сыном. Вот так оно бывало. Посидит часок-другой, успокоится душа, умиротворится, ну и слава Тебе, Господи! Уберёт со стола, да принимается за обычные дела.
С утра таких приступов никогда не было, потому как просыпался, и сразу за работу. Работа, она ведь всякую хворь душевную лечит. Лучшего лекарства до сих пор никто не придумал. Вот и сегодня, едва проснувшись, пошёл Зорьку доить. Два ведра захватил – эмалированное – под молоко, и с тёплой водой – вымя омыть, да напоить. На плиту с вечера ставил, чтобы утром время на подогрев не тратить. Открыл дверь в сарай и тут же раздалось привычно радостное мычание Зорьки. Здоровалась так. Каждый день. Подошёл, погладил по жёсткой спине, разбавил большую часть тёплой воды с холодной, налил в десятилитровую кастрюлю, сходил в дальний конец сарая, схватил охапку пахучего разнотравья, бросил в ясли, и только после этого поздоровался с кормилицей. Зорька откликнулась. Повернула морду, едва не задев рогами, лизнула пару раз знакомую фуфайку, и принялась хрустеть свежим сеном. Семёныч взял маленькую скамеечку, поставил напротив и сел. Пододвинул ведро с тёплой водой, намочил тряпицу, да стал омывать-оглаживать вымя. Легонько, без нажима, смывал грязь и соринки с тёплого пульсирующего тела. Омыв, промокнул сухой тряпкой и принялся массировать. И только почувствовав, что вымя расслабилось и размякло, начал доить. Знал прекрасно, что стоит только запустить этот процесс, тут же мастит получишь. А мастит – это…! Лучше всуе не вспоминать. Беда, короче говоря!
Корову свою Семёныч любил – и удоистая, и покладистая, да к тому же и ласковая. Точь-в-точь жена. Никогда не взбрыкнёт! Даже хвостом не машет, пока доит. Замрёт, и стоит смиренная такая, не шелохнётся. А то повернёт морду свою, да давай Семёныча своим наждачным языком облизывать, докуда достанет. Любит, значит. Вроде как скотина, а на самом деле единственная на свете душа, кому он не безразличен. Эта тоненькая духовная ниточка на самом деле и связывала его с жизнью. Как без любви-то жить? Может поэтому с ней, как с человеком, постоянно о чём-то говорил? Какая-никакая, а любовь! Как ей не радоваться? Как не поговорить? И ухаживал за ней, как за единственной родной. Других-то рядом не было. Только она – кормилица и отрада. По два раза надень чистил коровник, а порой и настил мыл, да сена на подстилку не жалел. Чего жалеть? Вчетвером, хоть и старики, столько сена на зиму заготовили, что и двум бы коровам хватило. И Зорька, чувствуя эту неподдельную заботу, отвечала на неё, чем могла – молоком. По двенадцати литров за дойку. Меньше – и думать не моги. Столько молока на четверых! И куда его девать? Пока не придумали, что с таким богатством делать, собакам, да свиньям скармливали. А больше и некуда, поскольку от, ещё в недалёком прошлом, большой и людной деревни четверо их осталось: сам Семёныч, соседка Наталья Николаевна, учительница-пенсионерка, да друг Семёныча Федька Моисеев с женой Катериной. Остальные поразъехались кто-куда, потому как работы не было никакой, а умирать от скуки и голода по какой-то до сих пор неизвестной властям причине никто не хотел. Вот и встал перед Семёнычем вопрос: что делать с таким количеством молока? Тут Наталья Николаевна пришла на выручку – вычитала где-то, как из молока сыр делать. Съездила в Питер, привезла закваску, да заделалась заправским сыроваром. Такая у неё вкуснятина стала получаться, что из района порой специально приезжали, заказы делали. К празднику там к какому или юбилею. А нет, так излишки, когда накопятся, Фёдор с женой отвозили в район, да на местном невеликом торжище в момент распродавали, а на вырученные деньги покупали всё, в чём нуждался их кооператив. Николаевна и не старалась даже особенно. Единственное, что можно было поставить ей в заслугу, так это то, что не мудрила, не своевольничала, а делала всё как было предписано в наставлениях. Может в этом и был весь секрет? Может и так, но сами они сразу и окончательно позабыли, что значит жизнь без деликатеса.
Зорька не подкачала и сегодня. Литров одиннадцать дала с гаком. Семёныч подкинул сена, взял полное ведро молока и поковылял домой. Ноги стали последнее время что-то отказывать. Да и руки, по правде говоря, тоже. От постоянной дойки скрючились пальцы, как коряги стали. Ни согнуть без боли, ни разогнуть. Порой так припекало, что приходилось просить о помощи либо Наталью Николаевну, либо Катерину. Предлагали женщины сами по очереди доить, но Семёныч ни в какую не хотел отдавать часть своей жизни. Чего это вдруг? А ему что? Сидеть да охать? Не в его это правилах! «Пока силы есть ложку в руках держать, нечего на печи лежать! – любил повторять отец. – Можешь есть, значит можешь и работать!». Семёныч запомнил, и себе, как правило жизни взял. Не скулил, не жаловался, а просто работал. Начинать, правда, трудно было, а как разойдётся, так и боль незаметно уходит. Знал это, поэтому и не соглашался на помощь.
Принёс ведро домой, отлил пол-литра, а остальное потащил к соседке. Наталья Николаевна давно встала и уже растапливала печку. Гостя встретила с улыбкой:
– Не подвела, родимая? – спросила вместо приветствия.
– С чего бы это? – незлобиво ответил Семёныч, и поставил посудину на специально приготовленную табуретку.
Хозяйка сходила в сени, принесла большую алюминиевую кастрюлю, какими раньше в столовых пользовались, и поставила на плиту. Семёныч, охнув, поднял ведро и перелил молоко.
– Моисеевым-то, чего не оставил? – удивилась соседка.
– Дак они вчерашнее ещё не выпили. Катерина предупредила, что не надо им сегодня, – ответил старик, присаживаясь на свободную табуретку.
– От Серёжки есть что-нибудь?
– Откуда? Каким это ветром сюда что-нибудь принесёт, Николаевна? – горестно проворчал Семёныч. – Кабы почта рядом была, сходил бы, а так…
– А в леспромхоз? Не дойдёшь? Сам же знаешь, что нет у них почтальона.
– Так-то оно так, да боязно.
– Чего вдруг?
– А как не будет ничего?
– Ну, не будет, так не будет. Так что ли лучше?
– Так? – повторил Семёныч. – Так, Наташа, хоть надежда есть, а как придёшь, а там пусто, и надежды никакой не останется. Совсем туго станет.
– Странно, конечно, это всё, – произнесла учительница, бросая в молоко корки ржаного хлеба – творог будет готовить.
– Что тебе странно?
– Дак, знаю Серёжку с рождения, потому и странно.
– Да, уж, – согласился Семёныч. – Что стало с сыном? Из армии дак каждую неделю – хоть письмо, хоть открытка, а тут, как уехал, только первый год писал, а потом, как отрезало – больше семи лет ни одной весточки, одни переводы…. Чего только в голову не лезет! Слава Богу, хоть Венька нет-нет, да напишет, а то бы вообще не знал, что и подумать. Вроде и не обижал ничем, – задумчиво произнёс старик.
– А, если бы и обидел, так что, на всю жизнь что ли? – не согласилась Николаевна. – Даже думать об этом не хочу! Я, что, Серёжку, что ли, не знаю?
– Вот и я не приложу ума, что и думать, – грустно проговорил Семёныч. – Голова пухнет от этих мыслей. А мучает меня больше всего то, что Ира прямо перед смертью сказала.
– Что сказала? – остановилась Николаевна.
– За какие-то секунды, прежде чем отойти, глаза открыла, ш-и-р-о-к-о так, улыбнулась и говорит:
– Здесь Светик, Саша, говорит, и Сергунька здесь, не печалься. А до этого ведь, как инсульт ударил, и слова сказать не могла. Всё мычала что-то, да как разобрать? А тут чётко и, главное, радостно. Так с улыбкой и отошла. Мне бы так помереть! – мечтательно произнёс Семёныч.
– Как? – не поняла Николаевна.
– Радостно, – тихо сказал старик.
– Не думай ты об этом! Чего башку себе всякими глупостям забивать?
– Да я о словах Иркиных думаю! Что она имела в виду, как считаешь?
– Да, кто ж его знает? О смерти тебе ни один самый умный учёный ничего толком сказать не сможет. Одни предположения, да теории. Да цена этим теориям – полушка в базарный день. Нет у меня к ним никакого доверия, Саша. Абсолютно! И в отношении последних слов Иры то же самое. Что хочешь можно предположить. Может видения какие были, а может воспоминания, а может бредила. Всякое может быть.
– Вот и я о том же, – согласился Семёныч, – всякое. Потому и не даёт покоя. Натворил может чего? – продолжил старик. – Чего в жизни не бывает? Шофёр ведь! Может в аварию попал, или сбил кого насмерть, и в тюрьму посадили? А сообщить стыдно.
– На столько-то лет? – вскинулась соседка. – Не верю! Не такой Сегруня, чтобы руки опускать. Помнишь, я в Псково-Печерский монастырь ездила?
– Ну, как не помнить!
– Так вот. Удалось мне встретиться там со старцем, схимонахом Давмонтом. Очередь выстояла, чуть не целый день. Пришла и давай плакаться: «За что мне судьба такая? Да чем же я Бога прогневила? Ни мужика, ни детей! Всё одна, да одна!», а он, слабенький уже такой, потом узнала, что через неделю после моего отъезда преставился, светится весь светом каким-то неземным, улыбнулся и тихонько так говорит: «Не наше это дело, сестра, на промысел Божий сетовать. Грех это! А ещё больший грех – уныние. Я тебе одно слово скажу, а ты над ним хорошенько подумай! Всё в этой жизни может случиться. Всё! Даже свет, и тот падает! Но зачем? Затем, чтобы что-то новое родилось! Понимаешь?», перекрестил трижды и замолчал. Я это теперь никогда не забываю, а уныние, как рукой, сняло. Это ж надо такое сказать: «Даже свет, и тот падает!». Вот и тебе не стоит унывать. Сберкнижка поди от денег распухла. Возьми, да съезди в гости. Всё и узнаешь! Тебя кто здесь держит?
– В гости? – испуганно встрепенулся старик. – А Зорьку на кого оставлю?
– Да, брось ты отговорки придумывать! Нешто мы с Катериной не сладим с нашей любимицей? Иль сомневаешься?
– Да, нет, Наташа, не сомневаюсь, – задумчиво произнёс Семёныч. – В себе сомневаюсь. Доеду ли?
– Чего вдруг? Заблудиться боишься?
– Помереть по дороге боюсь, Наташа.
– Сдурел, что ли? Не болел, не болел, а тут сразу помирать собрался, – попыталась пошутить соседка.
– Да почему ж не болел? Всё время болел. Не говорил только никому.
– Почему?
– А зачем? Врачей среди вас – одни справочники, так чего бестолку болтать?
Сергей Марксович Бичуцкий
В чём смысл жизни? Живут люди, живут и порой даже и не задумываются над этим. И многим кажется, что смысл жизни у каждого свой. Так ли это? Вот и и герой этого рассказа даже и не задумывался над этим вопросом, пока не пришёл последний час.
Глава 1
Здравствуй, сынок! – первым делом сказал Семёныч, проснувшись, и только затем перекрестился. Каждый день так. Сначала здоровался с сыном, а уж потом с Богом. Почему? Тосковал по сыну. Заболел тоской этой, потому и разговаривал с ним, будто тот рядом. А с Богом-то что? Бог Он Бог и есть – всегда тут, потому и здоровался с ним после сына. Знал, что неправильно это, но был уверен, что Господь всё понимает, и простит. Полежал немного, окончательно отходя ото сна, сбросил одеяло и с трудом сел на постели. Посмотрел на будильник, недовольно скривился и попенял сыну:
– Чего не разбудил-то? Зорьку давно пора доить, а я валяюсь тут, как дрючок. Пойдёшь со мной? – спросил, натягивая брюки. – Ладно-ладно, сам подою. Знаю, что не любишь! Никто из вас не любит. Белоручки какие. Всё на старика повесили. Всё батя, да батя, – ворчал, надевая рубаху. – А лет сколько бате забыл? То-то. Ну, да ладно. Что с вами поделаешь?
Ополоснул лицо ледяной водой, вытерся жёстким вафельным полотенцем, подошёл к стоящей на столе фотографии сына в рамке под стеклом, провёл легонько рукой, то ли пыль стёр, то ли погладил, накинул фуфайку, со скрипом открыл двери в сени, натянул резиновые сапоги и вышел на крыльцо. Вдохнул полной грудью живительную свежесть просыпающейся весны, и стал спускаться по будто от боли стонущим ступенькам. Всё скрипело – и двери, и полы, и крыльцо. Старел дом. Чего уж там! Вместе с хозяевами старел. Батя ставил сруб ещё лет семьдесят назад. Ему тогда чуть поболе пяти было. Шестьдесят годов стоял как литой. На совесть батя сработал. А тут, лет эдак десять назад, начал, ни с того, ни с сего, корячиться, да поскрипывать во всех пределах. Подумал было, что с фундаментом что-то, но, обследовав, видимых изменений не обнаружил. И причин явных, таких, чтобы бросались в глаза, вроде не было, а проседал, и всё тут. Может и не в фундаменте вовсе дело? Может просто древесина иструхлявилась? Особенно нижние венцы? Может и так, но дом, как и человек, старился, горбился, хирел, расползался потихоньку и щели, выдувавшие тепло от натопленной с вечера печки, появлялись нескончаемо. Разбираться, в чём причина, ни здоровья, ни желания не было. Пытался, конечно, конопатить, но они появлялись вновь и вновь, будто вредитель какой специально проковыривал. Лишь бы Семёнычу напакостить. Вредителя этого старик знал прекрасно, поэтому не очень переживал, понимая, что бороться с ним, и касательно дома, и касательно самого себя, дело бесполезное. Время! Как с ним бороться? Да никак! Терпеть, да не пыжиться! Семёныч и терпел. Ко всему за долгие годы жизни притерпелся, а уж к возрасту…. . Совсем внимания не обращал. Жил себе и жил. Без целей каких-то и задач. По привычке, можно сказать. А что ещё оставалось одному-то? Была когда-то семья. И жена, и дети, и любовь, и смех, и горе. Всё было. Было, да сплыло! Стёрла жизнь, как ластиком, всё, что было дорого, и зачем дальше жить одному, толком и не понимал. Сына, конечно, дождаться хотел, но и это желание постепенно стало простой привычкой. Вернее сказать, болезнью. Хронической. Не болит, не болит, а тут вдруг как стрельнёт-бабахнет, хоть вой, хоть бараном в стену. Семёныч в таком разе, не раздумывая, спускался в погреб, доставал трёхлитровую банку самогона, собирал на стол, что под рукой было, ставил напротив фотографию сына, рядом стакан, да тарелку с закуской, и начиналось обычное застолье с тостами да разговорами. Понятное дело, что говорил сам с собой, но это только если со стороны смотреть. А, если вникнуть в суть, то вроде как бы беседовали отец с сыном. Вот так оно бывало. Посидит часок-другой, успокоится душа, умиротворится, ну и слава Тебе, Господи! Уберёт со стола, да принимается за обычные дела.
С утра таких приступов никогда не было, потому как просыпался, и сразу за работу. Работа, она ведь всякую хворь душевную лечит. Лучшего лекарства до сих пор никто не придумал. Вот и сегодня, едва проснувшись, пошёл Зорьку доить. Два ведра захватил – эмалированное – под молоко, и с тёплой водой – вымя омыть, да напоить. На плиту с вечера ставил, чтобы утром время на подогрев не тратить. Открыл дверь в сарай и тут же раздалось привычно радостное мычание Зорьки. Здоровалась так. Каждый день. Подошёл, погладил по жёсткой спине, разбавил большую часть тёплой воды с холодной, налил в десятилитровую кастрюлю, сходил в дальний конец сарая, схватил охапку пахучего разнотравья, бросил в ясли, и только после этого поздоровался с кормилицей. Зорька откликнулась. Повернула морду, едва не задев рогами, лизнула пару раз знакомую фуфайку, и принялась хрустеть свежим сеном. Семёныч взял маленькую скамеечку, поставил напротив и сел. Пододвинул ведро с тёплой водой, намочил тряпицу, да стал омывать-оглаживать вымя. Легонько, без нажима, смывал грязь и соринки с тёплого пульсирующего тела. Омыв, промокнул сухой тряпкой и принялся массировать. И только почувствовав, что вымя расслабилось и размякло, начал доить. Знал прекрасно, что стоит только запустить этот процесс, тут же мастит получишь. А мастит – это…! Лучше всуе не вспоминать. Беда, короче говоря!
Корову свою Семёныч любил – и удоистая, и покладистая, да к тому же и ласковая. Точь-в-точь жена. Никогда не взбрыкнёт! Даже хвостом не машет, пока доит. Замрёт, и стоит смиренная такая, не шелохнётся. А то повернёт морду свою, да давай Семёныча своим наждачным языком облизывать, докуда достанет. Любит, значит. Вроде как скотина, а на самом деле единственная на свете душа, кому он не безразличен. Эта тоненькая духовная ниточка на самом деле и связывала его с жизнью. Как без любви-то жить? Может поэтому с ней, как с человеком, постоянно о чём-то говорил? Какая-никакая, а любовь! Как ей не радоваться? Как не поговорить? И ухаживал за ней, как за единственной родной. Других-то рядом не было. Только она – кормилица и отрада. По два раза надень чистил коровник, а порой и настил мыл, да сена на подстилку не жалел. Чего жалеть? Вчетвером, хоть и старики, столько сена на зиму заготовили, что и двум бы коровам хватило. И Зорька, чувствуя эту неподдельную заботу, отвечала на неё, чем могла – молоком. По двенадцати литров за дойку. Меньше – и думать не моги. Столько молока на четверых! И куда его девать? Пока не придумали, что с таким богатством делать, собакам, да свиньям скармливали. А больше и некуда, поскольку от, ещё в недалёком прошлом, большой и людной деревни четверо их осталось: сам Семёныч, соседка Наталья Николаевна, учительница-пенсионерка, да друг Семёныча Федька Моисеев с женой Катериной. Остальные поразъехались кто-куда, потому как работы не было никакой, а умирать от скуки и голода по какой-то до сих пор неизвестной властям причине никто не хотел. Вот и встал перед Семёнычем вопрос: что делать с таким количеством молока? Тут Наталья Николаевна пришла на выручку – вычитала где-то, как из молока сыр делать. Съездила в Питер, привезла закваску, да заделалась заправским сыроваром. Такая у неё вкуснятина стала получаться, что из района порой специально приезжали, заказы делали. К празднику там к какому или юбилею. А нет, так излишки, когда накопятся, Фёдор с женой отвозили в район, да на местном невеликом торжище в момент распродавали, а на вырученные деньги покупали всё, в чём нуждался их кооператив. Николаевна и не старалась даже особенно. Единственное, что можно было поставить ей в заслугу, так это то, что не мудрила, не своевольничала, а делала всё как было предписано в наставлениях. Может в этом и был весь секрет? Может и так, но сами они сразу и окончательно позабыли, что значит жизнь без деликатеса.
Зорька не подкачала и сегодня. Литров одиннадцать дала с гаком. Семёныч подкинул сена, взял полное ведро молока и поковылял домой. Ноги стали последнее время что-то отказывать. Да и руки, по правде говоря, тоже. От постоянной дойки скрючились пальцы, как коряги стали. Ни согнуть без боли, ни разогнуть. Порой так припекало, что приходилось просить о помощи либо Наталью Николаевну, либо Катерину. Предлагали женщины сами по очереди доить, но Семёныч ни в какую не хотел отдавать часть своей жизни. Чего это вдруг? А ему что? Сидеть да охать? Не в его это правилах! «Пока силы есть ложку в руках держать, нечего на печи лежать! – любил повторять отец. – Можешь есть, значит можешь и работать!». Семёныч запомнил, и себе, как правило жизни взял. Не скулил, не жаловался, а просто работал. Начинать, правда, трудно было, а как разойдётся, так и боль незаметно уходит. Знал это, поэтому и не соглашался на помощь.
Принёс ведро домой, отлил пол-литра, а остальное потащил к соседке. Наталья Николаевна давно встала и уже растапливала печку. Гостя встретила с улыбкой:
– Не подвела, родимая? – спросила вместо приветствия.
– С чего бы это? – незлобиво ответил Семёныч, и поставил посудину на специально приготовленную табуретку.
Хозяйка сходила в сени, принесла большую алюминиевую кастрюлю, какими раньше в столовых пользовались, и поставила на плиту. Семёныч, охнув, поднял ведро и перелил молоко.
– Моисеевым-то, чего не оставил? – удивилась соседка.
– Дак они вчерашнее ещё не выпили. Катерина предупредила, что не надо им сегодня, – ответил старик, присаживаясь на свободную табуретку.
– От Серёжки есть что-нибудь?
– Откуда? Каким это ветром сюда что-нибудь принесёт, Николаевна? – горестно проворчал Семёныч. – Кабы почта рядом была, сходил бы, а так…
– А в леспромхоз? Не дойдёшь? Сам же знаешь, что нет у них почтальона.
– Так-то оно так, да боязно.
– Чего вдруг?
– А как не будет ничего?
– Ну, не будет, так не будет. Так что ли лучше?
– Так? – повторил Семёныч. – Так, Наташа, хоть надежда есть, а как придёшь, а там пусто, и надежды никакой не останется. Совсем туго станет.
– Странно, конечно, это всё, – произнесла учительница, бросая в молоко корки ржаного хлеба – творог будет готовить.
– Что тебе странно?
– Дак, знаю Серёжку с рождения, потому и странно.
– Да, уж, – согласился Семёныч. – Что стало с сыном? Из армии дак каждую неделю – хоть письмо, хоть открытка, а тут, как уехал, только первый год писал, а потом, как отрезало – больше семи лет ни одной весточки, одни переводы…. Чего только в голову не лезет! Слава Богу, хоть Венька нет-нет, да напишет, а то бы вообще не знал, что и подумать. Вроде и не обижал ничем, – задумчиво произнёс старик.
– А, если бы и обидел, так что, на всю жизнь что ли? – не согласилась Николаевна. – Даже думать об этом не хочу! Я, что, Серёжку, что ли, не знаю?
– Вот и я не приложу ума, что и думать, – грустно проговорил Семёныч. – Голова пухнет от этих мыслей. А мучает меня больше всего то, что Ира прямо перед смертью сказала.
– Что сказала? – остановилась Николаевна.
– За какие-то секунды, прежде чем отойти, глаза открыла, ш-и-р-о-к-о так, улыбнулась и говорит:
– Здесь Светик, Саша, говорит, и Сергунька здесь, не печалься. А до этого ведь, как инсульт ударил, и слова сказать не могла. Всё мычала что-то, да как разобрать? А тут чётко и, главное, радостно. Так с улыбкой и отошла. Мне бы так помереть! – мечтательно произнёс Семёныч.
– Как? – не поняла Николаевна.
– Радостно, – тихо сказал старик.
– Не думай ты об этом! Чего башку себе всякими глупостям забивать?
– Да я о словах Иркиных думаю! Что она имела в виду, как считаешь?
– Да, кто ж его знает? О смерти тебе ни один самый умный учёный ничего толком сказать не сможет. Одни предположения, да теории. Да цена этим теориям – полушка в базарный день. Нет у меня к ним никакого доверия, Саша. Абсолютно! И в отношении последних слов Иры то же самое. Что хочешь можно предположить. Может видения какие были, а может воспоминания, а может бредила. Всякое может быть.
– Вот и я о том же, – согласился Семёныч, – всякое. Потому и не даёт покоя. Натворил может чего? – продолжил старик. – Чего в жизни не бывает? Шофёр ведь! Может в аварию попал, или сбил кого насмерть, и в тюрьму посадили? А сообщить стыдно.
– На столько-то лет? – вскинулась соседка. – Не верю! Не такой Сегруня, чтобы руки опускать. Помнишь, я в Псково-Печерский монастырь ездила?
– Ну, как не помнить!
– Так вот. Удалось мне встретиться там со старцем, схимонахом Давмонтом. Очередь выстояла, чуть не целый день. Пришла и давай плакаться: «За что мне судьба такая? Да чем же я Бога прогневила? Ни мужика, ни детей! Всё одна, да одна!», а он, слабенький уже такой, потом узнала, что через неделю после моего отъезда преставился, светится весь светом каким-то неземным, улыбнулся и тихонько так говорит: «Не наше это дело, сестра, на промысел Божий сетовать. Грех это! А ещё больший грех – уныние. Я тебе одно слово скажу, а ты над ним хорошенько подумай! Всё в этой жизни может случиться. Всё! Даже свет, и тот падает! Но зачем? Затем, чтобы что-то новое родилось! Понимаешь?», перекрестил трижды и замолчал. Я это теперь никогда не забываю, а уныние, как рукой, сняло. Это ж надо такое сказать: «Даже свет, и тот падает!». Вот и тебе не стоит унывать. Сберкнижка поди от денег распухла. Возьми, да съезди в гости. Всё и узнаешь! Тебя кто здесь держит?
– В гости? – испуганно встрепенулся старик. – А Зорьку на кого оставлю?
– Да, брось ты отговорки придумывать! Нешто мы с Катериной не сладим с нашей любимицей? Иль сомневаешься?
– Да, нет, Наташа, не сомневаюсь, – задумчиво произнёс Семёныч. – В себе сомневаюсь. Доеду ли?
– Чего вдруг? Заблудиться боишься?
– Помереть по дороге боюсь, Наташа.
– Сдурел, что ли? Не болел, не болел, а тут сразу помирать собрался, – попыталась пошутить соседка.
– Да почему ж не болел? Всё время болел. Не говорил только никому.
– Почему?
– А зачем? Врачей среди вас – одни справочники, так чего бестолку болтать?