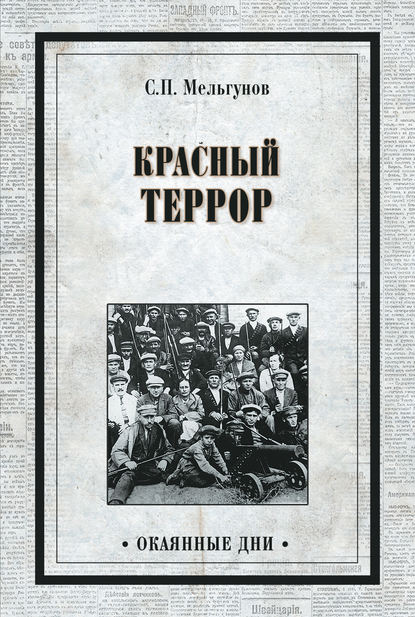По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красный террор (сборник)
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Короленко обратился к Раковскому с просьбой «употребить свое влияние в деле недавно арестованного Сергея Петровича Мельгунова» еще 22 сентября 1918 г. Он обратил внимание, что одной из причин этого ареста был его конфликт с В.Д. Бонч-Бруевичем по поводу издательской деятельности историка. При этом писатель выступил резко против заложничества и других проявлений красного террора. Показателен ответ на эти обвинения Раковского в письме к Короленко от 4 октября 1918 г.: «Я должен заметить, что прежде всего террор был введен в практику нашими противниками… Тогда мы и решили прибегнуть к институту заложничества, чтобы предупредить дальнейшие зверские расправы с нашими товарищами… Я согласен, о нас создается неблагоприятное впечатление, но мы вынуждены прибегать к этим мерам и делаем это без всякой охоты»
.
Заступничество Короленко оказалось успешным. Но Мельгунов был снова арестован, уже в третий раз, в марте 1919 г. по ордеру Особого отдела ВЧК и выпущен всего лишь через десять дней под поручительство П.И. Скворцова-Степанова и П.М. Керженцева. Получив телеграмму из Москвы об аресте историка, Короленко тут же, 15 апреля, написал новое обращение к Раковскому: «…Вчера я получил известие, что он арестован опять. Не знаю, какие преступления на него возводятся в смысле «неблагонадежности». Но думаю и даже уверен, что они не могут быть серьезны. А арест его – дело очень серьезное: он душа кооперативного издательства «Задруга», около которого существует много литературных работников и работников печатного дела… Не благодарю специально за приостановку бессудных казней, – завершал свое письмо Раковскому писатель, переходя к общим вопросам большевистской политики, – так как уверен, что Вы сделали это в интересах справедливости и самого большев. правительства. Во всяком случае – это было нужное и хорошее дело со всех точек зрения»
. Как видим, обращения писателя помогали не только конкретным людям, но и в целом помогали смягчать язвы красного террора.
Любопытно, что примерно в это же время, 4 мая 1919 г., Короленко сообщал в письме к Раковскому о неприятной истории, которая произошла с ним так же, как и с профессором Преображенским из «Собачьего сердца» М.А. Булгакова: «…Ко мне стали ходить «реквизиторы» и объявили, что у меня отберут две комнаты (в том числе один даже заявил о реквизиции моего рабочего кабинета, который весь занят моими бумагами, материалами и рукописями)»
. Напомним, что семья Короленко занимала один не очень большой дом по улице Малой Садовой Полтавы. Писателю пришлось жаловаться на эти покушения местному начальству, которое выдало ему ту самую «окончательную бумагу», «броню», которую просил себе профессор Преображенский. О получении охранного свидетельства на свой дом сам писатель написал как о важном событии в дневнике 11 апреля 1919 г.: «Дня три к нам зачастили с реквизицией комнат… Загаров, председатель жилищной комиссии, по-прежнему против реквизиции у меня, а какие-то второстепенные агенты все приходят, меряют шагами комнаты и т. д.».
Нападки на писателя со стороны ретивых местных большевиков и его обращения к Раковскому не могли не пройти не замеченными для киевских большевистских властей, что вылилось даже в беспрецедентное постановление Центрального Исполнительного Комитета Киевского Совета Рабочих депутатов, в котором со ссылкой на сообщение о нервном расстройстве писателя содержалось вот такое указание властям Полтавы: «По полученным сообщениям органы местной власти беспокоят писателя Владимира Галактионовича Короленко и его семью. Срочно примите меры к полной охране жилища и спкойствия Короленко и его семьи»…
Во время третьего ареста Мельгунова с историком произошли два довольно любопытных инцидента. Когда его пришли арестовывать чекисты, для упрощения этой процедуры он предложил комиссару не проводить обыск всего его огромного архива и библиотеки, а просто опечатать несколько комнат. Тот, поколебавшись, согласился, но у него не оказалось с собой печати, хотя сургуч был. И здесь историк сделал опрометчивый шаг, предложив опечатать комнаты находившейся у него печатью масонской ложи «Астрея», возникшей в Москве в 1907 г. Так и поступили, но печать комиссар вдруг решил забрать с собой. «Я никак не мог себе представить, – писал Мельгунов позднее, – что из-за этого может разгореться целый сыр-бор. В Особом отделе решили, что это печать современной ложи, с которой я имею какие-то таинственные связи. Заподозрено было и нахождение у меня многих масонских знаков. Мне пришлось разъяснять; жене моей пришлось привезти два тома, изданных под моей и Н.П. Сидорова редакцией, «Масонство в прошлом и настоящем», чтобы доказать, что у меня имеется к масонству обычный литературно-научный интерес».
Волны от этого пустякового, казалось бы, случая расходились еще долго, давая чекистам пищу для утверждений, что в белогвардейском лагере действуют масоны. Что касается самого Мельгунова, то он никогда масоном не был. В своих книгах и статьях историк неоднократно писал о попытках вовлечь его в масонские ложи (разговоры на эту тему с ним вел сам А.Ф. Керенский), не вызывавшие у него никакого доверия. «Я считаю вредным облечение подобными формами деятельности русской оппозиции», – признавался Мельгунов.
Однако зададимся каверзным вопросом: откуда это большевики, в частности чекисты, были так сведущи в масонской символике, распознав в печати, изъятой у Мельгунова, откровения «вольных каменщиков»? Не мерцает ли здесь одна из скрытых пока от исторического взгляда тайн большевиков? Допросы Мельгунова по масонским делам вел начальник Особого отдела ВЧК М.С. Кедров, кстати говоря, несколько лет проведший в эмиграции. Как подчеркивал историк, «Кедров больше всего интересовался разгадкой, существует ли теперь масонство в России или нет».
С Кедровым связано и другое неожиданное приключение, пережитое в ЧК Мельгуновым. Однажды на допросе к начальнику Особого отдела принесли кипу каких-то документов. Историк поинтересовался, что это за документы, и получил ответ, что это бумаги одной из местных организаций партии эсеров и что в ЧК часто попадают еще более интересные документальные материалы. Например, недавно поступил архив из могилевской Ставки Николая II как Верховного главнокомандующего. У Мельгунова мелькнула дикая мысль, и он попросил Кедрова ознакомиться с этим архивом. Немного подумав, чекист ответил: «Хорошо. Вы получите документы на одну ночь при условии никому их не показывать».
И вот Мельгунов всю ночь при электрическом свете в камере, где содержалось 15 человек, знакомился и делал выписки с официальной и полуофициальной переписки Ставки, переговоров по прямому проводу, автографов Николая II. Здесь им и был обнаружен, в частности, уникальный документ о гарантиях для себя и своей семьи, которые требовал император от Временного правительства во время своего отречения (позднее этот документ был опубликован историком за границей). На следующий день Кедров заявил, что он хочет издать архив Ставки, и спросил, не поможет ли ему в этом Мельгунов. Тот ответил категорическим отказом: «С большевиками невозможна никакая совместная работа».
Выйдя на свободу, Мельгунов неотступно ждал нового ареста, его все сильнее стали изматывать постоянные обыски. «С лета 1919 года мы все ходили под угрозой… – писал он впоследствии. – Мы продолжали свое дело. Жили легально и, может быть, даже слишком беспечно и открыто». В это время чекисты уже вышли на след «Союза возрождения» и других контрреволюционных организаций. 29 августа 1919 г. был арестован Н.Н. Щепкин. Узнав об этом, Мельгунов решил срочно уехать с женой в деревню под Серпухов, и сделал это не напрасно: дважды его приезжали арестовывать на московскую квартиру, оставив там на 6 недель засаду. Начались полгода мучительной нелегальной жизни: историку пришлось изменить внешность, поменять паспорт, преобразиться в бухгалтера и переезжать с женой с места на место. В конце концов «прятание по углам» надоело, и Мельгунов через знакомых большевиков, в том числе Л.Б. Каменева и Д.Б. Рязанова, попросил узнать, можно ли ему безопасно для себя выйти из подполья. Получив положительный ответ, он вернулся в середине февраля 1920 года в свою квартиру и… был тут же арестован.
Арест произвел особоуполномоченный Особого отдела ВЧК Я.С. Агранов. Как вспоминала жена историка П.Е. Мельгунова, «он был очень эффектен: шлем на голове с спускающейся на плечи кольчугой, весь до зубов вооруженный, за ним два солдата стукнули об пол прикладами». Сразу чувствовалось, что дело намного серьезнее, чем при предыдущих арестах. П.Е. Мельгунова скоро узнала от знакомых об отзыве на сей счет наркома юстиции Д.И. Курского: «Дело плохо, не исключена возможность военного суда, тогда грозит расстрел, возможна тоже ликвидация дела прямо Особым отделом, это еще хуже». Прасковья Евгеньевна кинулась искать заступничества у кого можно, написала новое письмо В.Г. Короленко, но все было тщетно.
Занимаясь длительное время изучением деятельности В.Г. Короленко в 1917–1921 гг., я обнаружил в Отделе рукописей Библиотеки им. Ленина письма к нему П.Е. Мельгуновой, в том числе и письмо от 28 февраля 1920 г. В нем жена историка, благодаря писателя за помощь, писала о своем муже: «Теперь он вновь арестован неделю тому назад Особым отделом ВЧК, этим самым страшным и жестоким учреждением у нас в Москве. Говорят, что дело вообще серьезное, добиться чего-либо очень трудно… Еще раз простите за беспокойство и помогите, как тогда».
А дело оказалось действительно серьезным. Теперь оснований для пребывания Мельгунова в тюрьме чекисты видели предостаточно. Вот выдержка из характеристики на него, представленной Аграновым Дзержинскому 19 марта 1920 года: «С.П. Мельгунов является руководителем и идейным «вождем» Союза возрождения, центром которого была Москва… Мельгунов, несомненно, является одним из самых активных врагов пролетарской революции. Бешеная ненависть его к Советской власти и коммунистической партии, его чрезвычайная непримиримость поражает даже его друзей по заговору, таких убежденных монархистов, как О.П. Герасимов, кн. С.Е. Трубецкой и др…. Мельгунов убежден в неизбежном для Советской власти в ближайшем будущем 9-м Термидоре и в этом духе настраивает своих товарищей по камере».
Письмо от жены историка привез Короленко в Полтаву И.Д. Ринкман, и писатель описал в своем дневнике 28 марта 1920 г. все подробности ареста Мельгунова: о его долгом нелегальном положении, о засадах на его квартире, об обещании знакомых ему большевиков, что историка больше никто не тронет, и его непосредственном задержании. И опять писатель констатировал ухудшение общей ситуации: «Вообще в Москве опять свирепствует ЧК. Расстрелы теперь после известного декрета не производятся, но до его объявления (уже после того, как он состоялся) расстреляно несколько сот человек… Теперь приговаривают к бессрочной каторге или в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны»
.
Писатель вновь берется за перо и пишет 29 марта 1920 г. Раковскому о необходимости нового «заступничества», характеризуя историка следующим образом: «Мельгунов – человек резкий и прямолинейный. Думаю, что этим и вызван его арест. Одно из преимуществ таких характеров… то, что при резкости и прямолинейности не следует предполагать чего-нибудь утаенного, недоговоренного и скрытого»
.
Однако, несмотря на заступничество Короленко и других лиц, на этот раз Мельгунову суждено было пробыть в заключении целый год: полгода в одиночках внутренней тюрьмы Особого отдела ВЧК и полгода в Бутырке. Как раз в это время заканчивалось становление новой тюремной системы, являвшейся, по словам историка, «уже продуктом коммунистического творчества», и он в итоге стал свидетелем всех этапов развития этой системы, начиная от первых ее робких шагов в 1918 г., когда действовала еще традиция старого режима. Однако опыт, пережитый им, имел и свои особенности. Как признавался Мельгунов, «я был всегда в тюрьме «привилегированным». Писатель-демократ, так или иначе числившийся в социалистических рядах, имевший достаточные личные связи по своему прошлому с теми, кто стоял у верхов власти, неизбежно попадал в несколько другое положение, чем всякий иной тюремный обитатель». Главная привилегия историка состояла, по его словам, в том, что большевики «всегда давали возможность работать, допуская широко передачу книг и письменных принадлежностей. Единственно, за что я могу чувствовать к ним хоть некоторую благодарность».
Трудно поверить, но Мельгунов умудрился написать в одиночном заключении большую работу о Великой французской революции, так и оставшуюся неизданной, воспоминания о своей жизни до мировой войны, целый ряд мелких статей и заметок. Позднее, в эмиграции, он опубликовал часть написанного с пометкой «Камера 33. Внутренняя тюрьма Особого отдела ВЧК».
Тем временем страсти вокруг Мельгунова и других арестованных почти одновременно с ним разгорались действительно нешуточные. Проводивший следствие Я.С. Агранов с первых шагов разбирательства увидел уникальную возможность развития дела в сторону широкомасштабного процесса, и этот процесс через полгода действительно состоялся. Он вошел в историю как процесс по делу так называемого «Тактического центра» и представлял собой самый крупный политический процесс первых лет Советской власти.
Нити этого процесса вели в август 1919 г., когда чекисты вышли на след контрреволюционной организации «Национальный центр», состоявшей преимущественно из кадетов. В.И. Ленин перед началом операции по аресту руководителей центра дал указание Ф.Э. Дзержинскому обратить на операцию «сугубое внимание. Быстро и энергично и пошире надо захватить»
. «Захватили» действительно «широко» – около 700 человек, в том числе бывшего члена Государственной думы, кадета, председателя «Национального центра» Н.Н. Щепкина, внука знаменитого актера, руководившего также наряду с Мельгуновым «Союзом возрождения». Недолгое следствие выявило, что помимо «Национального центра» в стране действуют и другие антибольшевистские организации – известный нам «Союз возрождения» и «Совет общественных деятелей», объединявший представителей правых политических сил. Но состав этих организаций остался тогда неизвестен, дело «Национального центра» было фактически закрыто, окончившись расстрелом без судебного разбирательства многих обвиняемых (около 150 человек), в том числе Н.Н. Щепкина.
Однако в феврале 1920 г. ЧК были арестованы член коллегии Главтопа Н.Н. Виноградский и профессор С.А. Котляревский, которые дали самые откровенные показания о деятельности всех контрреволюционных организаций и их руководящих лицах, среди которых фигурировало и имя С.П. Мелыунова. Виноградский даже сообщил о том, где скрывался Мельгунов, каковы его финансовые дела и что у него есть «потайной архив». Самое же главное в показаниях двух арестованных заключалось в их сообщении, что примерно с апреля по сентябрь 1919 г. в Москве действовал так называемый «Тактический центр», объединивший контрреволюционные организации. В него входили: от «Национального центра» – Н.Н. Щепкин, О.П. Герасимов и С.Е. Трубецкой, от «Совета общественных деятелей» – Д.М. Щепкин и С.М. Леонтьев, а от «Союза возрождения» – тот же Н.Н. Щепкин и С.П. Мельгунов. Получалось, что «Тактический центр» выступал в роли «высшего органа», руководившего деятельностью чуть ли не всего контрреволюционного подполья. Такая находка сулила чекистам невиданные перспективы.
На основании важных показаний вновь «захватили» довольно густо. За решеткой оказались все руководители «Тактического центра», за исключением расстрелянного Н.Н. Щепкина. Чудеса изворотливости проявил Агранов, отрабатывая, по сути, первый сценарий подготовки громкого политического процесса, который затем десятки раз брался за основу в 1920-е и 1930-е гг. Основными кирпичиками, составлявшими этот сценарий, стали явные провокационные действия следователя, использование им информации доносчиков, упор на собственные признания обвиняемых, а не на документы, выбивание раскаяния и покаяния подсудимых самыми различными приемами.
Агранов использовал в роли «наседки» предателя Н.Н. Виноградского, который поочередно переводился из камеры в камеру и подробнейшим образом доносил обо всех своих откровенных разговорах с обвиняемыми. Уже на первом допросе Мельгунов был поражен удивительной «ласковостью», уважительностью следователя и его знанием самых мелких деталей расследуемого дела. Предъявив историку показания Н.Н. Виноградского и С.А. Котляревского, Агранов уверял его, что дело это «чисто историческое» и оно не может иметь каких-либо последствий, что большевики проявляют теперь гуманизм и поэтому Мельгунова с его друзьями ждет вскоре амнистия. Нужно только дать показания. Такой же тактики следователь придерживался и с другими обвиняемыми, И, как ни странно, эта незамысловатая Тактика «сработала».
А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», рассказывая о деле «Тактического центра», обращал внимание на то, как «легко попадалась на чекистский крючок и сдавалась и гибла русская интеллигенция», оказавшаяся не подготовленной к встрече с изощренным механизмом следственной машины ВЧК. Упомянул он и о самом Мельгунове, что тот «без юмора ставит в упрек следователю Якову Агранову… обман его и других подследственных, ловкое дураченье, о котором он считает, что «большего издевательства надо мною быть не могло»… И Мельгунов, столь проницательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадается: подтверждает участие в «Союзе возрождения» тех лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний, ему предъявленных. И вообще «стал давать более или менее связные показания» – как рассказ, без выделения следовательских вопросов».
В воспоминаниях, на которые ссылался Солженицын, Мельгунов прямо признавался в своей собственной ошибке и ошибке других обвиняемых: «Так простоваты оказались мы…» Он объяснял свое поведение следующим образом: «Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания, и не только о себе, но и о других… После первого допроса у меня было тяжелое раздумье о том, как поступить и как себя держать на следствии. Но дело действительно было уже в полном смысле историческим: приходилось нести ответственность за прошлое, не действенное в настоящем. Следователь знал все, что мог я ему показать с фактической стороны. Казалось поэтому, что принципиальным неговорением я без нужды отягчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других, не склонных, как я видел, занять позицию отрицания… Когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории. Может быть, просто во мне недостаточно было того чувства революционного сознания, которое диктует поведение на суде».
Справедливости ради следует подчеркнуть, что в своих показаниях, часть из которых вошла в «Красную книгу ВЧК» (т. 2. М., 1920), переизданную в 1990 г., Мельгунов повторил лишь факты, уже известные следствию, не назвал никаких новых имен, всячески принижал роль «Союза возрождения» («Маленькое внутреннее удовлетворение дает сознание, что власть так и не узнала о составе «Союза возрождения» и его реальной деятельности», – писал он позднее) и разбивал главный козырь следствия о «Тактическом центре». Он утверждал, что организации с таким названием, «с особой какой-то платформой, тактикой, отдельной деятельностью», этакого центрального «заговорщического центра» вообще не было, а были лишь несколько нерегулярных встреч представителей трех организаций: «Предполагалось, что представители групп будут здесь передавать точки зрения своих групп для осведомления и для передачи на обсуждение групп. Никаких решений здесь принимаемо не могло быть, да и фактически не принималось. Все сводилось, в сущности, к информации…»
Такие показания путали Агранову все карты. И он прибег к крайнему средству воздействия на историка – аресту его жены, якобы замешанной в контрреволюционной деятельности. Мельгунов объявил в качестве протеста голодовку, которую продолжал 17 дней. Как вспоминала П.Е. Мельгунова, «на семнадцатый день его вызвал Ягода, который в это время быстро поднимался по служебной лестнице и был на ножах с Аграновым. С.П. еле дотащился к нему. Спросив о причинах голодовки, о которых он якобы не знал, Ягода дал слово освободить меня, прислал к С.П. врача и взял с него обещание кончить голодовку». Жена историка была выпущена на свободу, а он сам в силу чрезвычайно ослабленного состояния (температура его тела упала до 34 °C, сильно отекли ноги) был помещен в лечебный изолятор Бутырки.
Лопнула в конце концов и другая провокация Агранова в отношении Мельгунова. Во время обыска на квартире историка было обнаружено большое количество карточек с подробными сведениями о жизни и деятельности различных участников революционного движения в России, в том числе большевиков. Следователь попытался представить эти карточки как свидетельство того, что Мельгунов и его единомышленники составляли списки коммунистов, подлежащих уничтожению или в результате террористических актов, или после свержения Советской власти. Мельгунову стоило огромного труда доказать затем на суде, что это всего лишь подготовительные материалы к «Словарю революционных деятелей», задуманному им еще в марте 1917 г. и готовившемуся легально к изданию в «Задруге». Позднее, во время пятого ареста историка, у него были обнаружены в ряду других фотографии, запечатлевшие Ф.Э. Дзержинского с чекистами, что послужило поводом для разработки особой версии о якобы подготовлявшемся Мельгуновым покушении на председателя ВЧК. Однако и этот замысел, к счастью, тоже скоро лопнул.
Из самого краткого описания следствия по делу «Тактического центра» уже вырисовывается зловещая фигура чекиста Якова Сауловича (по некоторым данным, Соломоновича) Агранова (настоящая фамилия Сорендзон), стоявшего в ряду виртуозов следственных дел, долгие годы набивавших руку на провокационных приемах и откровенных фальсификациях. Следующей удачей Агранова стало «таганцевское дело» 1921 г. Арестованный профессор В.Н. Таганцев 45 дней хранил полное молчание, но затем Агранов уговорил его подписать с ним соглашение, согласно которому подследственный должен был дать самые полные показания о деятельности его группы и всех ее участниках, а следователь обязался быстро завершить следствие, передать дело в гласный суд и гарантировал, что «ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания». В результате по «таганцевскому делу» без суда было расстреляно в три приема 61, 18 и 8 человек, в том числе и Н.С. Гумилев, которого Агранов допрашивал лично.
Любопытно, что, работая с 1919 г. в ВЧК, Агранов был одновременно секретарем Совета Народных Комиссаров и так называемого Малого СНК: его подпись стоит под многими постановлениями вместе с подписью В.И. Ленина. Дальнейшими вехами служебной карьеры Агранова, дотянувшего в 1935 году даже до поста первого заместителя наркома внутренних дел, стали расследование им обстоятельств антоновского мятежа на Тамбовшине, дела ЦК правых эсеров и дела Я. Блюмкина, подготовка процессов по делам «Промпартии» и «Трудовой крестьянской партии», виртуозные допросы убийцы Кирова Л. Николаева, руководство работой по разоблачению и осуждению «врагов народа» Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.Н. Тухачевского и многих других. Как видим, рука одного и того же режиссера-постановщика тянется от первого громкого политического процесса по делу «Тактического центра» до череды сногсшибательных процессов 1936–1938 гг. Какая показательная, тесная связь времен!
Агранов долгое время специализировался на ловле именно интеллигентских заблудших душ, и нетрудно догадаться, почему его постоянно «тянуло» к литературно-богемным кругам. Он считался приятелем многих доверчивых писателей, начиная от Б. Пильняка и кончая В. Маяковским. Тень изворотливого чекиста ставила зловещую точку в судьбах сотен людей (успешная попытка выяснить причастность Агранова к убийству Маяковского была предпринята В. Скорятиным в «Журналисте», 1990, № 1, 2, 5), пока он сам не был в августе 1938 г. осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в «контрреволюционной деятельности» и не отправлен вслед за своими бывшими подопечными. В 1955 г. при проверке дела Агранова Главная военная прокуратура не нашла оснований для его реабилитации ввиду того, что он допускал систематические нарушения социалистической законности.
С 16 по 20 августа 1920 г. большая аудитория Политехнического музея в Москве представляла невиданное зрелище: здесь слушанием дела «Тактического центра» фактически открывалась целая эпоха публично-показательных процессов над врагами Советской власти. «Сама уже зала с красным сукном, с толпящимися везде чекистами, солдатами ВОХРы в шишаках производила впечатление», – вспоминала П.Е. Мельгунова. Дело рассматривалось Верховным революционным трибуналом в составе трех судей и двух их заместителей (четверо из пяти – чекисты) под председательством Н.К. Ксенофонтова. Обвинение поддерживал сам «огненный» революционер и трибун Н.В. Крыленко. На скамье подсудимых – 28 человек: помимо четырех руководителей «Тактического центра» (О.П. Герасимов умер в тюрьме во время следствия) – Д.М. Щепкина, С.М. Леонтьева, С.Е. Трубецкого и С.П. Мельгунова – широко известные в России профессора Н.К. Кольцов, В.М. Устинов, Г.В. Сергиевский, В.С. Муралевич, П.Н. Каптерев, общественные деятели В.Н. Муравьев, Н.М. Кишкин, Д.Д. Протопопов, С.Д. Урусов, В.Н. Розанов, экономист и кооператор Н.Д. Кондратьев, фабрикант С.А. Морозов, дочь Л.Н. Толстого А.Л. Толстая и другие.
Как писал Мельгунов, «весь процесс был построен на песке» прежде всего потому, что, кроме показаний обвиняемых, в деле не оказалось никаких улик, «ни одного документа». Но это не смущало главного обвинителя, который уверял, что подсудимые должны были «лечь костьми» за Советскую власть и что всякая иная мысль есть «мысль о государственной измене». «И даже если бы… обвиняемые здесь, в Москве, не ударили бы пальцем о палец, – говорил он, – все равно: в момент ожесточенной борьбы… даже разговоры за чашкой чаю (А.Л. Толстая лишь ставила самовар и подавала этот чай «заговорщикам» на своей квартире. – С.Д.) о том, какой строй должен сменить падающую якобы Советскую власть, являются контрреволюционным актом… Во время гражданской войны преступно не только всякое действие, всякий шаг, подготовляющий реставрацию иного порядка… преступно само бездействие».
Позднее Крыленко утверждал, что на процессе проявилось «полное раскаяние» и «сплошное самобичевание» подсудимых, однако он забыл отметить, что каялась и самобичевала себя, признавая Советскую власть, лишь часть обвиняемых: Н.Н. Виноградский, С.А. Котляревский (сразу же после суда они оказались на свободе и были прекрасно устроены на советской службе), а также С.Д. Урусов, В.М. Устинов, В.С. Муралевич, Г.В. Сергиевский, М.С. Фельдштейн и Н.Д. Кондратьев. Другие вели себя достойно и сдержанно. «Очень смело держалась Александра Львовна, погубившая себя последним словом, в котором заявила, что, будучи последовательницей отца, суда не признает и считает его насилием, особенно большевицкий суд», – писала о дочери великого писателя, получившей три года концлагеря, П.Е. Мельгунова.
То же самое можно сказать о поведении на суде и самого Мельгунова, оказавшегося центральной фигурой процесса. Он справедливо писал позднее о своих выступлениях в зале суда, что «ни искренних, ни неискренних потоков раскаяния, которые видел Крыленко в устах многих подсудимых, ни каких-то заявлений «о переломе своих убеждений» – там нет». Вот показательная выдержка на этот счет из стенографического отчета суда:
«Крыленко… Я формулирую так, что вы не можете примириться с данной формой власти и что она должна быть так или иначе уничтожена, сметена и заменена другой.
Мельгунов. Всякая власть демократическая будет для меня более приемлема, чем советская власть.
Крыленко. И в тех условиях, в которых вам приходилось действовать во второй половине 1920 г., вы считали, что все из окружавших и боровшихся с советской властью более приемлемы?
Мельгунов. Нет, потому что, когда я стал узнавать, что при Деникинской власти начался белый террор, то для меня он не был тоже приемлем. Может быть, органически я к красному террору относился более враждебно. Я не принадлежу к тем людям, которые думают, что советская власть может существовать длительный период, и если вы ставите дилемму: генералы или советская власть, – то я такой дилеммы не ставил: для меня никакая реакционная власть не приемлема.
Крыленко. Практически перед вами стояла дилемма: советская власть, Колчаковская или Деникинская власть.
Мельгунов. Я в своих показаниях сказал, что я считал, что всякая политическая власть будет лучше советской прежде всего с той точки зрения, что политически ее свергнуть будет гораздо легче».
Особенно откровенно, «без сомнений и страхов», Мельгунов сказал все, что хотел, в своем последнем слове, когда Крыленко уже потребовал для руководящей «четверки» «Тактического центра» расстрела. Он предсказал большевикам термидор и выразил свою глубокую веру в их окончательную гибель.
Ждать оставалось только самого худшего. Готовясь к смерти и не желая быть расстрелянным, Мельгунов попросил жену принести ему яд. Прасковья Евгеньевна нашла возможность передать мужу крошечный флакончик с цианистым калием во время краткого свидания в перерыве между заседаниями суда. Но в ход событий вмешался его величество случай, припрятанный яд, к счастью, не потребовался, а на алтарь революции не была принесена еще одна жертва, которая могла лишить нас всего написанного впоследствии крупным историком, лишить так же, как мы лишились того, что подарил бы русской поэзии талант расстрелянного на творческом взлете Н.С. Гумилева.
Спасло обреченных счастливое стечение обстоятельств: дни процесса совпали с успехами Красной армии, рвавшейся к Варшаве и готовой разжечь пожар мировой революции в Европе. В последний день процесса на нем в качестве своеобразного свидетеля выступил Л.Д. Троцкий. Завершая свою пылкую речь, он торжественно заявил, что «завтра Варшава будет взята», и, указав театральным жестом в сторону «четверки», закончил: «А эти нам теперь уже не страшны». В итоге Верховный революционный трибунал приговорил членов «четверки», в том числе Мельгунова, к расстрелу, но, принимая во внимание целый ряд обстоятельств, тут же постановил заменить им расстрел 10 годами тюремного заключения. Остальные подсудимые получили меньшие сроки заключения, часть из них была освобождена по амнистии или наказана условно.
Все пережитое и увиденное Мельгуновым на суде оставило у него горестные впечатления. Он вспомнил о своем опыте в 1931 г., когда в Париж из России донеслись вести о показательных процессах по делам «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков», во время которых опять зазвучали покаянные речи многих подсудимых. Историк написал статью, в которой задался вопросом: «Зачем большевики ставят» эти фальсифицированные, надуманные процессы? «Мне кажется, что всякий, хоть раз непосредственно столкнувшийся с советским «правосудием», с «революционной» судебной совестью чекистов, заседающих в трибуналах, неизбежно должен превратиться в Фому Неверного, – подчеркивал он в статье. – По своему опыту по делу «Тактического центра» лично я склонен не доверять ни одному слову официальных судебных отчетов. Фарс и трагедия переплетаются между собой. Когда читаешь показания подсудимых и их реплики на комедийном действии, именуемом большевицким судом, кажется, что между властью и подсудимыми осуществлен какой-то закулисный заговор. Власти нужен, по каким-то особым соображениям, этот «показательный» процесс, и подсудимые сознательно пошли «на клевету» на самих себя, приписывая себе действия, которые они совершать не могли. Покупают себе этим жизнь? Советское «правосудие», действительно, имеет одну своеобразную черту. Любой обвиненный в сознательном вредительстве и приговоренный даже к расстрелу через очень короткое время может оказаться на свободе, на своем старом посту и вновь с тем же успехом заниматься «вредительством»…»
.
Заступничество Короленко оказалось успешным. Но Мельгунов был снова арестован, уже в третий раз, в марте 1919 г. по ордеру Особого отдела ВЧК и выпущен всего лишь через десять дней под поручительство П.И. Скворцова-Степанова и П.М. Керженцева. Получив телеграмму из Москвы об аресте историка, Короленко тут же, 15 апреля, написал новое обращение к Раковскому: «…Вчера я получил известие, что он арестован опять. Не знаю, какие преступления на него возводятся в смысле «неблагонадежности». Но думаю и даже уверен, что они не могут быть серьезны. А арест его – дело очень серьезное: он душа кооперативного издательства «Задруга», около которого существует много литературных работников и работников печатного дела… Не благодарю специально за приостановку бессудных казней, – завершал свое письмо Раковскому писатель, переходя к общим вопросам большевистской политики, – так как уверен, что Вы сделали это в интересах справедливости и самого большев. правительства. Во всяком случае – это было нужное и хорошее дело со всех точек зрения»
. Как видим, обращения писателя помогали не только конкретным людям, но и в целом помогали смягчать язвы красного террора.
Любопытно, что примерно в это же время, 4 мая 1919 г., Короленко сообщал в письме к Раковскому о неприятной истории, которая произошла с ним так же, как и с профессором Преображенским из «Собачьего сердца» М.А. Булгакова: «…Ко мне стали ходить «реквизиторы» и объявили, что у меня отберут две комнаты (в том числе один даже заявил о реквизиции моего рабочего кабинета, который весь занят моими бумагами, материалами и рукописями)»
. Напомним, что семья Короленко занимала один не очень большой дом по улице Малой Садовой Полтавы. Писателю пришлось жаловаться на эти покушения местному начальству, которое выдало ему ту самую «окончательную бумагу», «броню», которую просил себе профессор Преображенский. О получении охранного свидетельства на свой дом сам писатель написал как о важном событии в дневнике 11 апреля 1919 г.: «Дня три к нам зачастили с реквизицией комнат… Загаров, председатель жилищной комиссии, по-прежнему против реквизиции у меня, а какие-то второстепенные агенты все приходят, меряют шагами комнаты и т. д.».
Нападки на писателя со стороны ретивых местных большевиков и его обращения к Раковскому не могли не пройти не замеченными для киевских большевистских властей, что вылилось даже в беспрецедентное постановление Центрального Исполнительного Комитета Киевского Совета Рабочих депутатов, в котором со ссылкой на сообщение о нервном расстройстве писателя содержалось вот такое указание властям Полтавы: «По полученным сообщениям органы местной власти беспокоят писателя Владимира Галактионовича Короленко и его семью. Срочно примите меры к полной охране жилища и спкойствия Короленко и его семьи»…
Во время третьего ареста Мельгунова с историком произошли два довольно любопытных инцидента. Когда его пришли арестовывать чекисты, для упрощения этой процедуры он предложил комиссару не проводить обыск всего его огромного архива и библиотеки, а просто опечатать несколько комнат. Тот, поколебавшись, согласился, но у него не оказалось с собой печати, хотя сургуч был. И здесь историк сделал опрометчивый шаг, предложив опечатать комнаты находившейся у него печатью масонской ложи «Астрея», возникшей в Москве в 1907 г. Так и поступили, но печать комиссар вдруг решил забрать с собой. «Я никак не мог себе представить, – писал Мельгунов позднее, – что из-за этого может разгореться целый сыр-бор. В Особом отделе решили, что это печать современной ложи, с которой я имею какие-то таинственные связи. Заподозрено было и нахождение у меня многих масонских знаков. Мне пришлось разъяснять; жене моей пришлось привезти два тома, изданных под моей и Н.П. Сидорова редакцией, «Масонство в прошлом и настоящем», чтобы доказать, что у меня имеется к масонству обычный литературно-научный интерес».
Волны от этого пустякового, казалось бы, случая расходились еще долго, давая чекистам пищу для утверждений, что в белогвардейском лагере действуют масоны. Что касается самого Мельгунова, то он никогда масоном не был. В своих книгах и статьях историк неоднократно писал о попытках вовлечь его в масонские ложи (разговоры на эту тему с ним вел сам А.Ф. Керенский), не вызывавшие у него никакого доверия. «Я считаю вредным облечение подобными формами деятельности русской оппозиции», – признавался Мельгунов.
Однако зададимся каверзным вопросом: откуда это большевики, в частности чекисты, были так сведущи в масонской символике, распознав в печати, изъятой у Мельгунова, откровения «вольных каменщиков»? Не мерцает ли здесь одна из скрытых пока от исторического взгляда тайн большевиков? Допросы Мельгунова по масонским делам вел начальник Особого отдела ВЧК М.С. Кедров, кстати говоря, несколько лет проведший в эмиграции. Как подчеркивал историк, «Кедров больше всего интересовался разгадкой, существует ли теперь масонство в России или нет».
С Кедровым связано и другое неожиданное приключение, пережитое в ЧК Мельгуновым. Однажды на допросе к начальнику Особого отдела принесли кипу каких-то документов. Историк поинтересовался, что это за документы, и получил ответ, что это бумаги одной из местных организаций партии эсеров и что в ЧК часто попадают еще более интересные документальные материалы. Например, недавно поступил архив из могилевской Ставки Николая II как Верховного главнокомандующего. У Мельгунова мелькнула дикая мысль, и он попросил Кедрова ознакомиться с этим архивом. Немного подумав, чекист ответил: «Хорошо. Вы получите документы на одну ночь при условии никому их не показывать».
И вот Мельгунов всю ночь при электрическом свете в камере, где содержалось 15 человек, знакомился и делал выписки с официальной и полуофициальной переписки Ставки, переговоров по прямому проводу, автографов Николая II. Здесь им и был обнаружен, в частности, уникальный документ о гарантиях для себя и своей семьи, которые требовал император от Временного правительства во время своего отречения (позднее этот документ был опубликован историком за границей). На следующий день Кедров заявил, что он хочет издать архив Ставки, и спросил, не поможет ли ему в этом Мельгунов. Тот ответил категорическим отказом: «С большевиками невозможна никакая совместная работа».
Выйдя на свободу, Мельгунов неотступно ждал нового ареста, его все сильнее стали изматывать постоянные обыски. «С лета 1919 года мы все ходили под угрозой… – писал он впоследствии. – Мы продолжали свое дело. Жили легально и, может быть, даже слишком беспечно и открыто». В это время чекисты уже вышли на след «Союза возрождения» и других контрреволюционных организаций. 29 августа 1919 г. был арестован Н.Н. Щепкин. Узнав об этом, Мельгунов решил срочно уехать с женой в деревню под Серпухов, и сделал это не напрасно: дважды его приезжали арестовывать на московскую квартиру, оставив там на 6 недель засаду. Начались полгода мучительной нелегальной жизни: историку пришлось изменить внешность, поменять паспорт, преобразиться в бухгалтера и переезжать с женой с места на место. В конце концов «прятание по углам» надоело, и Мельгунов через знакомых большевиков, в том числе Л.Б. Каменева и Д.Б. Рязанова, попросил узнать, можно ли ему безопасно для себя выйти из подполья. Получив положительный ответ, он вернулся в середине февраля 1920 года в свою квартиру и… был тут же арестован.
Арест произвел особоуполномоченный Особого отдела ВЧК Я.С. Агранов. Как вспоминала жена историка П.Е. Мельгунова, «он был очень эффектен: шлем на голове с спускающейся на плечи кольчугой, весь до зубов вооруженный, за ним два солдата стукнули об пол прикладами». Сразу чувствовалось, что дело намного серьезнее, чем при предыдущих арестах. П.Е. Мельгунова скоро узнала от знакомых об отзыве на сей счет наркома юстиции Д.И. Курского: «Дело плохо, не исключена возможность военного суда, тогда грозит расстрел, возможна тоже ликвидация дела прямо Особым отделом, это еще хуже». Прасковья Евгеньевна кинулась искать заступничества у кого можно, написала новое письмо В.Г. Короленко, но все было тщетно.
Занимаясь длительное время изучением деятельности В.Г. Короленко в 1917–1921 гг., я обнаружил в Отделе рукописей Библиотеки им. Ленина письма к нему П.Е. Мельгуновой, в том числе и письмо от 28 февраля 1920 г. В нем жена историка, благодаря писателя за помощь, писала о своем муже: «Теперь он вновь арестован неделю тому назад Особым отделом ВЧК, этим самым страшным и жестоким учреждением у нас в Москве. Говорят, что дело вообще серьезное, добиться чего-либо очень трудно… Еще раз простите за беспокойство и помогите, как тогда».
А дело оказалось действительно серьезным. Теперь оснований для пребывания Мельгунова в тюрьме чекисты видели предостаточно. Вот выдержка из характеристики на него, представленной Аграновым Дзержинскому 19 марта 1920 года: «С.П. Мельгунов является руководителем и идейным «вождем» Союза возрождения, центром которого была Москва… Мельгунов, несомненно, является одним из самых активных врагов пролетарской революции. Бешеная ненависть его к Советской власти и коммунистической партии, его чрезвычайная непримиримость поражает даже его друзей по заговору, таких убежденных монархистов, как О.П. Герасимов, кн. С.Е. Трубецкой и др…. Мельгунов убежден в неизбежном для Советской власти в ближайшем будущем 9-м Термидоре и в этом духе настраивает своих товарищей по камере».
Письмо от жены историка привез Короленко в Полтаву И.Д. Ринкман, и писатель описал в своем дневнике 28 марта 1920 г. все подробности ареста Мельгунова: о его долгом нелегальном положении, о засадах на его квартире, об обещании знакомых ему большевиков, что историка больше никто не тронет, и его непосредственном задержании. И опять писатель констатировал ухудшение общей ситуации: «Вообще в Москве опять свирепствует ЧК. Расстрелы теперь после известного декрета не производятся, но до его объявления (уже после того, как он состоялся) расстреляно несколько сот человек… Теперь приговаривают к бессрочной каторге или в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны»
.
Писатель вновь берется за перо и пишет 29 марта 1920 г. Раковскому о необходимости нового «заступничества», характеризуя историка следующим образом: «Мельгунов – человек резкий и прямолинейный. Думаю, что этим и вызван его арест. Одно из преимуществ таких характеров… то, что при резкости и прямолинейности не следует предполагать чего-нибудь утаенного, недоговоренного и скрытого»
.
Однако, несмотря на заступничество Короленко и других лиц, на этот раз Мельгунову суждено было пробыть в заключении целый год: полгода в одиночках внутренней тюрьмы Особого отдела ВЧК и полгода в Бутырке. Как раз в это время заканчивалось становление новой тюремной системы, являвшейся, по словам историка, «уже продуктом коммунистического творчества», и он в итоге стал свидетелем всех этапов развития этой системы, начиная от первых ее робких шагов в 1918 г., когда действовала еще традиция старого режима. Однако опыт, пережитый им, имел и свои особенности. Как признавался Мельгунов, «я был всегда в тюрьме «привилегированным». Писатель-демократ, так или иначе числившийся в социалистических рядах, имевший достаточные личные связи по своему прошлому с теми, кто стоял у верхов власти, неизбежно попадал в несколько другое положение, чем всякий иной тюремный обитатель». Главная привилегия историка состояла, по его словам, в том, что большевики «всегда давали возможность работать, допуская широко передачу книг и письменных принадлежностей. Единственно, за что я могу чувствовать к ним хоть некоторую благодарность».
Трудно поверить, но Мельгунов умудрился написать в одиночном заключении большую работу о Великой французской революции, так и оставшуюся неизданной, воспоминания о своей жизни до мировой войны, целый ряд мелких статей и заметок. Позднее, в эмиграции, он опубликовал часть написанного с пометкой «Камера 33. Внутренняя тюрьма Особого отдела ВЧК».
Тем временем страсти вокруг Мельгунова и других арестованных почти одновременно с ним разгорались действительно нешуточные. Проводивший следствие Я.С. Агранов с первых шагов разбирательства увидел уникальную возможность развития дела в сторону широкомасштабного процесса, и этот процесс через полгода действительно состоялся. Он вошел в историю как процесс по делу так называемого «Тактического центра» и представлял собой самый крупный политический процесс первых лет Советской власти.
Нити этого процесса вели в август 1919 г., когда чекисты вышли на след контрреволюционной организации «Национальный центр», состоявшей преимущественно из кадетов. В.И. Ленин перед началом операции по аресту руководителей центра дал указание Ф.Э. Дзержинскому обратить на операцию «сугубое внимание. Быстро и энергично и пошире надо захватить»
. «Захватили» действительно «широко» – около 700 человек, в том числе бывшего члена Государственной думы, кадета, председателя «Национального центра» Н.Н. Щепкина, внука знаменитого актера, руководившего также наряду с Мельгуновым «Союзом возрождения». Недолгое следствие выявило, что помимо «Национального центра» в стране действуют и другие антибольшевистские организации – известный нам «Союз возрождения» и «Совет общественных деятелей», объединявший представителей правых политических сил. Но состав этих организаций остался тогда неизвестен, дело «Национального центра» было фактически закрыто, окончившись расстрелом без судебного разбирательства многих обвиняемых (около 150 человек), в том числе Н.Н. Щепкина.
Однако в феврале 1920 г. ЧК были арестованы член коллегии Главтопа Н.Н. Виноградский и профессор С.А. Котляревский, которые дали самые откровенные показания о деятельности всех контрреволюционных организаций и их руководящих лицах, среди которых фигурировало и имя С.П. Мелыунова. Виноградский даже сообщил о том, где скрывался Мельгунов, каковы его финансовые дела и что у него есть «потайной архив». Самое же главное в показаниях двух арестованных заключалось в их сообщении, что примерно с апреля по сентябрь 1919 г. в Москве действовал так называемый «Тактический центр», объединивший контрреволюционные организации. В него входили: от «Национального центра» – Н.Н. Щепкин, О.П. Герасимов и С.Е. Трубецкой, от «Совета общественных деятелей» – Д.М. Щепкин и С.М. Леонтьев, а от «Союза возрождения» – тот же Н.Н. Щепкин и С.П. Мельгунов. Получалось, что «Тактический центр» выступал в роли «высшего органа», руководившего деятельностью чуть ли не всего контрреволюционного подполья. Такая находка сулила чекистам невиданные перспективы.
На основании важных показаний вновь «захватили» довольно густо. За решеткой оказались все руководители «Тактического центра», за исключением расстрелянного Н.Н. Щепкина. Чудеса изворотливости проявил Агранов, отрабатывая, по сути, первый сценарий подготовки громкого политического процесса, который затем десятки раз брался за основу в 1920-е и 1930-е гг. Основными кирпичиками, составлявшими этот сценарий, стали явные провокационные действия следователя, использование им информации доносчиков, упор на собственные признания обвиняемых, а не на документы, выбивание раскаяния и покаяния подсудимых самыми различными приемами.
Агранов использовал в роли «наседки» предателя Н.Н. Виноградского, который поочередно переводился из камеры в камеру и подробнейшим образом доносил обо всех своих откровенных разговорах с обвиняемыми. Уже на первом допросе Мельгунов был поражен удивительной «ласковостью», уважительностью следователя и его знанием самых мелких деталей расследуемого дела. Предъявив историку показания Н.Н. Виноградского и С.А. Котляревского, Агранов уверял его, что дело это «чисто историческое» и оно не может иметь каких-либо последствий, что большевики проявляют теперь гуманизм и поэтому Мельгунова с его друзьями ждет вскоре амнистия. Нужно только дать показания. Такой же тактики следователь придерживался и с другими обвиняемыми, И, как ни странно, эта незамысловатая Тактика «сработала».
А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», рассказывая о деле «Тактического центра», обращал внимание на то, как «легко попадалась на чекистский крючок и сдавалась и гибла русская интеллигенция», оказавшаяся не подготовленной к встрече с изощренным механизмом следственной машины ВЧК. Упомянул он и о самом Мельгунове, что тот «без юмора ставит в упрек следователю Якову Агранову… обман его и других подследственных, ловкое дураченье, о котором он считает, что «большего издевательства надо мною быть не могло»… И Мельгунов, столь проницательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадается: подтверждает участие в «Союзе возрождения» тех лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний, ему предъявленных. И вообще «стал давать более или менее связные показания» – как рассказ, без выделения следовательских вопросов».
В воспоминаниях, на которые ссылался Солженицын, Мельгунов прямо признавался в своей собственной ошибке и ошибке других обвиняемых: «Так простоваты оказались мы…» Он объяснял свое поведение следующим образом: «Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания, и не только о себе, но и о других… После первого допроса у меня было тяжелое раздумье о том, как поступить и как себя держать на следствии. Но дело действительно было уже в полном смысле историческим: приходилось нести ответственность за прошлое, не действенное в настоящем. Следователь знал все, что мог я ему показать с фактической стороны. Казалось поэтому, что принципиальным неговорением я без нужды отягчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других, не склонных, как я видел, занять позицию отрицания… Когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории. Может быть, просто во мне недостаточно было того чувства революционного сознания, которое диктует поведение на суде».
Справедливости ради следует подчеркнуть, что в своих показаниях, часть из которых вошла в «Красную книгу ВЧК» (т. 2. М., 1920), переизданную в 1990 г., Мельгунов повторил лишь факты, уже известные следствию, не назвал никаких новых имен, всячески принижал роль «Союза возрождения» («Маленькое внутреннее удовлетворение дает сознание, что власть так и не узнала о составе «Союза возрождения» и его реальной деятельности», – писал он позднее) и разбивал главный козырь следствия о «Тактическом центре». Он утверждал, что организации с таким названием, «с особой какой-то платформой, тактикой, отдельной деятельностью», этакого центрального «заговорщического центра» вообще не было, а были лишь несколько нерегулярных встреч представителей трех организаций: «Предполагалось, что представители групп будут здесь передавать точки зрения своих групп для осведомления и для передачи на обсуждение групп. Никаких решений здесь принимаемо не могло быть, да и фактически не принималось. Все сводилось, в сущности, к информации…»
Такие показания путали Агранову все карты. И он прибег к крайнему средству воздействия на историка – аресту его жены, якобы замешанной в контрреволюционной деятельности. Мельгунов объявил в качестве протеста голодовку, которую продолжал 17 дней. Как вспоминала П.Е. Мельгунова, «на семнадцатый день его вызвал Ягода, который в это время быстро поднимался по служебной лестнице и был на ножах с Аграновым. С.П. еле дотащился к нему. Спросив о причинах голодовки, о которых он якобы не знал, Ягода дал слово освободить меня, прислал к С.П. врача и взял с него обещание кончить голодовку». Жена историка была выпущена на свободу, а он сам в силу чрезвычайно ослабленного состояния (температура его тела упала до 34 °C, сильно отекли ноги) был помещен в лечебный изолятор Бутырки.
Лопнула в конце концов и другая провокация Агранова в отношении Мельгунова. Во время обыска на квартире историка было обнаружено большое количество карточек с подробными сведениями о жизни и деятельности различных участников революционного движения в России, в том числе большевиков. Следователь попытался представить эти карточки как свидетельство того, что Мельгунов и его единомышленники составляли списки коммунистов, подлежащих уничтожению или в результате террористических актов, или после свержения Советской власти. Мельгунову стоило огромного труда доказать затем на суде, что это всего лишь подготовительные материалы к «Словарю революционных деятелей», задуманному им еще в марте 1917 г. и готовившемуся легально к изданию в «Задруге». Позднее, во время пятого ареста историка, у него были обнаружены в ряду других фотографии, запечатлевшие Ф.Э. Дзержинского с чекистами, что послужило поводом для разработки особой версии о якобы подготовлявшемся Мельгуновым покушении на председателя ВЧК. Однако и этот замысел, к счастью, тоже скоро лопнул.
Из самого краткого описания следствия по делу «Тактического центра» уже вырисовывается зловещая фигура чекиста Якова Сауловича (по некоторым данным, Соломоновича) Агранова (настоящая фамилия Сорендзон), стоявшего в ряду виртуозов следственных дел, долгие годы набивавших руку на провокационных приемах и откровенных фальсификациях. Следующей удачей Агранова стало «таганцевское дело» 1921 г. Арестованный профессор В.Н. Таганцев 45 дней хранил полное молчание, но затем Агранов уговорил его подписать с ним соглашение, согласно которому подследственный должен был дать самые полные показания о деятельности его группы и всех ее участниках, а следователь обязался быстро завершить следствие, передать дело в гласный суд и гарантировал, что «ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания». В результате по «таганцевскому делу» без суда было расстреляно в три приема 61, 18 и 8 человек, в том числе и Н.С. Гумилев, которого Агранов допрашивал лично.
Любопытно, что, работая с 1919 г. в ВЧК, Агранов был одновременно секретарем Совета Народных Комиссаров и так называемого Малого СНК: его подпись стоит под многими постановлениями вместе с подписью В.И. Ленина. Дальнейшими вехами служебной карьеры Агранова, дотянувшего в 1935 году даже до поста первого заместителя наркома внутренних дел, стали расследование им обстоятельств антоновского мятежа на Тамбовшине, дела ЦК правых эсеров и дела Я. Блюмкина, подготовка процессов по делам «Промпартии» и «Трудовой крестьянской партии», виртуозные допросы убийцы Кирова Л. Николаева, руководство работой по разоблачению и осуждению «врагов народа» Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.Н. Тухачевского и многих других. Как видим, рука одного и того же режиссера-постановщика тянется от первого громкого политического процесса по делу «Тактического центра» до череды сногсшибательных процессов 1936–1938 гг. Какая показательная, тесная связь времен!
Агранов долгое время специализировался на ловле именно интеллигентских заблудших душ, и нетрудно догадаться, почему его постоянно «тянуло» к литературно-богемным кругам. Он считался приятелем многих доверчивых писателей, начиная от Б. Пильняка и кончая В. Маяковским. Тень изворотливого чекиста ставила зловещую точку в судьбах сотен людей (успешная попытка выяснить причастность Агранова к убийству Маяковского была предпринята В. Скорятиным в «Журналисте», 1990, № 1, 2, 5), пока он сам не был в августе 1938 г. осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в «контрреволюционной деятельности» и не отправлен вслед за своими бывшими подопечными. В 1955 г. при проверке дела Агранова Главная военная прокуратура не нашла оснований для его реабилитации ввиду того, что он допускал систематические нарушения социалистической законности.
С 16 по 20 августа 1920 г. большая аудитория Политехнического музея в Москве представляла невиданное зрелище: здесь слушанием дела «Тактического центра» фактически открывалась целая эпоха публично-показательных процессов над врагами Советской власти. «Сама уже зала с красным сукном, с толпящимися везде чекистами, солдатами ВОХРы в шишаках производила впечатление», – вспоминала П.Е. Мельгунова. Дело рассматривалось Верховным революционным трибуналом в составе трех судей и двух их заместителей (четверо из пяти – чекисты) под председательством Н.К. Ксенофонтова. Обвинение поддерживал сам «огненный» революционер и трибун Н.В. Крыленко. На скамье подсудимых – 28 человек: помимо четырех руководителей «Тактического центра» (О.П. Герасимов умер в тюрьме во время следствия) – Д.М. Щепкина, С.М. Леонтьева, С.Е. Трубецкого и С.П. Мельгунова – широко известные в России профессора Н.К. Кольцов, В.М. Устинов, Г.В. Сергиевский, В.С. Муралевич, П.Н. Каптерев, общественные деятели В.Н. Муравьев, Н.М. Кишкин, Д.Д. Протопопов, С.Д. Урусов, В.Н. Розанов, экономист и кооператор Н.Д. Кондратьев, фабрикант С.А. Морозов, дочь Л.Н. Толстого А.Л. Толстая и другие.
Как писал Мельгунов, «весь процесс был построен на песке» прежде всего потому, что, кроме показаний обвиняемых, в деле не оказалось никаких улик, «ни одного документа». Но это не смущало главного обвинителя, который уверял, что подсудимые должны были «лечь костьми» за Советскую власть и что всякая иная мысль есть «мысль о государственной измене». «И даже если бы… обвиняемые здесь, в Москве, не ударили бы пальцем о палец, – говорил он, – все равно: в момент ожесточенной борьбы… даже разговоры за чашкой чаю (А.Л. Толстая лишь ставила самовар и подавала этот чай «заговорщикам» на своей квартире. – С.Д.) о том, какой строй должен сменить падающую якобы Советскую власть, являются контрреволюционным актом… Во время гражданской войны преступно не только всякое действие, всякий шаг, подготовляющий реставрацию иного порядка… преступно само бездействие».
Позднее Крыленко утверждал, что на процессе проявилось «полное раскаяние» и «сплошное самобичевание» подсудимых, однако он забыл отметить, что каялась и самобичевала себя, признавая Советскую власть, лишь часть обвиняемых: Н.Н. Виноградский, С.А. Котляревский (сразу же после суда они оказались на свободе и были прекрасно устроены на советской службе), а также С.Д. Урусов, В.М. Устинов, В.С. Муралевич, Г.В. Сергиевский, М.С. Фельдштейн и Н.Д. Кондратьев. Другие вели себя достойно и сдержанно. «Очень смело держалась Александра Львовна, погубившая себя последним словом, в котором заявила, что, будучи последовательницей отца, суда не признает и считает его насилием, особенно большевицкий суд», – писала о дочери великого писателя, получившей три года концлагеря, П.Е. Мельгунова.
То же самое можно сказать о поведении на суде и самого Мельгунова, оказавшегося центральной фигурой процесса. Он справедливо писал позднее о своих выступлениях в зале суда, что «ни искренних, ни неискренних потоков раскаяния, которые видел Крыленко в устах многих подсудимых, ни каких-то заявлений «о переломе своих убеждений» – там нет». Вот показательная выдержка на этот счет из стенографического отчета суда:
«Крыленко… Я формулирую так, что вы не можете примириться с данной формой власти и что она должна быть так или иначе уничтожена, сметена и заменена другой.
Мельгунов. Всякая власть демократическая будет для меня более приемлема, чем советская власть.
Крыленко. И в тех условиях, в которых вам приходилось действовать во второй половине 1920 г., вы считали, что все из окружавших и боровшихся с советской властью более приемлемы?
Мельгунов. Нет, потому что, когда я стал узнавать, что при Деникинской власти начался белый террор, то для меня он не был тоже приемлем. Может быть, органически я к красному террору относился более враждебно. Я не принадлежу к тем людям, которые думают, что советская власть может существовать длительный период, и если вы ставите дилемму: генералы или советская власть, – то я такой дилеммы не ставил: для меня никакая реакционная власть не приемлема.
Крыленко. Практически перед вами стояла дилемма: советская власть, Колчаковская или Деникинская власть.
Мельгунов. Я в своих показаниях сказал, что я считал, что всякая политическая власть будет лучше советской прежде всего с той точки зрения, что политически ее свергнуть будет гораздо легче».
Особенно откровенно, «без сомнений и страхов», Мельгунов сказал все, что хотел, в своем последнем слове, когда Крыленко уже потребовал для руководящей «четверки» «Тактического центра» расстрела. Он предсказал большевикам термидор и выразил свою глубокую веру в их окончательную гибель.
Ждать оставалось только самого худшего. Готовясь к смерти и не желая быть расстрелянным, Мельгунов попросил жену принести ему яд. Прасковья Евгеньевна нашла возможность передать мужу крошечный флакончик с цианистым калием во время краткого свидания в перерыве между заседаниями суда. Но в ход событий вмешался его величество случай, припрятанный яд, к счастью, не потребовался, а на алтарь революции не была принесена еще одна жертва, которая могла лишить нас всего написанного впоследствии крупным историком, лишить так же, как мы лишились того, что подарил бы русской поэзии талант расстрелянного на творческом взлете Н.С. Гумилева.
Спасло обреченных счастливое стечение обстоятельств: дни процесса совпали с успехами Красной армии, рвавшейся к Варшаве и готовой разжечь пожар мировой революции в Европе. В последний день процесса на нем в качестве своеобразного свидетеля выступил Л.Д. Троцкий. Завершая свою пылкую речь, он торжественно заявил, что «завтра Варшава будет взята», и, указав театральным жестом в сторону «четверки», закончил: «А эти нам теперь уже не страшны». В итоге Верховный революционный трибунал приговорил членов «четверки», в том числе Мельгунова, к расстрелу, но, принимая во внимание целый ряд обстоятельств, тут же постановил заменить им расстрел 10 годами тюремного заключения. Остальные подсудимые получили меньшие сроки заключения, часть из них была освобождена по амнистии или наказана условно.
Все пережитое и увиденное Мельгуновым на суде оставило у него горестные впечатления. Он вспомнил о своем опыте в 1931 г., когда в Париж из России донеслись вести о показательных процессах по делам «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков», во время которых опять зазвучали покаянные речи многих подсудимых. Историк написал статью, в которой задался вопросом: «Зачем большевики ставят» эти фальсифицированные, надуманные процессы? «Мне кажется, что всякий, хоть раз непосредственно столкнувшийся с советским «правосудием», с «революционной» судебной совестью чекистов, заседающих в трибуналах, неизбежно должен превратиться в Фому Неверного, – подчеркивал он в статье. – По своему опыту по делу «Тактического центра» лично я склонен не доверять ни одному слову официальных судебных отчетов. Фарс и трагедия переплетаются между собой. Когда читаешь показания подсудимых и их реплики на комедийном действии, именуемом большевицким судом, кажется, что между властью и подсудимыми осуществлен какой-то закулисный заговор. Власти нужен, по каким-то особым соображениям, этот «показательный» процесс, и подсудимые сознательно пошли «на клевету» на самих себя, приписывая себе действия, которые они совершать не могли. Покупают себе этим жизнь? Советское «правосудие», действительно, имеет одну своеобразную черту. Любой обвиненный в сознательном вредительстве и приговоренный даже к расстрелу через очень короткое время может оказаться на свободе, на своем старом посту и вновь с тем же успехом заниматься «вредительством»…»