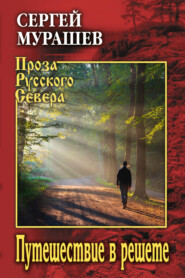По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ленты Мёбиуса
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…Заметно было, что мужик хотя и вздрогнул от неожиданности, но быстро справился с испугом. Махнул Алёше свободной рукой и громко, стараясь преодолеть голосом двойные рамы, крикнул:
– Иди сюда!!!
Когда Алёша, одевшись, вышел на улицу, мужик, всё под тем же окном, сидел на суковатой серой чурке. Трава перед домом выкошена. Благодаря этому, черёмуха и кусты шиповника, обдуваемые ветром, красуются на воле, радуясь свежим воздушным струям, огибающим их стволики-ноги. Забор, освобождённый от травы, с косо стоящими, изломанными кое-где штакетинами, ещё потерял в виде, выказал все свои изъяны. Дом же, наоборот, приосанился, стал казаться выше. Перед домом растут семейкой три цветка, явно не полевых, с крупными бутонами-колокольчиками. Рядом с цветами валяется чёрный пиджак, лежит коса. Сам мужик, в белой рубахе на выпуск, в камуфлированных брюках и кирзовых сапогах, сидит и отмахивается от мошкары бейсболкой. Заметив, что Алёша осмотрелся и перевёл взгляд на него, мужик, словно всё ещё через окно, крикнул:
– Ну спать!.. А я дай, думаю, наличник на место прилажу, чтоб тебе дом глазом не подмигивал! – Он улыбнулся; накидывая на голову бейсболку, встал с чурки и протянул руку: – Емеля!
Алёша представился, пожал протянутую руку. Ладонь шершавая, с короткими, толстыми пальцами, совсем с такими же, как вырезают у современных деревянных скульптур, поставленных где-нибудь в парке отдыха.
– Готов?! – спросил Емеля.
– К чему?
– Надо отвечать: готов всегда! Сенокос у нас, парень. Уж девять часов по солнышку, а ты всё подушку давишь. Этак можно и молодость проспать. Готов?
– Готов. А куда? – Алёша растерянно-вопросительно вытянул одну руку в сторону.
– Погоди… – остановил его Емеля. – Роса только в одиннадцатом часу сойдёт, ещё у Ани поесть успеешь. – Показал на чурку: – Давай присядем.
Чурка с торца сильно избита топором, широкая, на вид неподъёмная. Хотя и не очень удобно они уместились на ней вдвоём.
Минуты две, сидя вплотную друг к другу, молчали. Наконец Емеля не выдержал:
– Дом, видишь, на несколько венцов в землю ушёл, давит на него атмосфера. Он раньше видным был. Хорошо садится всем телом, не на один угол, а то перекосило бы. Крышу между двором и домом мы перекрыли, кой-где подлатали. Ну, забор видишь каков… – Он помолчал несколько секунд. – …А черёмуху, шиповник – всё отец твой садил. Шиповник специальный, только для цветов, по книжке выписывал. Он так и называется – роза. И вон, колокола эти, – он кивнул в сторону трёх цветков, которые слегка пошевеливал ветер, – тоже выписывал и сам садил. Теперь уж три осталось. Вымерзают… Он этих цветов… столько всяких пороздал, что на десять оранжерей будет. Всё хотел, чтоб в деревне красота жила. Так и говорил: «Хочу, чтоб в моей деревне красота жила». В моей деревне! А сам сирота, детдомовец, родных никого здесь нету. В Погосте учителем работал, каждый день на велике ездил, зимой – на лыжах. Как ты родился, опять скажет: «Мои дети с первого класса начнут в школу на лыжах ходить, и станут чемпионами мира». …А цветы его и сейчас у некоторых растут. У меня и то шепеснячок каждый год зацветает.
Емеля замолчал. Потом запел какую-то песню, но совсем тихо – слов не разобрать. Вдруг крикнул, незаметно смахнув с щеки слезу:
– Что молчишь-то!?
– …вот, – стукнул кулаком по чурке, на которой сидели, – она тоже твоего отца помнит. Я её из дровяника приволок, там всё и простояла. Я эту сосну ещё деревом знавал, в детстве даже забираться случалось. Засохла потом. С межи она, суковатая была, с самого комля суковатая, мы её твоему отцу зимой на тракторе притащили. Зима была лютая. А с дровами у него худо, всё цветочки растил. Нехватка топлива, получается. Мы и притащили несколько сушинок. И эту тоже. Распилили… А уж колол он сам. …Прихожу раз, а он с этой вот суковатистой занимается. «Отступись! – говорю. – Непосильная». – «Как, – говорит, – отступиться? Надо колоть». Я и присоветовал: «Ты её в дело пусти. Тесать на чём будешь? Опять же седулька при отдыхе». Он, видишь, и оставил. Ох и сколько всего на этом верстаке переделано. А сколько мяса порубано!.. – Он вздохнул: – Еловые лапки Георгию на похороны тоже на ней разрубали. – Встал. Видно было, что хочет ещё что-то сказать, но не решается. Глядя на нескошенную траву: за домом, у веранды, у дровяника, только добавил: – А это всё мы завтре-послезавтре облагородим. На том и порешим! Ты собрался?
11
– Сенокос, сенокос, – поломал я сотню кос, накосил я сена воз, – на грабельцах унёс! – пел иной раз Емеля, уже метавший длинными вилами. Кричал Алёше, поставленному вить копну: – Ух, и люблю, когда сеном пахнет, – ись не надо. Ты смотри, Лёшка, на тебя вся надёжа! А кому ещё робить? Нюрка – глухая. Анюта – хромая – черепаший ход. Женька – мал, я – ленив. Вся надежда на тебя, Алексей Георгиевич!
Алёша, чтоб не упасть с копны, постоянно придерживался за стожар руками, неумело цеплял небольшими деревянными граблями поданное Емелей сено, притаптывал его.
Тяжело. Тяжело ходить по кругу то в одну, то в другую сторону под сливающийся со звоном в ушах однообразный шоркот шуршащего сена, которое глубоко проседает под ногами. Жарко. Солнце палит, на копне негде спрятаться в тень. Граблевеще под рукой горячее. В волосы, в уши, в глаза, под одежду лезет, набивается колкая сенная труха. Всё на потном теле чешется, зудит… И только иной раз… дунет, повеет благодатный, неизвестно откуда-то взявшийся ветерок, заберётся под льнущую к телу рубаху… – оживит!
Алёша остановился. Свободной от граблей рукой стянув кепку, отёр ей потное, нагоревшее на солнце лицо. Проморгал несколько раз веками, чтоб вместе со слезой вышли сеннинки, попавшие в глаза. …Перед глазами плывёт, звуки слышатся приглушённо, как… сквозь наушники плеера; в висках колотит. Догадался… что теряет сознание. Облизал губы:
– …долго мне ещё около шеста ходить?
– Около шеста девки голые крутятся, а ты вокруг стожара сено укладываешь.
– Потерпи, Алёшенька, потерпи. Теперь тебе до самого конца надо. Ничего, сейчас вершить начнёшь.
– Вершить? – испугался Алёша.
– А это, Алёшенька, сужай, сужай помаленьку, – объясняла Анна, – всё ближе, ближе к стожару ходи. Делай как яйцо.
– Сейчас и так сузит, стожара мало осталось, страшно будет… – добавил Женька.
– Эх-хе-хе. – Емеля воткнул в землю вилы. – Перекур! Копну доделаем – и на обед.
…Вместе с этими словами Алёша упал в мягкое сено, облегчённо разогнул ноги. Посмотрел вниз. (Неприятно давило на затылок, голова кружилась.) …Оставшееся сено убрано и стаскано к копне. Все сенокосники стоят вместе и смотрят на Алёшу. Бородатый, сильно отчего-то щурящий глаза Емеля, в правой руке которого длинные воткнутые в землю вилы; щупленький, небольшого роста, уже опирающийся на руль своего велосипеда Женька; Анна, скинувшая платок на плечи, с растрёпанными слегка волосами, с руками, лежащими на груди так, что ладони прижаты одна к другой; Нюра, высокая, худая, в сарафане, в белом платочке … губы её явно что-то шепчут…
Алёша поднял глаза на стожар. Берёзовый… Они устанавливали его, втыкали в землю вместе с Емелей на «иииии – раз!». Стожара, правда, осталось немного. На конце его тоненькая неотрубленная веточка с единственным сохранившимся, как маленький флаг, листиком. Алёша улыбнулся этому листику, поднялся на ноги. Постоял какое-то время, придерживаясь за стожар, как за посох… Захотелось растереть лицо. Прижал к нему обе ладони. …Горячие, с набухшими мозолями… впитали они запах молодой берёзки.
– Ну что, покурил пять минут? Подаю!
Алёша кивнул.
Когда закончили вторую копну, отдохнули у Анны в доме и вышли на улицу, уже совсем завечерело.
Разыгравшийся после обеда ветер, который мешал Емеле домётывать, срывая с вил сено, совсем стих, улёгся на землю и замер. В небе, ближе к востоку, нагромождение недавно миновавших деревню туч – словно там, куда идут они, затор. А на западе чисто.
– Закат-то сегодня какой!
– Полыхает…
– Будто горит за домами!
– Чего-то будет.
– Надо просить, чтоб не было. Пойду. – Нюра перекрестилась, резко повернулась и, выйдя в калитку, пошла по дороге к своему дому. Ноги её от усталости подворачивались, но она старалась шагать прямо.
За деревней поднимался, нависал над селением ярко-красный пылающий закат. Его холодный свет отражался в реке, в стёклах рам, на стенах домов, построек, на заборах, на деревьях, и даже воздух … казался каким-то розовым. …А на востоке, среди бело-синих клубящихся туч, проявилось круто поднявшееся высоко в небо полудужье радуги.
Женька выкатил свой велосипед за калитку. Крикнул вдогонку уходящей старухе:
– Баб Нюр! А может, это жар-птица?!
* * *
Проснулся Алёша рано утром, открыл глаза – …с неожиданной радостью увидал сложенный из кругляка жёлто-коричневый щелистый потолок. С него на толстом проводе свисает лампочка. Она, словно последняя капля сбегавшей с потолка воды, нависла на патроне и вот сейчас упадёт и разобьётся мелко. …Громко отстукивают старые часы, которые починил Емеля. На стене, среди фотографий, горит живая свеча. Это солнечный свет. Он пробирается в одно из окон через узкую щель между шторкой и боковым косяком. …А на улице, сразу за домом, растёт черёмушка. Восходящее солнце глядит сквозь неё… Потому-то, когда на ветру дрожат листья черёмушки, дрожит и свет солнца, проникающий в дом через окно, – свеча на стене переливается солнечным воском – горит.
Алёша вспомнил вчерашний день, вспомнил, как Емеля, когда всё закончили, сказал: «Вот, теперь нам можно смеяться и громко разговаривать!», вспомнил похвалу Женьки: «Молодец! Как яиичко стоптал»; чувствуя, что от вчерашней работы ноют мышцы, сел на кровати. Натянув спортивки, вышел в коридор, который устроен между срубом самого дома и срубом двора. Дом сел больше двора, отчего пол в коридоре порядочно перекосило, и человеку, плохо держащему равновесие, приходится идти по стенке. Пол этот напоминал Алёше палубу попавшего в шторм или даже тонущего судна.
Алёша по скрипучей узкой лестнице спустился с коридора во двор. Причём каждая ступенька скрипела по-своему, и Алёша, прежде чем ступить на следующую… задерживал ногу, ожидая…
Постепенно глаза привыкли к сумраку.
Во дворе пыльно, грязно. И даже в воздухе пыль, может быть, поднятая Алёшей. Он громко чихнул и сам испугался своего чиха. Дышать тяжело, поэтому особенно приятно чувствовать запах подвявшей, вчера скошенной травы, который пробирается с улицы вместе со свежестью утра и пением какой-то птицы.
Посередине двора деревянное корыто, несколько бочек и ушатов, большие, видимо для лошади, сани. Алёша сел на них ссутулившись. Потеряв счёт времени, долго сидел так… Вдруг почувствовал, что на него кто-то смотрит, кто-то ощутимо толкает в спину. Алёша обернулся… – и замер завороженный. До этого он не обращал внимания на эти узенькие дорожки света, в которых, как роящаяся мошкара, кружатся пылинки…
Свет шёл сквозь большую, немного скошенную дверь, прикрытую не плотно. Внизу, в щель между дверью и косяком, пробрались во двор несколько крапивин. Они стоят, чуть наклонившись и оперевшись о порог листьями, удивлённо глядят в темноту. Удивлённо… Да, в самом деле, кажутся удивлёнными, удивительными, в этом… млечном свете, неудержимо втекающем через щёлки, через щели… Верилось уже, что сказочная крапива пробралась неведомо откуда.
– Иди сюда!!!
Когда Алёша, одевшись, вышел на улицу, мужик, всё под тем же окном, сидел на суковатой серой чурке. Трава перед домом выкошена. Благодаря этому, черёмуха и кусты шиповника, обдуваемые ветром, красуются на воле, радуясь свежим воздушным струям, огибающим их стволики-ноги. Забор, освобождённый от травы, с косо стоящими, изломанными кое-где штакетинами, ещё потерял в виде, выказал все свои изъяны. Дом же, наоборот, приосанился, стал казаться выше. Перед домом растут семейкой три цветка, явно не полевых, с крупными бутонами-колокольчиками. Рядом с цветами валяется чёрный пиджак, лежит коса. Сам мужик, в белой рубахе на выпуск, в камуфлированных брюках и кирзовых сапогах, сидит и отмахивается от мошкары бейсболкой. Заметив, что Алёша осмотрелся и перевёл взгляд на него, мужик, словно всё ещё через окно, крикнул:
– Ну спать!.. А я дай, думаю, наличник на место прилажу, чтоб тебе дом глазом не подмигивал! – Он улыбнулся; накидывая на голову бейсболку, встал с чурки и протянул руку: – Емеля!
Алёша представился, пожал протянутую руку. Ладонь шершавая, с короткими, толстыми пальцами, совсем с такими же, как вырезают у современных деревянных скульптур, поставленных где-нибудь в парке отдыха.
– Готов?! – спросил Емеля.
– К чему?
– Надо отвечать: готов всегда! Сенокос у нас, парень. Уж девять часов по солнышку, а ты всё подушку давишь. Этак можно и молодость проспать. Готов?
– Готов. А куда? – Алёша растерянно-вопросительно вытянул одну руку в сторону.
– Погоди… – остановил его Емеля. – Роса только в одиннадцатом часу сойдёт, ещё у Ани поесть успеешь. – Показал на чурку: – Давай присядем.
Чурка с торца сильно избита топором, широкая, на вид неподъёмная. Хотя и не очень удобно они уместились на ней вдвоём.
Минуты две, сидя вплотную друг к другу, молчали. Наконец Емеля не выдержал:
– Дом, видишь, на несколько венцов в землю ушёл, давит на него атмосфера. Он раньше видным был. Хорошо садится всем телом, не на один угол, а то перекосило бы. Крышу между двором и домом мы перекрыли, кой-где подлатали. Ну, забор видишь каков… – Он помолчал несколько секунд. – …А черёмуху, шиповник – всё отец твой садил. Шиповник специальный, только для цветов, по книжке выписывал. Он так и называется – роза. И вон, колокола эти, – он кивнул в сторону трёх цветков, которые слегка пошевеливал ветер, – тоже выписывал и сам садил. Теперь уж три осталось. Вымерзают… Он этих цветов… столько всяких пороздал, что на десять оранжерей будет. Всё хотел, чтоб в деревне красота жила. Так и говорил: «Хочу, чтоб в моей деревне красота жила». В моей деревне! А сам сирота, детдомовец, родных никого здесь нету. В Погосте учителем работал, каждый день на велике ездил, зимой – на лыжах. Как ты родился, опять скажет: «Мои дети с первого класса начнут в школу на лыжах ходить, и станут чемпионами мира». …А цветы его и сейчас у некоторых растут. У меня и то шепеснячок каждый год зацветает.
Емеля замолчал. Потом запел какую-то песню, но совсем тихо – слов не разобрать. Вдруг крикнул, незаметно смахнув с щеки слезу:
– Что молчишь-то!?
– …вот, – стукнул кулаком по чурке, на которой сидели, – она тоже твоего отца помнит. Я её из дровяника приволок, там всё и простояла. Я эту сосну ещё деревом знавал, в детстве даже забираться случалось. Засохла потом. С межи она, суковатая была, с самого комля суковатая, мы её твоему отцу зимой на тракторе притащили. Зима была лютая. А с дровами у него худо, всё цветочки растил. Нехватка топлива, получается. Мы и притащили несколько сушинок. И эту тоже. Распилили… А уж колол он сам. …Прихожу раз, а он с этой вот суковатистой занимается. «Отступись! – говорю. – Непосильная». – «Как, – говорит, – отступиться? Надо колоть». Я и присоветовал: «Ты её в дело пусти. Тесать на чём будешь? Опять же седулька при отдыхе». Он, видишь, и оставил. Ох и сколько всего на этом верстаке переделано. А сколько мяса порубано!.. – Он вздохнул: – Еловые лапки Георгию на похороны тоже на ней разрубали. – Встал. Видно было, что хочет ещё что-то сказать, но не решается. Глядя на нескошенную траву: за домом, у веранды, у дровяника, только добавил: – А это всё мы завтре-послезавтре облагородим. На том и порешим! Ты собрался?
11
– Сенокос, сенокос, – поломал я сотню кос, накосил я сена воз, – на грабельцах унёс! – пел иной раз Емеля, уже метавший длинными вилами. Кричал Алёше, поставленному вить копну: – Ух, и люблю, когда сеном пахнет, – ись не надо. Ты смотри, Лёшка, на тебя вся надёжа! А кому ещё робить? Нюрка – глухая. Анюта – хромая – черепаший ход. Женька – мал, я – ленив. Вся надежда на тебя, Алексей Георгиевич!
Алёша, чтоб не упасть с копны, постоянно придерживался за стожар руками, неумело цеплял небольшими деревянными граблями поданное Емелей сено, притаптывал его.
Тяжело. Тяжело ходить по кругу то в одну, то в другую сторону под сливающийся со звоном в ушах однообразный шоркот шуршащего сена, которое глубоко проседает под ногами. Жарко. Солнце палит, на копне негде спрятаться в тень. Граблевеще под рукой горячее. В волосы, в уши, в глаза, под одежду лезет, набивается колкая сенная труха. Всё на потном теле чешется, зудит… И только иной раз… дунет, повеет благодатный, неизвестно откуда-то взявшийся ветерок, заберётся под льнущую к телу рубаху… – оживит!
Алёша остановился. Свободной от граблей рукой стянув кепку, отёр ей потное, нагоревшее на солнце лицо. Проморгал несколько раз веками, чтоб вместе со слезой вышли сеннинки, попавшие в глаза. …Перед глазами плывёт, звуки слышатся приглушённо, как… сквозь наушники плеера; в висках колотит. Догадался… что теряет сознание. Облизал губы:
– …долго мне ещё около шеста ходить?
– Около шеста девки голые крутятся, а ты вокруг стожара сено укладываешь.
– Потерпи, Алёшенька, потерпи. Теперь тебе до самого конца надо. Ничего, сейчас вершить начнёшь.
– Вершить? – испугался Алёша.
– А это, Алёшенька, сужай, сужай помаленьку, – объясняла Анна, – всё ближе, ближе к стожару ходи. Делай как яйцо.
– Сейчас и так сузит, стожара мало осталось, страшно будет… – добавил Женька.
– Эх-хе-хе. – Емеля воткнул в землю вилы. – Перекур! Копну доделаем – и на обед.
…Вместе с этими словами Алёша упал в мягкое сено, облегчённо разогнул ноги. Посмотрел вниз. (Неприятно давило на затылок, голова кружилась.) …Оставшееся сено убрано и стаскано к копне. Все сенокосники стоят вместе и смотрят на Алёшу. Бородатый, сильно отчего-то щурящий глаза Емеля, в правой руке которого длинные воткнутые в землю вилы; щупленький, небольшого роста, уже опирающийся на руль своего велосипеда Женька; Анна, скинувшая платок на плечи, с растрёпанными слегка волосами, с руками, лежащими на груди так, что ладони прижаты одна к другой; Нюра, высокая, худая, в сарафане, в белом платочке … губы её явно что-то шепчут…
Алёша поднял глаза на стожар. Берёзовый… Они устанавливали его, втыкали в землю вместе с Емелей на «иииии – раз!». Стожара, правда, осталось немного. На конце его тоненькая неотрубленная веточка с единственным сохранившимся, как маленький флаг, листиком. Алёша улыбнулся этому листику, поднялся на ноги. Постоял какое-то время, придерживаясь за стожар, как за посох… Захотелось растереть лицо. Прижал к нему обе ладони. …Горячие, с набухшими мозолями… впитали они запах молодой берёзки.
– Ну что, покурил пять минут? Подаю!
Алёша кивнул.
Когда закончили вторую копну, отдохнули у Анны в доме и вышли на улицу, уже совсем завечерело.
Разыгравшийся после обеда ветер, который мешал Емеле домётывать, срывая с вил сено, совсем стих, улёгся на землю и замер. В небе, ближе к востоку, нагромождение недавно миновавших деревню туч – словно там, куда идут они, затор. А на западе чисто.
– Закат-то сегодня какой!
– Полыхает…
– Будто горит за домами!
– Чего-то будет.
– Надо просить, чтоб не было. Пойду. – Нюра перекрестилась, резко повернулась и, выйдя в калитку, пошла по дороге к своему дому. Ноги её от усталости подворачивались, но она старалась шагать прямо.
За деревней поднимался, нависал над селением ярко-красный пылающий закат. Его холодный свет отражался в реке, в стёклах рам, на стенах домов, построек, на заборах, на деревьях, и даже воздух … казался каким-то розовым. …А на востоке, среди бело-синих клубящихся туч, проявилось круто поднявшееся высоко в небо полудужье радуги.
Женька выкатил свой велосипед за калитку. Крикнул вдогонку уходящей старухе:
– Баб Нюр! А может, это жар-птица?!
* * *
Проснулся Алёша рано утром, открыл глаза – …с неожиданной радостью увидал сложенный из кругляка жёлто-коричневый щелистый потолок. С него на толстом проводе свисает лампочка. Она, словно последняя капля сбегавшей с потолка воды, нависла на патроне и вот сейчас упадёт и разобьётся мелко. …Громко отстукивают старые часы, которые починил Емеля. На стене, среди фотографий, горит живая свеча. Это солнечный свет. Он пробирается в одно из окон через узкую щель между шторкой и боковым косяком. …А на улице, сразу за домом, растёт черёмушка. Восходящее солнце глядит сквозь неё… Потому-то, когда на ветру дрожат листья черёмушки, дрожит и свет солнца, проникающий в дом через окно, – свеча на стене переливается солнечным воском – горит.
Алёша вспомнил вчерашний день, вспомнил, как Емеля, когда всё закончили, сказал: «Вот, теперь нам можно смеяться и громко разговаривать!», вспомнил похвалу Женьки: «Молодец! Как яиичко стоптал»; чувствуя, что от вчерашней работы ноют мышцы, сел на кровати. Натянув спортивки, вышел в коридор, который устроен между срубом самого дома и срубом двора. Дом сел больше двора, отчего пол в коридоре порядочно перекосило, и человеку, плохо держащему равновесие, приходится идти по стенке. Пол этот напоминал Алёше палубу попавшего в шторм или даже тонущего судна.
Алёша по скрипучей узкой лестнице спустился с коридора во двор. Причём каждая ступенька скрипела по-своему, и Алёша, прежде чем ступить на следующую… задерживал ногу, ожидая…
Постепенно глаза привыкли к сумраку.
Во дворе пыльно, грязно. И даже в воздухе пыль, может быть, поднятая Алёшей. Он громко чихнул и сам испугался своего чиха. Дышать тяжело, поэтому особенно приятно чувствовать запах подвявшей, вчера скошенной травы, который пробирается с улицы вместе со свежестью утра и пением какой-то птицы.
Посередине двора деревянное корыто, несколько бочек и ушатов, большие, видимо для лошади, сани. Алёша сел на них ссутулившись. Потеряв счёт времени, долго сидел так… Вдруг почувствовал, что на него кто-то смотрит, кто-то ощутимо толкает в спину. Алёша обернулся… – и замер завороженный. До этого он не обращал внимания на эти узенькие дорожки света, в которых, как роящаяся мошкара, кружатся пылинки…
Свет шёл сквозь большую, немного скошенную дверь, прикрытую не плотно. Внизу, в щель между дверью и косяком, пробрались во двор несколько крапивин. Они стоят, чуть наклонившись и оперевшись о порог листьями, удивлённо глядят в темноту. Удивлённо… Да, в самом деле, кажутся удивлёнными, удивительными, в этом… млечном свете, неудержимо втекающем через щёлки, через щели… Верилось уже, что сказочная крапива пробралась неведомо откуда.