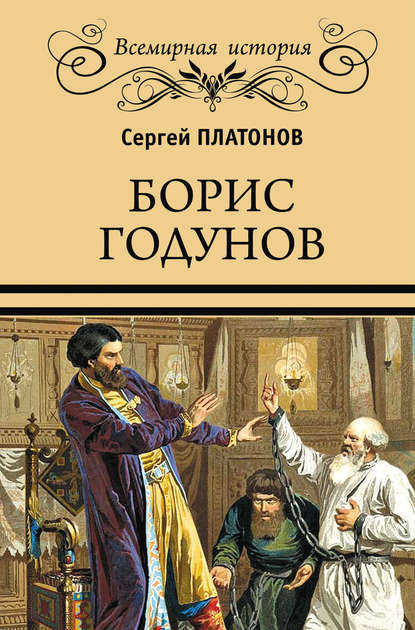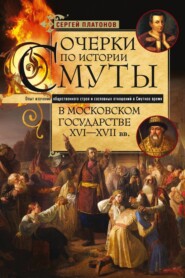По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Борис Годунов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но это было только официальное, внешнее уравнение княжат с простыми боярами. И те и другие помнили свое различие. Опираясь на «государев родословец» (официальный перечень служилых княжеских и боярских родов), княжата требовали себе первенства во дворце и на службе и считали простых бояр ниже себя по самой «породе», так как, по тогдашнему выражению, те пошли «не от великих и не от удельных князей». При случае княжата были готовы обозвать и «честных» или «больших» бояр «рабами» по отношению к себе, к «государям». Некоторые «полоумы» из ростовских князей дошли даже до того, что в 1554 году заявили недовольство на брак Грозного с Анастасией Романовной потому, что, по их мнению, это был брак недостойный: государь-де «понял робу свою» и тем «истеснил» их, княжат, ожидавших, по-видимому, его брака с царевною или княжною, по примеру Ивана III и Василия III. Но на княжеский гонор у старинных московских бояр оказывался свой гонор. Они помнили то время, когда их предки работали в Москве против удельных князей и слагали государственный порядок и народное единство в противность княжескому удельному сепаратизму. Их боярские роды были в Москве «своими» в ту пору, когда предки княжат сидели еще по уделам или служили не в Москве, а в других «великих княжениях» (Тверском, Рязанском и др.). Мысль о своем московском туземстве старые бояре и выражали в словах, что они «исконивечные государские, ни у кого не служивали, окромя своих государей» – московских князей. Память о прежних заслугах и принцип туземства помогли избранным фамилиям нетитулованного боярства удержаться в первых рядах московских сановников княжеского происхождения. «Коренное гнездо старого московского боярства, свившееся еще в XIV веке, – говорит В. О. Ключевский, – уцелело среди потока нахлынувшего в Москву знатного княжья; придавленное им наверху, вытесняемое с высшей служебной ступени, это боярство отстояло вторую ступень и господствовало на ней в XVI веке, стараясь в свою очередь придавить и пришлое боярство из уделов, и второй слой бывшего удельного княжья, пробивавшийся наверх, к своим старшим родичам». От соперничества «стараго гнезда» не поздоровилось в Москве многим княжеским ветвям. В то время как простые слуги – Морозовы, Салтыковы, Шеины, Захарьины и Шереметевы, Бутурлины, Сабуровы и Годуновы, Плещеевы – держались на вершинах служебной и придворной знати, многие князья спустились в служебные низы и «захудали». Упалых ветвей много было, например, среди ярославских и ростовских князей. «И велик, и мал в Ростовских князьях, не ровны Ростовские», – официально говорилось в XVII веке. Иван Грозный о князьях Прозоровских писал с пренебрежением, что у московских государей таких «Прозоровских было не одно сто». Иностранец Флетчер выражается еще сильнее: по его сообщению, измельчавших князей в Московском государстве «так много, что их считают за ничто, и вы нередко встретите князей, готовых служить простолюдину за 5 или 6 рублей в год; а при всем том они горячо принимают к сердцу всякое бесчестие или оскорбление прав своих».
Если появление в Москве служилых княжат оказалось тяжким житейским испытанием для коренного московского боярства, то и для государей московских княжата оказались неприятными и неверными слугами. Как объяснялся с царем Грозным князь Курбский, мы только что видели. Те же чувства вражды к государям можно было предполагать и у других представителей княжья. Грозный в своих посланиях к Курбскому много раз намекает на то, что ему были известны враждебные мысли и речи князей-бояр; он и прямо говорит Курбскому: «Колики напасти яз от вас принял, колики оскорбления, колики досады и укоризны!» Одни «укоризны» и «досады», конечно, не составляли бы политического неудобства. Власть чувствовала неудобство, во-первых, от постоянных местнических притязаний княжат, а во-вторых, от княженецких вотчин, которые оставались в руках у князей.
Местничество – очень известный обычай Древней Руси. Так повелось, что во всяком деле и во всяком собрании люди считались «породою» и «отечеством» и размещались не по заслугам и таланту, а по знатности. Обычай господствовал над умами настолько, что его признавали решительно все: и бояре, и государь, и все прочие люди. Знали, что «за службу жалует государь поместьем и деньгами, а не отечеством», а потому и терпели, что люди высокой породы властно шли по отечеству всюду на первые места, ссорились из-за этих мест и не искали воли и ласки великого государя для их занятия. Государи могли устранить отдельных неугодных им лиц, даже погубить их в своей опале; они могли «выносить» наверх своих личных любимцев. Но они не могли устранить всю среду княжеской аристократии от правительственного первенства и не могли править без этой среды государством. Надобно было изобрести какую-нибудь общую меру против княжеской аристократии, чтобы освободить монарха и его правительство от сотрудничества такой неблагонадежной помощницы. Необходимость подобной меры для успехов московского самодержавия представляется вполне ясно.
Менее ясен вопрос о так называемых княженецких вотчинах. Оставленные Москвою во владении своих прежних державных обладателей, они все-таки заботили московских государей и возбуждали их подозрительное внимание. От времени Ивана III и до конца XVI столетия идут ограничительные распоряжения о таких вотчинах: княжатам запрещается продавать их земли кому бы то ни было без ведома великого князя; иногда определенно ограничивается круг лиц, могущих наследовать и приобретать такие вотчины; иногда правительство прибегает к конфискации таких вотчин. Словом, Москва не спускает глаз с княженецкого землевладения; зато и княжата, когда возросло их влияние на дела в малолетство Грозного, прежде всего хватаются за свои княженецкие вотчины. Грозный жалуется, что при нем они возвратили себе «грады и села», взятые у княжат его дедом, и разрешили свободное обращение княженецких вотчин, запрещенных к продаже и отчуждению московскими государями до Грозного. Чем именно вызывалось такое ревнивое внимание власти к княженецкому землевладению, из документов не видно: распоряжения давались без явных мотивов. Можно только догадываться, что крупные вотчины лежали в основе экономической силы княжат, и правительство могло опасаться этой силы ввиду явной оппозиции княжат-владельцев. Кроме того, в своих владениях княжата, вековые владельцы удельных вотчин, сохраняли с их населением крепкую наследственную связь. Они были давними законными «государями» своих земель и их населения; они обладали над своими людьми правом администрации и суда как льготные землевладельцы; они жаловали «в пропитание и в вечное одержание» деревнишки духовенству и своим «служилым людям». Словом, они правили своими землями почти державным порядком и в случае надобности могли бросить подвластное им население в политическую борьбу против Москвы, особенно в тех случаях, когда пользовались любовью населения. Этого-то, по-видимому, и боялись московские государи. Неусыпным надзором и внимательным учетом думали они обезвредить княженецкие вотчины и отнять у их владельцев возможность использовать во вред Москве их материальные средства.
Можно думать, что устойчивая последовательная политика недоверия и подозрений, усвоенная Москвою в отношении княжат, имела некоторый перерыв в первые годы правления Грозного. Впечатлительный царь по молодости и по живости натуры подпал под влияние кружка своих друзей. Кружок оказался «лукавым» и «изменным»: он, по-видимому, повел княженецкую политику. По крайней мере сам Грозный, освободясь от дружеских влияний, именно в этом обвинял членов кружка: они пытались «снимать власть» с доверчивого государя, «приводили в противословие» ему бояр, самовольно и противозаконно раздавали саны и вотчины, оставляя царю только «честь первоседания» (то есть одно председательствование в их среде). Они, словом, ограничили, сколько было возможно, личный авторитет царя, а с княжат пытались снять те ограничения, какие наложены были на них суровой Москвою. Так понял дело Грозный. Когда во время его болезни (1553) обнаружилось стремление бояр-княжат передать после него царство не сыну Грозного, а его двоюродному брату Владимиру, младшему сородичу царской семьи («От четвертого удельного родился!» – восклицал о нем Грозный), то царь вовсе исцелился от симпатий к своим прежним друзьям и постепенно перешел к иного рода чувствам. В нем нарастал страх перед изменным боярством, сознание необходимости общих против него мер и озлобление против слуг, «пожелавших изменным своим обычаем быти владыками» на прежних своих уделах. Целое десятилетие (1554–1564) длилось это состояние глухой вражды и раздражения, эти поиски мероприятий для защиты царской власти и авторитета от притязаний ненадежной среды высшей княжеской знати. Наконец в исходе 1564-го и начале 1565 года Грозный надумал свою знаменитую опричнину.
Не все современники Грозного ясно понимали, что такое была эта опричнина. Русские люди думали, что царь просто «играл Божьими людьми», когда разделил свое царство на опричнину и земщину и заповедал опричнине другую «часть людей насиловати и смерти предавати». Смысла в этой «игре» деспота они не видели. «Сим земли всей велик раскол сотвори, и усомневатися всем в мыслех о бываемом», – писал Иван Тимофеев. Замысловатость исполнения задуманных Грозным мероприятий скрыла их идею и цель от не посвященных в дело простых наблюдателей, но идея и цель у Грозного были несомненно. Англичанин Флетчер, побывавший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного и обладавший официальными сведениями всей английской колонии в России, обстоятельно объяснил, что сделала на Руси опричнина. По его изложению, направленная против знати опричнина лишила «удельных князей» их наследственных земель и выселила их из старых вековых вотчин. Сопоставление указаний Флетчера с данными русских документов XVI века открывает постепенно всю картину действий Грозного в опричнине. Суть опричнины состояла в том, что царь решил применить к областям, в которых находились вотчины служилых княжат-бояр, так называемый вывод, обычно применяемый Москвой в завоеванных ею землях. Великие князья московские, покоряя какую-нибудь область, выводили оттуда наиболее видных и для них опасных людей во внутренние московские области, а в завоеванный край вселяли жителей из коренных московских мест. Это был испытанный прием государственной ассимиляции, в корень истреблявший местный сепаратизм. Это-то решительное средство, направляемое обыкновенно на внешних врагов, Грозный направил на внутреннюю «измену»: он решил вывести княжат из их удельных гнезд на новые места. Флетчер передает дело так, что царь, учредив опричнину, захватил себе вотчины князей, за исключением весьма незначительной доли, и дал княжатам другие земли в виде «поместий» (служебного казенного надела), которыми они владеют, пока угодно царю, в областях столь отдаленных, что там они не имеют ни любви народной, ни влияния, ибо они не там родились и не были там известны. По мнению Флетчера, эта мера достигла своей цели: «Высшая знать, называемая удельными князьями, сравнена с остальными; только в сознании и в чувстве народном сохраняет она некоторое значение и продолжает пользоваться внешним почетом в торжественных собраниях». Вывод княжат и конфискацию их вотчин Грозный произвел не прямо и не просто, а обставил дело такими действиями и начал его таким подходом, что возбудил, по-видимому, общее недоумение своих подданных.
Начал он с того, что покинул вовсе Москву и государство и согласился вернуться, по просьбе москвичей, лишь при условии, что ему никто не будет перечить в его борьбе с изменою: «Опала своя класти, а иных казнити, и животы их и статки [имущество, достатки] имати, а учинити ему на своем государстве себе опришнину: двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной». Особной двор и был составлен из бояр и дворян («тысячи голов» – опричников), придворной служни, московских улиц и слобод, приписанных к опричнине, и различных городов и волостей, которые государь «поймал в опричнину». Устроившись в новом дворе, Грозный начал последовательно забирать в опричнину все большее количество земель, именно тех, которые составляли старую удельную Русь и в которых сосредоточивались вотчины княжат. На землях, взятых в опричнину, царь «перебирал людишек», то есть землевладельцев: иных «принимал» к себе в новую службу, а других «отсылал», иначе говоря, выгонял прочь из их владений, давая им новые земли (и притом вместо вотчин поместья) на окраинах государства. Род за родом, семья за семьей, княжата подпадали под своеобразный пересмотр и в громадном большинстве случаев теряли старую оседлость и выбрасывались вон с наследственных гнезд. В течение двадцати последних лет царствования Грозного опричнина охватила полгосударства и разорила все удельные гнезда, сокрушив княжеское землевладение и разорвав пугавшую Грозного связь удельных «владык» с их удельными территориями. Цель Грозного была достигнута; но ее достижение сопровождалось такими последствиями, которые вряд ли были необходимы и полезны. Взамен уничтожаемых «княженецких вотчин», представлявших собою крупные земельные хозяйства, вырастали мелкие поместные участки; при их образовании разрушалась сложная хозяйственная культура, созданная многими поколениями хозяев-княжат; гибло крестьянское самоуправление, жившее в крупных вотчинах; отпускались на волю боярские холопы, менявшие сытую жизнь боярского двора на голодную бесприютность. Самый характер производимой Грозным реформы – превращения крупной и льготной формы землевладения в форму мелкопоместную и обусловленную службою и повинностями – должен был вызывать недовольство населения. А способы проведения реформы вызывали его еще более. Реформа сопровождалась террором. Опалы, ссылки и казни заподозренных в измене лиц, вопиющие насилия опричников над «изменниками», кровожадность и распущенность самого Грозного, истязавшего и губившего своих подданных во время баснословных оргий, – все это пугало и озлобляло население. Оно видело в опричнине не только необъяснимый и ненужный террор и не угадывало ее основной политической цели, которой правительство, по-видимому, и не объясняло народу прямо.
Такова была пресловутая опричнина. Направленная против знати, она терроризировала все общество; имея целью укрепление государственного единства и верховной власти, она расстраивала общественный порядок и сеяла общее недовольство. Знать была разбита и развеяна, но ее остатки не стали лучше относиться к московской династии и не потеряли оппозиционного духа, не забыли своих владельческих преданий и притязаний. Все население трепетало пред Грозным царем, не умея объяснить, почему это «многих людей государь в своей опале побил» «и в земских и в опришнине людей выбил». И не успел Грозный закрыть глаза, как в самую минуту его кончины Москва уже бурлила в открытом междоусобии по поводу того, быть ли вперед опричнине или не быть; а княжата, придавленные железною пятою тирана, уже поднимали голову и обдумывали планы своего возвращения к власти. Наблюдая московское общество в годы после смерти Грозного, Флетчер находил, что «варварские поступки» Грозного «так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно окончиться не иначе как всеобщим восстанием». Он оказался провидцем: опричнина в значительной степени обусловила собою великую Смуту, едва не погубившую Московское государство.
Вот в каких обстоятельствах боярин Борис Федорович Годунов оказался у кормила власти в Москве.
IV
В начале царствования царя Федора Ивановича внутренние отношения в боярстве московском уже не походили на то, что мы видели в боярстве до опричнины. В старое время княжата были многолюдным кругом знати, высоко державшим свою голову и свысока смотревшим на нетитулованное боярство. Опричнина истребила этот людный круг. Убыль в составе старого княжеского боярства была так велика, что, по словам В. О. Ключевского, к началу XVII века из больших княжеско-боярских фамилий прежнего времени действовали Мстиславские, Шуйские, Одоевские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Куракины, Пронские, некоторые из Оболенских и в числе их последние в роду своем Курлятевы, – «и почти только». Остальная княжеская знать бежала, казнена, вымерла, разорилась – словом, исчезла с вершин московского общества. При такой убыли – можно даже сказать, при таком разгроме – уцелеть мог лишь тот, кто послушно склонился перед Грозным и пошел служить в опричнину, отложив в новом «опришнинском» порядке службы старые претензии и признав силу нового правила, что «и велик и мал живет государевым жалованьем». В этом отношении очень показательна была судьба князей Шуйских. Они по родословцу почитались родовитейшими из князей. Как коренной великий русский род, Шуйские ставились «по отечеству» выше не только всех прочих Рюриковичей, но и старейших Гедиминовичей. И поляки считали их jure successionis haereditariae – естественными наследниками Московского царства после конца московской династии. Сами Шуйские, конечно, знали о своем родословном первенстве, выражаясь о своих предках, что они в князьях «большая братия» и «обыкли на большая места седати». Но при Грозном эта большая, или старейшая, братия смиренно пошла служить в опричнину и спасла свое существование только безусловным послушанием деспоту. Можно даже сказать, что Шуйские были единственным среди заметнейших Рюриковичей родом, все ветви которого не только уцелели, но и делали карьеру в эпоху опричнины. Казалось бы, в новых условиях жизни и службы должны были завянуть старые владельческие воспоминания и притязания Шуйских. На деле же они расцвели, как только умер Грозный и забрезжила надежда на возвращение старых доопричнинских порядков в Москве. Так же, как Шуйские, чувствовали себя и другие пережившие опричнину знатнейшие княжата. Поникнув под грозою опричнины, они подняли головы с ее концом и готовы были, вместе с Шуйскими, добывать себе утраченное первенство при дворе наследника Грозного царя Федора. Но, как далее увидим, достигнуть успеха княжатам не удалось. Остатки княжеской знати уже не составляли плотной, однородной и сплоченной среды. Брачные союзы, совершаемые в угоду Грозному, ввели в их семьи нетитулованные элементы; случайности карьеры ставили их нередко в зависимость от людей по сравнению с ними более «худородных». Княжата разбились на кружки и семьи пестрого состава, далеко не всегда согласные между собою. Старые идеалы еще довлели над умами вожаков этой среды и соединяли их в общих стремлениях – в интригах и покушениях на захват влияния и власти. Но эти интриги и покушения не имели большой силы, не шли далее придворной среды и обычно имели характер мелких житейских хитросплетений. На широкую арену общегосударственной интриги вывела княжат только самозванщина, лет через двадцать после смерти Грозного.
Таким образом, княжата потеряли в опричнине свои былые силы. А кроме того, в ту же эпоху опричнины сложилась в московском дворце новая враждебная княжеским традициям среда чисто дворцовой знати. Браки самого Грозного и его сыновей приводили в царское родство некняжеские семьи московского боярства. Последовательно входили во дворец Захарьины-Юрьевы, Годуновы, Нагие. У них у всех, по грубоватой шутке одного современника, «Бог был в кике», то есть счастье заключалось в женском повойнике или кокошнике. За дочерью или сестрой-царицей во дворце укреплялись ее отец и братья. Государь, воздвигнув гонение на княжат, вместо них «выносил наверх» женину родню и давал ей первые места, освобожденные от княжеской знати. Благодаря царской ласке родственные царю семьи укрепились очень прочно в московском правительстве и администрации и притянули туда за собою свое многочисленное родство и свойство. В особенности хорошо «царевы шурья», Захарьины-Юрьевы и Годуновы, сумели воспользоваться своим придворным положением. К концу XVI века оба этих рода обратились в большие гнезда родичей, объединенных каждое господствующею в нем семьею ближайшей царской родни. Среди Захарьиных первенствовала семья царского шурина Никиты Романовича Юрьева, среди Годуновых – семья Бориса Федоровича Годунова, также царского шурина. Вокруг Юрьевых группировались их «братья и великие друга» князья Репнины, Шереметевы, их зятья князья Черкасские, Сицкие, князь Троекуров, князь Лыков-Оболенский, князь Катырев-Ростовский, семьи Карцевых, Шестуновых и многие другие менее заметные семьи (Михалковы, Шестовы, Желябужские). Годуновы сами по себе были многолюдны и также имели свой круг, подобно Романовым-Юрьевым (Скуратовы-Бельские, Клешнины и др.). Эта знать была очень далека от вожделений княжат, помнивших удельную старину и мечтавших о возвращении к порядкам, бывшим до опричнины. Именно в пору опричнины и, быть может, благодаря ей в новом «дворе особном» Грозного эта дворцовая знать получила свое придворное и служебное первенство. Были ее члены опричниками или не были – все равно: они не могли негодовать на порядки Грозного, как негодовали истинные княжата. Носили они сами княжеский титул или нет, они были втянуты в новый круг житейских интересов, держались дворцовым фавором и уже перестали быть «княжатами» по своему духу и классовым идеалам. Для них возвращение к доопричнинским порядкам было бы утратою только что приобретенного положения во дворце.
Итак, в исходе XVI века взаимоотношения боярских групп существенно изменились по сравнению с началом этого столетия. Взамен прежних «исконивечных государских» слуг и новоприбылых «княжат» перед нами две группы смешанного состава. Обе они уже достаточно «старо» служат в Москве и обе достаточно перемешались между собою путем браков и иных житейских сближений. Обе поэтому стали пестры по составу, а в опричнине сравнялись и по служебным и местническим отношениям. Но в одной из них жил еще старый дух, цела была удельная закваска и горела ненависть к опричнине, направленной как раз на эту группу. В другой же приверженность к Москве как к давнему месту службы получила характер привязанности к династии, с которой удалось этим людям породниться и связать свои семейные интересы. Здесь, напротив, жило стремление сохранить опричнину или, точнее, тот служебный и придворный порядок, который создался во дворце как последствие опричнины и вызванного ею падения княжеской знати. Именно опричнина (или же «двор», как стали звать опричнину с 1572 года) была наиболее острым вопросом, на котором расходились и враждовали боярские группы, из-за которого они готовы были вступить между собою в борьбу. Исход этой борьбы в ту или иную сторону решил бы второй столь же острый вопрос – о том, которой из боярских групп будет принадлежать первенство во дворце и в правительстве.
Так обстояло дело в Москве в минуту смерти Ивана Грозного и в первые дни власти его преемника царя Федора Ивановича.
V
Грозный умер, неожиданно для окружавших его, 18 марта 1584 года. После него осталось два сына: старший, от первого брака, Федор и младший, от седьмой жены Грозного, – Димитрий. О старшем Федоре, которому было уже 27 лет, широко шла молва, что он слаб в умственном отношении. «Как слышно, мало имеет собственного разума», писал о нем в апреле 1584 года польско-литовский посол Лев Сапега[13 - Немногим позже Сапега лично в этом убедился; в июле того же года он писал: «Rationis vero vel parum, vel, ut ex aliorum sermone, diligentique etiam mea animadversione cognovi, prorsus nihil habet».]. – «Царь несколько помешан, – говорил о Федоре шведский король Иоанн в официальной речи в 1587 году. – Русские на своем языке называют его «durak» (thet ahr Itt wap pe svenska)». Младший «царевич», Димитрий, родился в 1582 году от седьмой жены Грозного Марии Федоровны Нагой. Хотя царь и справил должным обычаем свою «свадьбу» с седьмою супругой, но канонически это сожитие не было законным браком, и положение последнего сына Грозного царя могло возбуждать некоторые сомнения. Во всяком случае, из двух наследников Грозного только один старший был бесспорно правоспособным, и оба требовали опеки – один по малолетству, а другой по малоумию. В Москве не было сомнения, что престол принадлежит старшему. Младшего Димитрия с его роднею поспешили выслать из Москвы «на удел» – в тот удельный город Углич, который сам Грозный еще в 1572 году предназначил по своему завещанию младшему сыну (тогда – Федору). Любопытно, что очень зоркий дипломат Лев Сапега, приехавший в Москву тотчас по смерти Грозного и имевший возможность очень много знать через «шпигов» (лазутчиков), в своих письмах ничего не упоминает о Димитрии: очевидно, имя Димитрия не играло тогда никакой роли в вопросе о престолонаследии, и удаление Димитрия с его матерью и с ее роднею «на удел» не составляло заметного события для московского населения. Нагих с их «царевичем» просто убрали из предосторожности, как вообще из осторожности и подозрительности Москва принимала разнообразнейшие меры предупреждения против возможных осложнений во все важные моменты своей политической жизни.
Неспособность и малоумие царя Федора, естественно, ставили на очередь вопрос об опеке над ним. Молва говорила, что Грозный сам определил, кому из бояр быть при Федоре опекунами и «поддерживать царство». Современники называли определенно имена важнейших бояр, удостоенных чести править государством. Карамзин поверил их сообщениям и создал такое представление, что при Федоре действовала формально боярская «пентархия», состоявшая из князей И. Ф. Мстиславского и И. П. Шуйского, бояр Н. Р. Юрьева и Б. Ф. Годунова и любимца Грозного оружничего Б. Я. Бельского. За Карамзиным о пентархии говорили и другие историки. Однако ближайшее знакомство с документами той эпохи никакой «пентархии» не открывает. При Федоре просто собрались его ближайшие родственники: его родной дядя по матери Никита Романович Юрьев, его троюродный брат князь Иван Федорович Мстиславский с сыном Федором Ивановичем и его шурин Борис Федорович Годунов. По свойству и родству со всеми этими тремя фамилиями имел во дворце значение князь Иван Петрович Шуйский, и, наконец, стремился удержать свое положение царского фаворита Богдан Яковлевич Бельский, который в последние годы Грозного пользовался большою любовью и доверием царя, хотя и не был пожалован в бояре. Эти лица не все одинаково дружили друг с другом. По-видимому, Бельский готов был на интригу против прочих, а Годунов выжидал, не выступая пока на первый план.
2 апреля интрига вскрылась. После приема литовского посла Льва Сапеги, когда бояре разъехались из Кремля по домам обедать, Бельский, опираясь на стрельцов, затворил Кремль и пытался убедить царя Федора сохранить «двор и опричнину» так, как было при его умершем отце. По-видимому, он думал присвоить себе при этом первую роль как старому опричнику и устранить от царя «земских бояр» – князя Мстиславского и Юрьева. Бояре получили тотчас же весть о происходящем в Кремле и бросились туда. Стрельцы Бельского, однако, отказались пропустить их в Кремль: успели туда проникнуть только Мстиславский «сам-третей» и Юрьев «сам-друг» – без обычной боярской свиты. Тогда их люди подняли крик, боясь, что Бельский погубит их господ; стрельцы же начали их бить. На шум сбежался народ: дело было у кремлевских стен на Красной площади, где всегда была толпа у торговых рядов. Пошел слух, что Бельский хочет побить – или уже и побил – бояр. Толпа рвалась в Кремль, стрельцы начали в нее стрелять и, по сведениям Л. Сапеги, человек двадцать убили. Началось прямое междоусобие: народ собрался штурмовать Кремль. К черни пристали «ратные люди», дворяне разных городов; добыли большую пушку («Царь-пушку», как говорит летописец) и хотели ею «выбить вон» Спасские ворота. Из Кремля предупредили приступ. Земским боярам как-то удалось справиться во дворце с Бельским и освободить царя Федора от его внушений. Они вышли из Кремля к народу на площадь и спрашивали народ о причине его возмущения. Толпа требовала выдачи Бельского, потому что «он хочет извести царский корень и боярские роды». Озлобление против интригана оказалось так велико, что боярам легко было отделаться от Бельского. Не выдавая его толпе, они решили его сослать в Нижний Новгород, о чем царским именем немедленно же и сказали народу. Москва успокоилась, и Бельский сошел со сцены надолго. Молва говорила, что он старался удержать в силе опричнину не для себя, а для того, чтобы «подыскати под царем Федором царства Московского своему советнику»; некоторые видели в этом советнике Бориса Годунова. Однако в 1584 году Борису было еще рано «подыскивать царства». Все дело Бельского прошло без участия Бориса, и в результате Борис ни выиграл, ни проиграл. Выиграли дело старейшие бояре; «опричнина» с Бельским официально ушла из дворца и государства. У дел встал Никита Романович, которому, по общему признанию, принадлежала действительная опека над его родным племянником царем Федором, а вместе с нею и правительственное первенство.
Никита Романович Юрьев был стар; в августе 1584 года его постигла тяжкая болезнь, по всем вероятиям – удар, и он сошел с политической арены. Немедля выяснилось, что его место – царского опекуна и правителя государства – займет царский шурин Борис Годунов. На первый взгляд это не казалось столь очевидным; на первом месте в боярском списке стоял старик князь И. Ф. Мстиславский, а не Годунов. Кроме чиновного первенства, он, как и Борис, обладал драгоценным для того времени преимуществом – родством с царской семьею. Правда, родство было не близкое (Иван Федорович Мстиславский был сыном двоюродного брата Ивана Грозного, иначе – внуком сестры великого князя Василия III), но оно было давнее и потому сравнительно ценное. Однако Годунов перешел дорогу Мстиславскому, так как болезнь Никиты Романовича обнаружила близость Юрьевых именно к Годунову и засвидетельствовала какое-то соглашение между этими боярами, союз или связь их семей. Общая почва для такой связи ясна: и та и другая семья принадлежала к позднейшему кругу московской дворцовой знати, обе держались благоволением Грозного и родством с Федором; обе имели одинаковые интересы во дворце и одних и тех же завистников и врагов. Союз их был естественным; но он не просто существовал, а был создан и оформлен. Современники знали, что Никита Романович «вверил Борису соблюдение о чадах своих». Эти «чада» были еще молоды, нуждались в поддержке и руководстве на трудном придворном пути, и заболевший старик поручил их тому же боярину, которому передавал и попечительство над царем. В свою очередь Борис «клятву страшну тем сотвори – яко братию и царствию помогателя имети», то есть поклялся считать их за братьев и помощников в деле управления. Так возник «завещательный союз дружбы» между двумя виднейшими семьями дворцовой знати, не хотевшими выпустить из своих рук фавор и власть. Дворцовое влияние эти семьи могли отстоять и сами, а власть в правительстве помогли им освоить и укрепить за собою виднейшие дельцы того времени думные дьяки братья Андрей и Василий Щелкаловы. Старший из них, Андрей Яковлевич, был в теснейшей близости с Никитою Романовичем, с которым вместе много лет служил Грозному; а затем сблизился он и с Борисом. Есть сведения, что для Бориса он был «наставником и учителем» в деле житейского преуспеяния: «Како преходну быти ему от нижайших на высокая, и от малых на великая, и от меньших на большая и одолевати благородная» (слова Ив. Тимофеева). Между Борисом и Щелкаловым существовала будто бы «клятва крестоклятвена», чтобы им, согласно всем трем, искать преобладания в правительстве – «к царствию утвержения», как выразился современник. Таким образом, ко времени болезни Никиты Романовича в Москве образовался крепкий союз деловых людей, направивший свои силы против родовой знати в пользу определенных семей царской родни.
Переход власти от Н. Р. Юрьева к Борису, по-видимому, был дурно принят родовитейшими боярами и повел к «розни и недружбе боярской». По словам летописца, бояре «розделяхуся надвое»: одну сторону составили Годуновы (Борис «с дядьями и с братьями»), другую – князь И. Ф. Мстиславский. К Годуновым «пристали и иные бояре, и дьяки, и думные, и служивые многие люди», а с князем Мстиславским были князья Шуйские и Воротынские, Головины, Колычевы «и иные служивые люди и чернь московская». Началась борьба за придворное влияние и положение, и Борис, по словам летописи, «осиливал». При Грозном дело не обошлось бы без крови; теперь же борьба разрешилась мягче. Сначала пострадали Головины: в конце 1584 года их устранили от должностей (казначеев), причем один из Головиных сбежал в Литву. Затем старший Мстиславский, Иван Федорович, служивший во дворце с 1541 года, был сослан в Кириллов монастырь и там был пострижен в монахи[14 - Есть предание, записанное под 7093 (1583) годом одним летописцем (в так называемой Латухинской книге), что, по наущению бояр, Мстиславский «умысли в дому своем пир сотворити и, Бориса призвав, тогда его убити», но что «Борису о том сказаша, он же нача изберегатися и невредим от них бысть».]. По глухому сообщению летописца, другие противники Бориса были разосланы по дальним городам, а кое-кто попал в тюрьму. Но, очевидно, это «гонение» не простиралось далеко: летописец не указывает поименно жертв Бориса, сосланных и заключенных, кроме названных выше; а из документов видно, что после пострижения старика Мстиславского его сын, князь Федор Иванович, наследовал его первенство в боярском списке и, таким образом, не пострадала даже семья главного противника Бориса.
Устранение старого Мстиславского по времени совпало с кончиною Никиты Романовича Юрьева (весна 1585 года). На вершинах боярства стояли теперь друг против друга Борис Годунов и князья Шуйские, выступившие на первый план с удалением Мстиславского. Шуйские желали продолжать борьбу с временщиком и повели ее осторожно и столь хитроумно и сложно, что раскрыть их замыслы представляет большую трудность. Зачем-то они вовлекли в свою интригу общественные низы: «Стали измену делать [выражалось о них правительственное сообщение], на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками». Слово «торговые» надо в данном случае перевести словом «площадные». Шуйские возбудили против Бориса московскую площадную толпу. В первой половине 1587 года в Москве произошел уличный беспорядок, направленный против господства Годуновых: «В Кремле-городе в осаде сидели и стражу крепкую поставили». Когда же отсиделись и справились с толпою, то начали «розыск» – следствие, по которому главными виновниками были признаны князья Андрей Иванович и Иван Петрович Шуйские. Их постигла государева опала: они были сосланы, имущество их конфисковано. Молва говорила, что в ссылке пристава Шуйских позаботилась об ускорении их кончины. Приятели Шуйских Колычевы, Татевы и другие были также сосланы. Их «люди» (холопы) и «торговые мужики» подверглись пыткам, а шесть или семь из них были даже казнены, «главы им отсекоша». Московское правосудие за одно и то же дело всегда карало боярина ссылкой, а «мужика-вора» смертною казнью. В чем именно оказались виноваты потерпевшие на пытках и в ссылках, никто из современников прямо не объясняет. Можно только догадываться, что «площадь» пыталась учинить «мирское челобитье» о том, о чем ее научили просить враждебные Борису бояре и о чем рискнул просить царя вместе с боярами и московский митрополит Дионисий. Просили царя не более и не менее как о том, «чтобы ему, государю, вся земля державы царские своея пожаловати: прияти бы ему вторый брак, а царицу первого брака Ирину Федоровну пожаловати отпустити в иноческий чин; и брак учинити ему царского ради чадородия». Дело в том, что у царя не было детей; та мысль, что у царя был брат Дмитрий, видимо, не играла никакой роли; боялись прекращения династии и думали избежать этого бедствия, устранив неплодную царицу. Забота о благополучии династии была, конечно, благовидна и лояльна; но она была внушена Шуйским и их сторонникам не одною любовью к династии и государству, но еще и надеждой, что вместе с удалением царицы падет и ее брат Борис, ненавистный челобитчикам. Расчет был тонок и хитер, но оказался неосновательным. Челобитчики все-таки ошиблись: если бы Ирина была действительно неплодна, их челобитье имело бы смысл; но царица несколько раз перенесла несчастные роды до тех пор, пока у нее родилась дочь Феодосия (1592). Поэтому речь о разводе была преждевременна и очень бестактна, а вмешательство площадной толпы в такое интимное дело могло представиться дерзким и преступным. Сохраняя порядочность и достоинство власти, Борис мог говорить, что Шуйские «стали перед государем измену делать, неправду, на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками… а мужики, надеясь на государскую милость, заворовали было, не в свое дело вступились, к бездельникам пристали». Митрополит Дионисий, поддержавший своим участием «бездельное» челобитье, оказался в ложном наложении и должен был оставить митрополию и удалиться в монастырь, потому что тоже «к бездельникам пристал».
Так столкновения с виднейшими представителями знати окончились для Бориса полным торжеством, причем Борис имел вид человека не нападавшего, а только оборонявшегося. Не он вел интригу, он, по словам летописи, лишь «осиливал» своих врагов, которые на него покушались. Он опекал царя и «поддерживал» под ним власть; они же «ему противляхуся и никакож ему поддавахуся ни в чем». Преследования бояр имели вид наказания за сопротивление законной власти и за покушение на семейную жизнь царя. Преследование не напоминало жестокостей Грозного. Бояр не губили (по крайней мере, явно), людей ссылали и казнили по розыску и суду. На Бориса можно было злобиться и злословить, но его нельзя было сравнить с Грозным и назвать тираном и деспотом. Прием власти стал иным, и недаром правительство указывало, что мужики «заворовали», «надеясь на государеву милость».
VI
С кончиною Н. Р. Юрьева, удалением И. Ф. Мстиславского и опалою Шуйских к лету 1587 года в Москве уже не было никого, кто мог бы соперничать с Борисом. Дети Юрьева, известные в Москве под фамильным именем Никитичей и Романовых, были пока в «соблюдении» у Бориса за его хребтом, по старинному выражению. Младший Мстиславский не имел личного влияния. Прочие бояре и не пытались оспаривать первенства у Бориса. Борис торжествовал победу и принял ряд мер к тому, чтобы оформить и узаконить свое положение у власти при неспособном к делам государе. Меры эти очень остроумны и интересны.
Официально царь Федор Иванович, конечно, не почитался тем, кем, как мы видели выше, обозвал его шведский король, усвоив выражение московского просторечия. О неспособности и малоумии Федора не говорилось. Указывали на чрезвычайную богомольность и благочестие царя: «Зело благочестив и милостив ко всем, кроток и незлоблив, милосерд, нищелюбив и странноприимец». Богомольность Федора была, по-видимому, всем известна. Из нее выводили два следствия. Во-первых, Федор угодил Богу своим благочестием и привлек на свое царство Божие благоволение; Бог послал ему тихое и благополучное царствование, и тихий царь молитвою управлял лучше, чем разумом. Во-вторых, благодетельствуя своему народу как угодник Божий, Федор не почитал необходимым сам вести дело управления: он избегал «мирской докуки», удалялся от суеты и, устремляясь к Богу, возложил ведение дел на Бориса. В царе Федоре «иночества дела потаено диадимою покровены»; в нем «купно мнишество с царствием соплетено без раздвоения едино другого украшаше». Царь, инок без рясы и пострижения, «время всея жизни своея в духовных подвизех изнурив», не мог обойтись без правителя. При таком государе «правительство» Бориса получало чрезвычайную благовидность: он не просто попечитель над малоумным, он доверенный помощник и по родству исполнитель воли осиянного благодатью Господнею монарха. На особую близость Бориса к царю и на особую доверенность царя к Борису в Москве любили указывать, – конечно, по велению самого правителя. Уже в 1585 году один из московских дипломатов говорил за границей, в Польше, официально о Борисе, что «то – великий человек боярин и конюший, а се государю нашему шурин, а государыне нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил и о земле великой печальник». «Великого человека» представляли и англичанам как «кровного приятеля» царского и «правителя государства» (livetenant of the empire) еще в 1586 году, задолго до той поры, когда Борису усвоены официально были права регента в международных сношениях. По сообщениям из Москвы бывшие в сношениях с Москвою иностранные правительства привыкли адресоваться к Борису как к соправителю и родственнику московского государя. Таким образом, Борис постарался создать о себе общее представление как о лице, принадлежащем к династии, и естественном соправителе благочестивейшего государя.
Исключительное правительственное положение Бориса, кроме общего житейского признания, должно было получить и внешнее официальное выражение. У некоторых современников-иностранцев находится запись (у Буссова и Петрея) о том, «что будто бы царь Федор, тяготясь правлением, предоставил боярам избрать ему помощника и заместителя. Был избран именно Борис. Тогда известною церемонией, в присутствии вельмож Федор снял с себя золотую цепь и возложил ее на Бориса, говоря, что «вместе с этой цепью он снимает с себя бремя правления и возлагает его на Бориса, оставляя за собою решение только важнейших дел». Он будто бы желал остаться царем («ich will Kayser seyn»), а Борис должен был стать правителем государства (Gubernator der Reussischen Monarchiae). Уже Н. М. Карамзин отнесся к этому рассказу с явным сомнением: в нем действительно мало соответствия московским обычаям. Вряд ли Борис нуждался в подобной церемонии боярского избрания и царской инвеституры: она только дразнила бы его завистников-бояр. Борис достигал своего другими способами.
Во-первых, он усвоил себе царским пожалованием исключительно пышный и выразительный титул. Нарастая постепенно, этот титул получил такую форму: государю великому шурин и правитель, слуга и конюший боярин и дворовый воевода и содержатель великих государств, царства Казанского и Астраханского. Значение этого титула пояснил своими словами посол в Персии князь Звенигородский так: «Борис Федорович не образец никому», «у великого государя нашего… многие цари, и царевичи, и королевичи, и государские дети служат, а у Бориса Федоровича всякой царь, и царевичи, и королевичи любви и печалованья к государю просят, а Борис Федорович всеми ими по их челобитью у государя об них печалуется и промышляет ими всеми». Неумеренная гипербола этого отзыва направлена была к тому, чтобы хорошенько объяснить «правительство» Годунова и его превосходство над всеми титулованными слугами московского государя.
Во-вторых, Борис добился того, что Боярская дума несколькими «приговорами», постановленными в присутствии самого царя, усвоила Борису официально право сношения с иностранными правительствами в качестве высшего правительственного лица. Право было дано на том основании, что к иностранным дворам «от конюшего и боярина от Бориса Федоровича Годунова грамоты писати пригоже ныне и вперед: то его царскому имени к чести и к прибавленью, что его государев конюший боярин ближний Борис Федорович Годунов ссылатись учнет с великими государи». С тех пор (1588–1589) начали общим порядком «от Бориса Федоровича писати грамоты в Посольском приказе, и в книги то писати особно, и в посольских книгах под государевыми грамотами». Борис как правитель выступил в сфере международной и благодаря этому окончательно стал вне обычного порядка московских служебных отношений, поднявшись над ним как верховный руководитель московской политики. Способ, каким «писали в посольских книгах» об участии Бориса в дипломатических переговорах, явно клонился к преувеличенному возвышению «правителя». Вот как, например, просил – в московском официальном изложении – цесарский посол Бориса о помощи против турок: «И посол говорил и бил челом Борису Федоровичу: “Цесарское величество велел тебе, великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси и самодержца его царского величества шурину, вашей милости Борису Федоровичу бити челом, и всю надежду держит на ваше величество, чтобы ваша милость был печальник царскому величеству, чтоб царское величество брата своего цесарского величества челобитье не презрел, учинил бы ему помочь против христьянского неприятеля Турского царя”». На такую смиренную просьбу императора Борис дает простой и благосклонный ответ: «О которых естя делех со мною говорили, и яз те все дела донесу до царского величества, и на те вам дела ответ будет иным временем». Так или не так объяснялся Борис с послом – все равно: официальная запись делала Бориса между двумя «величествами» – царем и цесарем – третьим «величеством», правителем царства, который «правил землю рукою великого государя».
В-третьих, наконец, Борис установил для своих официальных выступлений как в царском дворце, так и на своем «дворе» старательно обдуманный «чин» (этикет), тонкости которого были направлены, как и официальные записи, к тому, чтобы сообщить особе Бориса значение не простого государева слуги, а соправителя «величества». Во дворце, во время посольских приемов, Борис присутствовал в особой роли: он стоял у самого трона, «выше рынд», тогда как бояре сидели поодаль «в лавках». В последние годы царствования Федора Борис обычно при этом держал «царского чину яблоко золотое», что и служило наглядным знаком его «властодержавного правительства». Когда в официальных пирах «пили чаши государевы», то вместе с тостами за царя и других государей следовал тост и за Бориса, «пили чашу слуги и конюшего боярина Бориса Федоровича». Иноземные послы, приезжавшие в Москву, после представления государю представлялись и Борису, притом с большою торжественностью. У Бориса был свой двор и свой придворный штат. Церемония «встречи» послов на Борисовом дворе, самого представления их правителю, отпуска и затем угощения (посылки послам «кормов») была точною копиею царских приемов. Борису «являли послов» его люди: встречал на лестнице «дворецкий», в комнату вводил «казначей», в комнате сидели, как у царя бояре, Борисовы дворяне – «отборные немногие люди в наряде – в платье в золотном и в чепях золотых». Прочие люди стояли «от ворот по двору по всему, и по крыльцу, и по сенем, и в передней избе». Послы подносили Борису подарки («поминки») и величали его «пресветлейшим вельможеством» и «пресветлым величеством». Послам всячески давалось понять, что Борис есть истинный носитель власти в Москве и что все дела делаются «по повеленью великого государя, а по приказу царского величества шурина». После приема у себя Борис потчевал послов на их «подворье», как это делал и государь, «ествою и питьем», причем по обилию и роскоши стол не уступал царскому: например, «посылал Борис Федорович к цесареву послу на подворье с ествою и с питьем дворянина своего Михаила Косова, а с ествы послано на сте на тринадцати блюдех да питья в осми кубках да в осми оловяникех».
Если к перечисленным отличиям Бориса присоединим еще то, что в его руках сосредоточились за время регентства весьма значительные личные богатства, то получим последнюю черту для характеристики его положения. Англичане, бывшие в Москве во время Бориса, прямо поражались его богатству. Флетчер, очень трезвый и основательный наблюдатель, сообщает нам точную (но, к сожалению, не поддающуюся документальной проверке) сумму ежегодных доходов Бориса – «93 700 рублей и более». Приводя же различные слагаемые этой суммы, Флетчер сам превышает свой итог и по различным статьям прихода Бориса насчитывает 104 500 рублей. В счет Флетчера входят: доходы Бориса с вотчин (в Вязьме и Дорогобуже) и с поместий во многих уездах; доходы с области Ваги, с Рязани и Северы, с Твери и Торжка; доходы с оброчных статей в самой Москве и вокруг нее по Москве-реке; жалованье по должности конюшего и, наконец, «пенсия от государя». Изо всех других вельмож московских по размерам своего дохода к Борису несколько подходил только его свояк князь Глинский, который, по счету Флетчера, имел до 40 000 рублей в год; остальная знать будто бы далеко отставала от них в богатстве. Горсей, другой англичанин, хорошо знакомый с русскими делами времени Бориса, гиперболичен еще более Флетчера в исчислении Борисовых богатств: по его счету общая сумма доходов Бориса равнялась 185 000 фунтам стерлингов (или марок, или рублей). «Борис Федорович и его дом, – говорит Горсей, – пользовались такой властью и могуществом, что в какие-нибудь сорок дней могли поставить в поле 100 000 хорошо снаряженных воинов».
Как ни преувеличены эти отзывы, они свидетельствуют о том, что в руках Бориса сосредоточилось все, что потребно было для политического господства: придворный фавор и влияние, правительственное первенство и громадные по тому времени средства. Приблизительно с 1588–1589 гг. «властодержавное правительство» Бориса было узаконено и укреплено. Бороться с ним не было возможности: для борьбы уже не стало законных средств; да ни у кого не хватало и сил для нее. «С этих пор, – говорит К. Н. Бестужев-Рюмин, – политика московская есть политика Годунова».
VII
Если бы господство и власть Бориса Годунова основывались только на интриге, угодничестве и придворной ловкости, положение его в правительстве не было бы так прочно и длительно. Но, без всякого сомнения, Борис обладал крупным умом и правительственным талантом и своими качествами превосходил всех своих соперников. Отзывы о личных свойствах Бориса у всех его современников сходятся в том, что признают исключительность дарований Годунова. Иван Тимофеев ярче других характеризует умственную силу Бориса: он находит, что хотя в Москве и были умные правители, но их «разумы» можно назвать только «стенью» (то есть тенью) или подобием разума Бориса, и при этом он замечает, что такое превосходство Бориса было общепризнанным, «познано есть во всех». Не менее хвалебно отзывается о Годунове и другой его современник, автор «написания вкратце о царях московских»; он говорит: «Царь же Борис благолепием цветущ и образом своим множество людей превосшед… муж зело чуден, в рассужении ума доволен и сладкоречив вельми, благоверен и нищелюбив и строителен зело [то есть распорядителен, хозяйствен]». Иностранцы вторят таким отзывам москвичей. Буссов, например, говорит, что, по общему мнению, никто не был способнее Бориса к власти по его уму и мудрости («Dem keiner Im gantzen Lande an Weissheit und Verstande gleich ware»). Голландец Масса, вообще враждебный Борису, признает, однако, его способности: по его словам, Борис имел огромную память и, хотя не умел, будто бы, ни читать, ни писать, тем не менее все знал лучше тех, которые умели писать. Масса думает, что если бы дела шли по желанию Бориса, то он совершил бы много великих дел. Словом, современники почитали Бориса выдающимся человеком и полагали, что он по достоинству своему получил власть и хорошо ею распоряжался, «в мудрость жития мира сего, яко добрый гигант облечеся [по выражению князя Ив. А. Хворостинина] и приим славу и честь от царей». Несмотря на распространенность мнения о неграмотности Бориса, надлежит считать его человеком для его времени просвещенным. Те, которые считали Бориса неграмотным, просто ошибались: сохранилось несколько подписей Бориса под «данными» грамотами[15 - Факсимиле их можно видеть в «Чтениях Московского общества истории и древностей российских» за 1897 год, книга 1.]
Если появление в Москве служилых княжат оказалось тяжким житейским испытанием для коренного московского боярства, то и для государей московских княжата оказались неприятными и неверными слугами. Как объяснялся с царем Грозным князь Курбский, мы только что видели. Те же чувства вражды к государям можно было предполагать и у других представителей княжья. Грозный в своих посланиях к Курбскому много раз намекает на то, что ему были известны враждебные мысли и речи князей-бояр; он и прямо говорит Курбскому: «Колики напасти яз от вас принял, колики оскорбления, колики досады и укоризны!» Одни «укоризны» и «досады», конечно, не составляли бы политического неудобства. Власть чувствовала неудобство, во-первых, от постоянных местнических притязаний княжат, а во-вторых, от княженецких вотчин, которые оставались в руках у князей.
Местничество – очень известный обычай Древней Руси. Так повелось, что во всяком деле и во всяком собрании люди считались «породою» и «отечеством» и размещались не по заслугам и таланту, а по знатности. Обычай господствовал над умами настолько, что его признавали решительно все: и бояре, и государь, и все прочие люди. Знали, что «за службу жалует государь поместьем и деньгами, а не отечеством», а потому и терпели, что люди высокой породы властно шли по отечеству всюду на первые места, ссорились из-за этих мест и не искали воли и ласки великого государя для их занятия. Государи могли устранить отдельных неугодных им лиц, даже погубить их в своей опале; они могли «выносить» наверх своих личных любимцев. Но они не могли устранить всю среду княжеской аристократии от правительственного первенства и не могли править без этой среды государством. Надобно было изобрести какую-нибудь общую меру против княжеской аристократии, чтобы освободить монарха и его правительство от сотрудничества такой неблагонадежной помощницы. Необходимость подобной меры для успехов московского самодержавия представляется вполне ясно.
Менее ясен вопрос о так называемых княженецких вотчинах. Оставленные Москвою во владении своих прежних державных обладателей, они все-таки заботили московских государей и возбуждали их подозрительное внимание. От времени Ивана III и до конца XVI столетия идут ограничительные распоряжения о таких вотчинах: княжатам запрещается продавать их земли кому бы то ни было без ведома великого князя; иногда определенно ограничивается круг лиц, могущих наследовать и приобретать такие вотчины; иногда правительство прибегает к конфискации таких вотчин. Словом, Москва не спускает глаз с княженецкого землевладения; зато и княжата, когда возросло их влияние на дела в малолетство Грозного, прежде всего хватаются за свои княженецкие вотчины. Грозный жалуется, что при нем они возвратили себе «грады и села», взятые у княжат его дедом, и разрешили свободное обращение княженецких вотчин, запрещенных к продаже и отчуждению московскими государями до Грозного. Чем именно вызывалось такое ревнивое внимание власти к княженецкому землевладению, из документов не видно: распоряжения давались без явных мотивов. Можно только догадываться, что крупные вотчины лежали в основе экономической силы княжат, и правительство могло опасаться этой силы ввиду явной оппозиции княжат-владельцев. Кроме того, в своих владениях княжата, вековые владельцы удельных вотчин, сохраняли с их населением крепкую наследственную связь. Они были давними законными «государями» своих земель и их населения; они обладали над своими людьми правом администрации и суда как льготные землевладельцы; они жаловали «в пропитание и в вечное одержание» деревнишки духовенству и своим «служилым людям». Словом, они правили своими землями почти державным порядком и в случае надобности могли бросить подвластное им население в политическую борьбу против Москвы, особенно в тех случаях, когда пользовались любовью населения. Этого-то, по-видимому, и боялись московские государи. Неусыпным надзором и внимательным учетом думали они обезвредить княженецкие вотчины и отнять у их владельцев возможность использовать во вред Москве их материальные средства.
Можно думать, что устойчивая последовательная политика недоверия и подозрений, усвоенная Москвою в отношении княжат, имела некоторый перерыв в первые годы правления Грозного. Впечатлительный царь по молодости и по живости натуры подпал под влияние кружка своих друзей. Кружок оказался «лукавым» и «изменным»: он, по-видимому, повел княженецкую политику. По крайней мере сам Грозный, освободясь от дружеских влияний, именно в этом обвинял членов кружка: они пытались «снимать власть» с доверчивого государя, «приводили в противословие» ему бояр, самовольно и противозаконно раздавали саны и вотчины, оставляя царю только «честь первоседания» (то есть одно председательствование в их среде). Они, словом, ограничили, сколько было возможно, личный авторитет царя, а с княжат пытались снять те ограничения, какие наложены были на них суровой Москвою. Так понял дело Грозный. Когда во время его болезни (1553) обнаружилось стремление бояр-княжат передать после него царство не сыну Грозного, а его двоюродному брату Владимиру, младшему сородичу царской семьи («От четвертого удельного родился!» – восклицал о нем Грозный), то царь вовсе исцелился от симпатий к своим прежним друзьям и постепенно перешел к иного рода чувствам. В нем нарастал страх перед изменным боярством, сознание необходимости общих против него мер и озлобление против слуг, «пожелавших изменным своим обычаем быти владыками» на прежних своих уделах. Целое десятилетие (1554–1564) длилось это состояние глухой вражды и раздражения, эти поиски мероприятий для защиты царской власти и авторитета от притязаний ненадежной среды высшей княжеской знати. Наконец в исходе 1564-го и начале 1565 года Грозный надумал свою знаменитую опричнину.
Не все современники Грозного ясно понимали, что такое была эта опричнина. Русские люди думали, что царь просто «играл Божьими людьми», когда разделил свое царство на опричнину и земщину и заповедал опричнине другую «часть людей насиловати и смерти предавати». Смысла в этой «игре» деспота они не видели. «Сим земли всей велик раскол сотвори, и усомневатися всем в мыслех о бываемом», – писал Иван Тимофеев. Замысловатость исполнения задуманных Грозным мероприятий скрыла их идею и цель от не посвященных в дело простых наблюдателей, но идея и цель у Грозного были несомненно. Англичанин Флетчер, побывавший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного и обладавший официальными сведениями всей английской колонии в России, обстоятельно объяснил, что сделала на Руси опричнина. По его изложению, направленная против знати опричнина лишила «удельных князей» их наследственных земель и выселила их из старых вековых вотчин. Сопоставление указаний Флетчера с данными русских документов XVI века открывает постепенно всю картину действий Грозного в опричнине. Суть опричнины состояла в том, что царь решил применить к областям, в которых находились вотчины служилых княжат-бояр, так называемый вывод, обычно применяемый Москвой в завоеванных ею землях. Великие князья московские, покоряя какую-нибудь область, выводили оттуда наиболее видных и для них опасных людей во внутренние московские области, а в завоеванный край вселяли жителей из коренных московских мест. Это был испытанный прием государственной ассимиляции, в корень истреблявший местный сепаратизм. Это-то решительное средство, направляемое обыкновенно на внешних врагов, Грозный направил на внутреннюю «измену»: он решил вывести княжат из их удельных гнезд на новые места. Флетчер передает дело так, что царь, учредив опричнину, захватил себе вотчины князей, за исключением весьма незначительной доли, и дал княжатам другие земли в виде «поместий» (служебного казенного надела), которыми они владеют, пока угодно царю, в областях столь отдаленных, что там они не имеют ни любви народной, ни влияния, ибо они не там родились и не были там известны. По мнению Флетчера, эта мера достигла своей цели: «Высшая знать, называемая удельными князьями, сравнена с остальными; только в сознании и в чувстве народном сохраняет она некоторое значение и продолжает пользоваться внешним почетом в торжественных собраниях». Вывод княжат и конфискацию их вотчин Грозный произвел не прямо и не просто, а обставил дело такими действиями и начал его таким подходом, что возбудил, по-видимому, общее недоумение своих подданных.
Начал он с того, что покинул вовсе Москву и государство и согласился вернуться, по просьбе москвичей, лишь при условии, что ему никто не будет перечить в его борьбе с изменою: «Опала своя класти, а иных казнити, и животы их и статки [имущество, достатки] имати, а учинити ему на своем государстве себе опришнину: двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной». Особной двор и был составлен из бояр и дворян («тысячи голов» – опричников), придворной служни, московских улиц и слобод, приписанных к опричнине, и различных городов и волостей, которые государь «поймал в опричнину». Устроившись в новом дворе, Грозный начал последовательно забирать в опричнину все большее количество земель, именно тех, которые составляли старую удельную Русь и в которых сосредоточивались вотчины княжат. На землях, взятых в опричнину, царь «перебирал людишек», то есть землевладельцев: иных «принимал» к себе в новую службу, а других «отсылал», иначе говоря, выгонял прочь из их владений, давая им новые земли (и притом вместо вотчин поместья) на окраинах государства. Род за родом, семья за семьей, княжата подпадали под своеобразный пересмотр и в громадном большинстве случаев теряли старую оседлость и выбрасывались вон с наследственных гнезд. В течение двадцати последних лет царствования Грозного опричнина охватила полгосударства и разорила все удельные гнезда, сокрушив княжеское землевладение и разорвав пугавшую Грозного связь удельных «владык» с их удельными территориями. Цель Грозного была достигнута; но ее достижение сопровождалось такими последствиями, которые вряд ли были необходимы и полезны. Взамен уничтожаемых «княженецких вотчин», представлявших собою крупные земельные хозяйства, вырастали мелкие поместные участки; при их образовании разрушалась сложная хозяйственная культура, созданная многими поколениями хозяев-княжат; гибло крестьянское самоуправление, жившее в крупных вотчинах; отпускались на волю боярские холопы, менявшие сытую жизнь боярского двора на голодную бесприютность. Самый характер производимой Грозным реформы – превращения крупной и льготной формы землевладения в форму мелкопоместную и обусловленную службою и повинностями – должен был вызывать недовольство населения. А способы проведения реформы вызывали его еще более. Реформа сопровождалась террором. Опалы, ссылки и казни заподозренных в измене лиц, вопиющие насилия опричников над «изменниками», кровожадность и распущенность самого Грозного, истязавшего и губившего своих подданных во время баснословных оргий, – все это пугало и озлобляло население. Оно видело в опричнине не только необъяснимый и ненужный террор и не угадывало ее основной политической цели, которой правительство, по-видимому, и не объясняло народу прямо.
Такова была пресловутая опричнина. Направленная против знати, она терроризировала все общество; имея целью укрепление государственного единства и верховной власти, она расстраивала общественный порядок и сеяла общее недовольство. Знать была разбита и развеяна, но ее остатки не стали лучше относиться к московской династии и не потеряли оппозиционного духа, не забыли своих владельческих преданий и притязаний. Все население трепетало пред Грозным царем, не умея объяснить, почему это «многих людей государь в своей опале побил» «и в земских и в опришнине людей выбил». И не успел Грозный закрыть глаза, как в самую минуту его кончины Москва уже бурлила в открытом междоусобии по поводу того, быть ли вперед опричнине или не быть; а княжата, придавленные железною пятою тирана, уже поднимали голову и обдумывали планы своего возвращения к власти. Наблюдая московское общество в годы после смерти Грозного, Флетчер находил, что «варварские поступки» Грозного «так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно окончиться не иначе как всеобщим восстанием». Он оказался провидцем: опричнина в значительной степени обусловила собою великую Смуту, едва не погубившую Московское государство.
Вот в каких обстоятельствах боярин Борис Федорович Годунов оказался у кормила власти в Москве.
IV
В начале царствования царя Федора Ивановича внутренние отношения в боярстве московском уже не походили на то, что мы видели в боярстве до опричнины. В старое время княжата были многолюдным кругом знати, высоко державшим свою голову и свысока смотревшим на нетитулованное боярство. Опричнина истребила этот людный круг. Убыль в составе старого княжеского боярства была так велика, что, по словам В. О. Ключевского, к началу XVII века из больших княжеско-боярских фамилий прежнего времени действовали Мстиславские, Шуйские, Одоевские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Куракины, Пронские, некоторые из Оболенских и в числе их последние в роду своем Курлятевы, – «и почти только». Остальная княжеская знать бежала, казнена, вымерла, разорилась – словом, исчезла с вершин московского общества. При такой убыли – можно даже сказать, при таком разгроме – уцелеть мог лишь тот, кто послушно склонился перед Грозным и пошел служить в опричнину, отложив в новом «опришнинском» порядке службы старые претензии и признав силу нового правила, что «и велик и мал живет государевым жалованьем». В этом отношении очень показательна была судьба князей Шуйских. Они по родословцу почитались родовитейшими из князей. Как коренной великий русский род, Шуйские ставились «по отечеству» выше не только всех прочих Рюриковичей, но и старейших Гедиминовичей. И поляки считали их jure successionis haereditariae – естественными наследниками Московского царства после конца московской династии. Сами Шуйские, конечно, знали о своем родословном первенстве, выражаясь о своих предках, что они в князьях «большая братия» и «обыкли на большая места седати». Но при Грозном эта большая, или старейшая, братия смиренно пошла служить в опричнину и спасла свое существование только безусловным послушанием деспоту. Можно даже сказать, что Шуйские были единственным среди заметнейших Рюриковичей родом, все ветви которого не только уцелели, но и делали карьеру в эпоху опричнины. Казалось бы, в новых условиях жизни и службы должны были завянуть старые владельческие воспоминания и притязания Шуйских. На деле же они расцвели, как только умер Грозный и забрезжила надежда на возвращение старых доопричнинских порядков в Москве. Так же, как Шуйские, чувствовали себя и другие пережившие опричнину знатнейшие княжата. Поникнув под грозою опричнины, они подняли головы с ее концом и готовы были, вместе с Шуйскими, добывать себе утраченное первенство при дворе наследника Грозного царя Федора. Но, как далее увидим, достигнуть успеха княжатам не удалось. Остатки княжеской знати уже не составляли плотной, однородной и сплоченной среды. Брачные союзы, совершаемые в угоду Грозному, ввели в их семьи нетитулованные элементы; случайности карьеры ставили их нередко в зависимость от людей по сравнению с ними более «худородных». Княжата разбились на кружки и семьи пестрого состава, далеко не всегда согласные между собою. Старые идеалы еще довлели над умами вожаков этой среды и соединяли их в общих стремлениях – в интригах и покушениях на захват влияния и власти. Но эти интриги и покушения не имели большой силы, не шли далее придворной среды и обычно имели характер мелких житейских хитросплетений. На широкую арену общегосударственной интриги вывела княжат только самозванщина, лет через двадцать после смерти Грозного.
Таким образом, княжата потеряли в опричнине свои былые силы. А кроме того, в ту же эпоху опричнины сложилась в московском дворце новая враждебная княжеским традициям среда чисто дворцовой знати. Браки самого Грозного и его сыновей приводили в царское родство некняжеские семьи московского боярства. Последовательно входили во дворец Захарьины-Юрьевы, Годуновы, Нагие. У них у всех, по грубоватой шутке одного современника, «Бог был в кике», то есть счастье заключалось в женском повойнике или кокошнике. За дочерью или сестрой-царицей во дворце укреплялись ее отец и братья. Государь, воздвигнув гонение на княжат, вместо них «выносил наверх» женину родню и давал ей первые места, освобожденные от княжеской знати. Благодаря царской ласке родственные царю семьи укрепились очень прочно в московском правительстве и администрации и притянули туда за собою свое многочисленное родство и свойство. В особенности хорошо «царевы шурья», Захарьины-Юрьевы и Годуновы, сумели воспользоваться своим придворным положением. К концу XVI века оба этих рода обратились в большие гнезда родичей, объединенных каждое господствующею в нем семьею ближайшей царской родни. Среди Захарьиных первенствовала семья царского шурина Никиты Романовича Юрьева, среди Годуновых – семья Бориса Федоровича Годунова, также царского шурина. Вокруг Юрьевых группировались их «братья и великие друга» князья Репнины, Шереметевы, их зятья князья Черкасские, Сицкие, князь Троекуров, князь Лыков-Оболенский, князь Катырев-Ростовский, семьи Карцевых, Шестуновых и многие другие менее заметные семьи (Михалковы, Шестовы, Желябужские). Годуновы сами по себе были многолюдны и также имели свой круг, подобно Романовым-Юрьевым (Скуратовы-Бельские, Клешнины и др.). Эта знать была очень далека от вожделений княжат, помнивших удельную старину и мечтавших о возвращении к порядкам, бывшим до опричнины. Именно в пору опричнины и, быть может, благодаря ей в новом «дворе особном» Грозного эта дворцовая знать получила свое придворное и служебное первенство. Были ее члены опричниками или не были – все равно: они не могли негодовать на порядки Грозного, как негодовали истинные княжата. Носили они сами княжеский титул или нет, они были втянуты в новый круг житейских интересов, держались дворцовым фавором и уже перестали быть «княжатами» по своему духу и классовым идеалам. Для них возвращение к доопричнинским порядкам было бы утратою только что приобретенного положения во дворце.
Итак, в исходе XVI века взаимоотношения боярских групп существенно изменились по сравнению с началом этого столетия. Взамен прежних «исконивечных государских» слуг и новоприбылых «княжат» перед нами две группы смешанного состава. Обе они уже достаточно «старо» служат в Москве и обе достаточно перемешались между собою путем браков и иных житейских сближений. Обе поэтому стали пестры по составу, а в опричнине сравнялись и по служебным и местническим отношениям. Но в одной из них жил еще старый дух, цела была удельная закваска и горела ненависть к опричнине, направленной как раз на эту группу. В другой же приверженность к Москве как к давнему месту службы получила характер привязанности к династии, с которой удалось этим людям породниться и связать свои семейные интересы. Здесь, напротив, жило стремление сохранить опричнину или, точнее, тот служебный и придворный порядок, который создался во дворце как последствие опричнины и вызванного ею падения княжеской знати. Именно опричнина (или же «двор», как стали звать опричнину с 1572 года) была наиболее острым вопросом, на котором расходились и враждовали боярские группы, из-за которого они готовы были вступить между собою в борьбу. Исход этой борьбы в ту или иную сторону решил бы второй столь же острый вопрос – о том, которой из боярских групп будет принадлежать первенство во дворце и в правительстве.
Так обстояло дело в Москве в минуту смерти Ивана Грозного и в первые дни власти его преемника царя Федора Ивановича.
V
Грозный умер, неожиданно для окружавших его, 18 марта 1584 года. После него осталось два сына: старший, от первого брака, Федор и младший, от седьмой жены Грозного, – Димитрий. О старшем Федоре, которому было уже 27 лет, широко шла молва, что он слаб в умственном отношении. «Как слышно, мало имеет собственного разума», писал о нем в апреле 1584 года польско-литовский посол Лев Сапега[13 - Немногим позже Сапега лично в этом убедился; в июле того же года он писал: «Rationis vero vel parum, vel, ut ex aliorum sermone, diligentique etiam mea animadversione cognovi, prorsus nihil habet».]. – «Царь несколько помешан, – говорил о Федоре шведский король Иоанн в официальной речи в 1587 году. – Русские на своем языке называют его «durak» (thet ahr Itt wap pe svenska)». Младший «царевич», Димитрий, родился в 1582 году от седьмой жены Грозного Марии Федоровны Нагой. Хотя царь и справил должным обычаем свою «свадьбу» с седьмою супругой, но канонически это сожитие не было законным браком, и положение последнего сына Грозного царя могло возбуждать некоторые сомнения. Во всяком случае, из двух наследников Грозного только один старший был бесспорно правоспособным, и оба требовали опеки – один по малолетству, а другой по малоумию. В Москве не было сомнения, что престол принадлежит старшему. Младшего Димитрия с его роднею поспешили выслать из Москвы «на удел» – в тот удельный город Углич, который сам Грозный еще в 1572 году предназначил по своему завещанию младшему сыну (тогда – Федору). Любопытно, что очень зоркий дипломат Лев Сапега, приехавший в Москву тотчас по смерти Грозного и имевший возможность очень много знать через «шпигов» (лазутчиков), в своих письмах ничего не упоминает о Димитрии: очевидно, имя Димитрия не играло тогда никакой роли в вопросе о престолонаследии, и удаление Димитрия с его матерью и с ее роднею «на удел» не составляло заметного события для московского населения. Нагих с их «царевичем» просто убрали из предосторожности, как вообще из осторожности и подозрительности Москва принимала разнообразнейшие меры предупреждения против возможных осложнений во все важные моменты своей политической жизни.
Неспособность и малоумие царя Федора, естественно, ставили на очередь вопрос об опеке над ним. Молва говорила, что Грозный сам определил, кому из бояр быть при Федоре опекунами и «поддерживать царство». Современники называли определенно имена важнейших бояр, удостоенных чести править государством. Карамзин поверил их сообщениям и создал такое представление, что при Федоре действовала формально боярская «пентархия», состоявшая из князей И. Ф. Мстиславского и И. П. Шуйского, бояр Н. Р. Юрьева и Б. Ф. Годунова и любимца Грозного оружничего Б. Я. Бельского. За Карамзиным о пентархии говорили и другие историки. Однако ближайшее знакомство с документами той эпохи никакой «пентархии» не открывает. При Федоре просто собрались его ближайшие родственники: его родной дядя по матери Никита Романович Юрьев, его троюродный брат князь Иван Федорович Мстиславский с сыном Федором Ивановичем и его шурин Борис Федорович Годунов. По свойству и родству со всеми этими тремя фамилиями имел во дворце значение князь Иван Петрович Шуйский, и, наконец, стремился удержать свое положение царского фаворита Богдан Яковлевич Бельский, который в последние годы Грозного пользовался большою любовью и доверием царя, хотя и не был пожалован в бояре. Эти лица не все одинаково дружили друг с другом. По-видимому, Бельский готов был на интригу против прочих, а Годунов выжидал, не выступая пока на первый план.
2 апреля интрига вскрылась. После приема литовского посла Льва Сапеги, когда бояре разъехались из Кремля по домам обедать, Бельский, опираясь на стрельцов, затворил Кремль и пытался убедить царя Федора сохранить «двор и опричнину» так, как было при его умершем отце. По-видимому, он думал присвоить себе при этом первую роль как старому опричнику и устранить от царя «земских бояр» – князя Мстиславского и Юрьева. Бояре получили тотчас же весть о происходящем в Кремле и бросились туда. Стрельцы Бельского, однако, отказались пропустить их в Кремль: успели туда проникнуть только Мстиславский «сам-третей» и Юрьев «сам-друг» – без обычной боярской свиты. Тогда их люди подняли крик, боясь, что Бельский погубит их господ; стрельцы же начали их бить. На шум сбежался народ: дело было у кремлевских стен на Красной площади, где всегда была толпа у торговых рядов. Пошел слух, что Бельский хочет побить – или уже и побил – бояр. Толпа рвалась в Кремль, стрельцы начали в нее стрелять и, по сведениям Л. Сапеги, человек двадцать убили. Началось прямое междоусобие: народ собрался штурмовать Кремль. К черни пристали «ратные люди», дворяне разных городов; добыли большую пушку («Царь-пушку», как говорит летописец) и хотели ею «выбить вон» Спасские ворота. Из Кремля предупредили приступ. Земским боярам как-то удалось справиться во дворце с Бельским и освободить царя Федора от его внушений. Они вышли из Кремля к народу на площадь и спрашивали народ о причине его возмущения. Толпа требовала выдачи Бельского, потому что «он хочет извести царский корень и боярские роды». Озлобление против интригана оказалось так велико, что боярам легко было отделаться от Бельского. Не выдавая его толпе, они решили его сослать в Нижний Новгород, о чем царским именем немедленно же и сказали народу. Москва успокоилась, и Бельский сошел со сцены надолго. Молва говорила, что он старался удержать в силе опричнину не для себя, а для того, чтобы «подыскати под царем Федором царства Московского своему советнику»; некоторые видели в этом советнике Бориса Годунова. Однако в 1584 году Борису было еще рано «подыскивать царства». Все дело Бельского прошло без участия Бориса, и в результате Борис ни выиграл, ни проиграл. Выиграли дело старейшие бояре; «опричнина» с Бельским официально ушла из дворца и государства. У дел встал Никита Романович, которому, по общему признанию, принадлежала действительная опека над его родным племянником царем Федором, а вместе с нею и правительственное первенство.
Никита Романович Юрьев был стар; в августе 1584 года его постигла тяжкая болезнь, по всем вероятиям – удар, и он сошел с политической арены. Немедля выяснилось, что его место – царского опекуна и правителя государства – займет царский шурин Борис Годунов. На первый взгляд это не казалось столь очевидным; на первом месте в боярском списке стоял старик князь И. Ф. Мстиславский, а не Годунов. Кроме чиновного первенства, он, как и Борис, обладал драгоценным для того времени преимуществом – родством с царской семьею. Правда, родство было не близкое (Иван Федорович Мстиславский был сыном двоюродного брата Ивана Грозного, иначе – внуком сестры великого князя Василия III), но оно было давнее и потому сравнительно ценное. Однако Годунов перешел дорогу Мстиславскому, так как болезнь Никиты Романовича обнаружила близость Юрьевых именно к Годунову и засвидетельствовала какое-то соглашение между этими боярами, союз или связь их семей. Общая почва для такой связи ясна: и та и другая семья принадлежала к позднейшему кругу московской дворцовой знати, обе держались благоволением Грозного и родством с Федором; обе имели одинаковые интересы во дворце и одних и тех же завистников и врагов. Союз их был естественным; но он не просто существовал, а был создан и оформлен. Современники знали, что Никита Романович «вверил Борису соблюдение о чадах своих». Эти «чада» были еще молоды, нуждались в поддержке и руководстве на трудном придворном пути, и заболевший старик поручил их тому же боярину, которому передавал и попечительство над царем. В свою очередь Борис «клятву страшну тем сотвори – яко братию и царствию помогателя имети», то есть поклялся считать их за братьев и помощников в деле управления. Так возник «завещательный союз дружбы» между двумя виднейшими семьями дворцовой знати, не хотевшими выпустить из своих рук фавор и власть. Дворцовое влияние эти семьи могли отстоять и сами, а власть в правительстве помогли им освоить и укрепить за собою виднейшие дельцы того времени думные дьяки братья Андрей и Василий Щелкаловы. Старший из них, Андрей Яковлевич, был в теснейшей близости с Никитою Романовичем, с которым вместе много лет служил Грозному; а затем сблизился он и с Борисом. Есть сведения, что для Бориса он был «наставником и учителем» в деле житейского преуспеяния: «Како преходну быти ему от нижайших на высокая, и от малых на великая, и от меньших на большая и одолевати благородная» (слова Ив. Тимофеева). Между Борисом и Щелкаловым существовала будто бы «клятва крестоклятвена», чтобы им, согласно всем трем, искать преобладания в правительстве – «к царствию утвержения», как выразился современник. Таким образом, ко времени болезни Никиты Романовича в Москве образовался крепкий союз деловых людей, направивший свои силы против родовой знати в пользу определенных семей царской родни.
Переход власти от Н. Р. Юрьева к Борису, по-видимому, был дурно принят родовитейшими боярами и повел к «розни и недружбе боярской». По словам летописца, бояре «розделяхуся надвое»: одну сторону составили Годуновы (Борис «с дядьями и с братьями»), другую – князь И. Ф. Мстиславский. К Годуновым «пристали и иные бояре, и дьяки, и думные, и служивые многие люди», а с князем Мстиславским были князья Шуйские и Воротынские, Головины, Колычевы «и иные служивые люди и чернь московская». Началась борьба за придворное влияние и положение, и Борис, по словам летописи, «осиливал». При Грозном дело не обошлось бы без крови; теперь же борьба разрешилась мягче. Сначала пострадали Головины: в конце 1584 года их устранили от должностей (казначеев), причем один из Головиных сбежал в Литву. Затем старший Мстиславский, Иван Федорович, служивший во дворце с 1541 года, был сослан в Кириллов монастырь и там был пострижен в монахи[14 - Есть предание, записанное под 7093 (1583) годом одним летописцем (в так называемой Латухинской книге), что, по наущению бояр, Мстиславский «умысли в дому своем пир сотворити и, Бориса призвав, тогда его убити», но что «Борису о том сказаша, он же нача изберегатися и невредим от них бысть».]. По глухому сообщению летописца, другие противники Бориса были разосланы по дальним городам, а кое-кто попал в тюрьму. Но, очевидно, это «гонение» не простиралось далеко: летописец не указывает поименно жертв Бориса, сосланных и заключенных, кроме названных выше; а из документов видно, что после пострижения старика Мстиславского его сын, князь Федор Иванович, наследовал его первенство в боярском списке и, таким образом, не пострадала даже семья главного противника Бориса.
Устранение старого Мстиславского по времени совпало с кончиною Никиты Романовича Юрьева (весна 1585 года). На вершинах боярства стояли теперь друг против друга Борис Годунов и князья Шуйские, выступившие на первый план с удалением Мстиславского. Шуйские желали продолжать борьбу с временщиком и повели ее осторожно и столь хитроумно и сложно, что раскрыть их замыслы представляет большую трудность. Зачем-то они вовлекли в свою интригу общественные низы: «Стали измену делать [выражалось о них правительственное сообщение], на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками». Слово «торговые» надо в данном случае перевести словом «площадные». Шуйские возбудили против Бориса московскую площадную толпу. В первой половине 1587 года в Москве произошел уличный беспорядок, направленный против господства Годуновых: «В Кремле-городе в осаде сидели и стражу крепкую поставили». Когда же отсиделись и справились с толпою, то начали «розыск» – следствие, по которому главными виновниками были признаны князья Андрей Иванович и Иван Петрович Шуйские. Их постигла государева опала: они были сосланы, имущество их конфисковано. Молва говорила, что в ссылке пристава Шуйских позаботилась об ускорении их кончины. Приятели Шуйских Колычевы, Татевы и другие были также сосланы. Их «люди» (холопы) и «торговые мужики» подверглись пыткам, а шесть или семь из них были даже казнены, «главы им отсекоша». Московское правосудие за одно и то же дело всегда карало боярина ссылкой, а «мужика-вора» смертною казнью. В чем именно оказались виноваты потерпевшие на пытках и в ссылках, никто из современников прямо не объясняет. Можно только догадываться, что «площадь» пыталась учинить «мирское челобитье» о том, о чем ее научили просить враждебные Борису бояре и о чем рискнул просить царя вместе с боярами и московский митрополит Дионисий. Просили царя не более и не менее как о том, «чтобы ему, государю, вся земля державы царские своея пожаловати: прияти бы ему вторый брак, а царицу первого брака Ирину Федоровну пожаловати отпустити в иноческий чин; и брак учинити ему царского ради чадородия». Дело в том, что у царя не было детей; та мысль, что у царя был брат Дмитрий, видимо, не играла никакой роли; боялись прекращения династии и думали избежать этого бедствия, устранив неплодную царицу. Забота о благополучии династии была, конечно, благовидна и лояльна; но она была внушена Шуйским и их сторонникам не одною любовью к династии и государству, но еще и надеждой, что вместе с удалением царицы падет и ее брат Борис, ненавистный челобитчикам. Расчет был тонок и хитер, но оказался неосновательным. Челобитчики все-таки ошиблись: если бы Ирина была действительно неплодна, их челобитье имело бы смысл; но царица несколько раз перенесла несчастные роды до тех пор, пока у нее родилась дочь Феодосия (1592). Поэтому речь о разводе была преждевременна и очень бестактна, а вмешательство площадной толпы в такое интимное дело могло представиться дерзким и преступным. Сохраняя порядочность и достоинство власти, Борис мог говорить, что Шуйские «стали перед государем измену делать, неправду, на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками… а мужики, надеясь на государскую милость, заворовали было, не в свое дело вступились, к бездельникам пристали». Митрополит Дионисий, поддержавший своим участием «бездельное» челобитье, оказался в ложном наложении и должен был оставить митрополию и удалиться в монастырь, потому что тоже «к бездельникам пристал».
Так столкновения с виднейшими представителями знати окончились для Бориса полным торжеством, причем Борис имел вид человека не нападавшего, а только оборонявшегося. Не он вел интригу, он, по словам летописи, лишь «осиливал» своих врагов, которые на него покушались. Он опекал царя и «поддерживал» под ним власть; они же «ему противляхуся и никакож ему поддавахуся ни в чем». Преследования бояр имели вид наказания за сопротивление законной власти и за покушение на семейную жизнь царя. Преследование не напоминало жестокостей Грозного. Бояр не губили (по крайней мере, явно), людей ссылали и казнили по розыску и суду. На Бориса можно было злобиться и злословить, но его нельзя было сравнить с Грозным и назвать тираном и деспотом. Прием власти стал иным, и недаром правительство указывало, что мужики «заворовали», «надеясь на государеву милость».
VI
С кончиною Н. Р. Юрьева, удалением И. Ф. Мстиславского и опалою Шуйских к лету 1587 года в Москве уже не было никого, кто мог бы соперничать с Борисом. Дети Юрьева, известные в Москве под фамильным именем Никитичей и Романовых, были пока в «соблюдении» у Бориса за его хребтом, по старинному выражению. Младший Мстиславский не имел личного влияния. Прочие бояре и не пытались оспаривать первенства у Бориса. Борис торжествовал победу и принял ряд мер к тому, чтобы оформить и узаконить свое положение у власти при неспособном к делам государе. Меры эти очень остроумны и интересны.
Официально царь Федор Иванович, конечно, не почитался тем, кем, как мы видели выше, обозвал его шведский король, усвоив выражение московского просторечия. О неспособности и малоумии Федора не говорилось. Указывали на чрезвычайную богомольность и благочестие царя: «Зело благочестив и милостив ко всем, кроток и незлоблив, милосерд, нищелюбив и странноприимец». Богомольность Федора была, по-видимому, всем известна. Из нее выводили два следствия. Во-первых, Федор угодил Богу своим благочестием и привлек на свое царство Божие благоволение; Бог послал ему тихое и благополучное царствование, и тихий царь молитвою управлял лучше, чем разумом. Во-вторых, благодетельствуя своему народу как угодник Божий, Федор не почитал необходимым сам вести дело управления: он избегал «мирской докуки», удалялся от суеты и, устремляясь к Богу, возложил ведение дел на Бориса. В царе Федоре «иночества дела потаено диадимою покровены»; в нем «купно мнишество с царствием соплетено без раздвоения едино другого украшаше». Царь, инок без рясы и пострижения, «время всея жизни своея в духовных подвизех изнурив», не мог обойтись без правителя. При таком государе «правительство» Бориса получало чрезвычайную благовидность: он не просто попечитель над малоумным, он доверенный помощник и по родству исполнитель воли осиянного благодатью Господнею монарха. На особую близость Бориса к царю и на особую доверенность царя к Борису в Москве любили указывать, – конечно, по велению самого правителя. Уже в 1585 году один из московских дипломатов говорил за границей, в Польше, официально о Борисе, что «то – великий человек боярин и конюший, а се государю нашему шурин, а государыне нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил и о земле великой печальник». «Великого человека» представляли и англичанам как «кровного приятеля» царского и «правителя государства» (livetenant of the empire) еще в 1586 году, задолго до той поры, когда Борису усвоены официально были права регента в международных сношениях. По сообщениям из Москвы бывшие в сношениях с Москвою иностранные правительства привыкли адресоваться к Борису как к соправителю и родственнику московского государя. Таким образом, Борис постарался создать о себе общее представление как о лице, принадлежащем к династии, и естественном соправителе благочестивейшего государя.
Исключительное правительственное положение Бориса, кроме общего житейского признания, должно было получить и внешнее официальное выражение. У некоторых современников-иностранцев находится запись (у Буссова и Петрея) о том, «что будто бы царь Федор, тяготясь правлением, предоставил боярам избрать ему помощника и заместителя. Был избран именно Борис. Тогда известною церемонией, в присутствии вельмож Федор снял с себя золотую цепь и возложил ее на Бориса, говоря, что «вместе с этой цепью он снимает с себя бремя правления и возлагает его на Бориса, оставляя за собою решение только важнейших дел». Он будто бы желал остаться царем («ich will Kayser seyn»), а Борис должен был стать правителем государства (Gubernator der Reussischen Monarchiae). Уже Н. М. Карамзин отнесся к этому рассказу с явным сомнением: в нем действительно мало соответствия московским обычаям. Вряд ли Борис нуждался в подобной церемонии боярского избрания и царской инвеституры: она только дразнила бы его завистников-бояр. Борис достигал своего другими способами.
Во-первых, он усвоил себе царским пожалованием исключительно пышный и выразительный титул. Нарастая постепенно, этот титул получил такую форму: государю великому шурин и правитель, слуга и конюший боярин и дворовый воевода и содержатель великих государств, царства Казанского и Астраханского. Значение этого титула пояснил своими словами посол в Персии князь Звенигородский так: «Борис Федорович не образец никому», «у великого государя нашего… многие цари, и царевичи, и королевичи, и государские дети служат, а у Бориса Федоровича всякой царь, и царевичи, и королевичи любви и печалованья к государю просят, а Борис Федорович всеми ими по их челобитью у государя об них печалуется и промышляет ими всеми». Неумеренная гипербола этого отзыва направлена была к тому, чтобы хорошенько объяснить «правительство» Годунова и его превосходство над всеми титулованными слугами московского государя.
Во-вторых, Борис добился того, что Боярская дума несколькими «приговорами», постановленными в присутствии самого царя, усвоила Борису официально право сношения с иностранными правительствами в качестве высшего правительственного лица. Право было дано на том основании, что к иностранным дворам «от конюшего и боярина от Бориса Федоровича Годунова грамоты писати пригоже ныне и вперед: то его царскому имени к чести и к прибавленью, что его государев конюший боярин ближний Борис Федорович Годунов ссылатись учнет с великими государи». С тех пор (1588–1589) начали общим порядком «от Бориса Федоровича писати грамоты в Посольском приказе, и в книги то писати особно, и в посольских книгах под государевыми грамотами». Борис как правитель выступил в сфере международной и благодаря этому окончательно стал вне обычного порядка московских служебных отношений, поднявшись над ним как верховный руководитель московской политики. Способ, каким «писали в посольских книгах» об участии Бориса в дипломатических переговорах, явно клонился к преувеличенному возвышению «правителя». Вот как, например, просил – в московском официальном изложении – цесарский посол Бориса о помощи против турок: «И посол говорил и бил челом Борису Федоровичу: “Цесарское величество велел тебе, великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси и самодержца его царского величества шурину, вашей милости Борису Федоровичу бити челом, и всю надежду держит на ваше величество, чтобы ваша милость был печальник царскому величеству, чтоб царское величество брата своего цесарского величества челобитье не презрел, учинил бы ему помочь против христьянского неприятеля Турского царя”». На такую смиренную просьбу императора Борис дает простой и благосклонный ответ: «О которых естя делех со мною говорили, и яз те все дела донесу до царского величества, и на те вам дела ответ будет иным временем». Так или не так объяснялся Борис с послом – все равно: официальная запись делала Бориса между двумя «величествами» – царем и цесарем – третьим «величеством», правителем царства, который «правил землю рукою великого государя».
В-третьих, наконец, Борис установил для своих официальных выступлений как в царском дворце, так и на своем «дворе» старательно обдуманный «чин» (этикет), тонкости которого были направлены, как и официальные записи, к тому, чтобы сообщить особе Бориса значение не простого государева слуги, а соправителя «величества». Во дворце, во время посольских приемов, Борис присутствовал в особой роли: он стоял у самого трона, «выше рынд», тогда как бояре сидели поодаль «в лавках». В последние годы царствования Федора Борис обычно при этом держал «царского чину яблоко золотое», что и служило наглядным знаком его «властодержавного правительства». Когда в официальных пирах «пили чаши государевы», то вместе с тостами за царя и других государей следовал тост и за Бориса, «пили чашу слуги и конюшего боярина Бориса Федоровича». Иноземные послы, приезжавшие в Москву, после представления государю представлялись и Борису, притом с большою торжественностью. У Бориса был свой двор и свой придворный штат. Церемония «встречи» послов на Борисовом дворе, самого представления их правителю, отпуска и затем угощения (посылки послам «кормов») была точною копиею царских приемов. Борису «являли послов» его люди: встречал на лестнице «дворецкий», в комнату вводил «казначей», в комнате сидели, как у царя бояре, Борисовы дворяне – «отборные немногие люди в наряде – в платье в золотном и в чепях золотых». Прочие люди стояли «от ворот по двору по всему, и по крыльцу, и по сенем, и в передней избе». Послы подносили Борису подарки («поминки») и величали его «пресветлейшим вельможеством» и «пресветлым величеством». Послам всячески давалось понять, что Борис есть истинный носитель власти в Москве и что все дела делаются «по повеленью великого государя, а по приказу царского величества шурина». После приема у себя Борис потчевал послов на их «подворье», как это делал и государь, «ествою и питьем», причем по обилию и роскоши стол не уступал царскому: например, «посылал Борис Федорович к цесареву послу на подворье с ествою и с питьем дворянина своего Михаила Косова, а с ествы послано на сте на тринадцати блюдех да питья в осми кубках да в осми оловяникех».
Если к перечисленным отличиям Бориса присоединим еще то, что в его руках сосредоточились за время регентства весьма значительные личные богатства, то получим последнюю черту для характеристики его положения. Англичане, бывшие в Москве во время Бориса, прямо поражались его богатству. Флетчер, очень трезвый и основательный наблюдатель, сообщает нам точную (но, к сожалению, не поддающуюся документальной проверке) сумму ежегодных доходов Бориса – «93 700 рублей и более». Приводя же различные слагаемые этой суммы, Флетчер сам превышает свой итог и по различным статьям прихода Бориса насчитывает 104 500 рублей. В счет Флетчера входят: доходы Бориса с вотчин (в Вязьме и Дорогобуже) и с поместий во многих уездах; доходы с области Ваги, с Рязани и Северы, с Твери и Торжка; доходы с оброчных статей в самой Москве и вокруг нее по Москве-реке; жалованье по должности конюшего и, наконец, «пенсия от государя». Изо всех других вельмож московских по размерам своего дохода к Борису несколько подходил только его свояк князь Глинский, который, по счету Флетчера, имел до 40 000 рублей в год; остальная знать будто бы далеко отставала от них в богатстве. Горсей, другой англичанин, хорошо знакомый с русскими делами времени Бориса, гиперболичен еще более Флетчера в исчислении Борисовых богатств: по его счету общая сумма доходов Бориса равнялась 185 000 фунтам стерлингов (или марок, или рублей). «Борис Федорович и его дом, – говорит Горсей, – пользовались такой властью и могуществом, что в какие-нибудь сорок дней могли поставить в поле 100 000 хорошо снаряженных воинов».
Как ни преувеличены эти отзывы, они свидетельствуют о том, что в руках Бориса сосредоточилось все, что потребно было для политического господства: придворный фавор и влияние, правительственное первенство и громадные по тому времени средства. Приблизительно с 1588–1589 гг. «властодержавное правительство» Бориса было узаконено и укреплено. Бороться с ним не было возможности: для борьбы уже не стало законных средств; да ни у кого не хватало и сил для нее. «С этих пор, – говорит К. Н. Бестужев-Рюмин, – политика московская есть политика Годунова».
VII
Если бы господство и власть Бориса Годунова основывались только на интриге, угодничестве и придворной ловкости, положение его в правительстве не было бы так прочно и длительно. Но, без всякого сомнения, Борис обладал крупным умом и правительственным талантом и своими качествами превосходил всех своих соперников. Отзывы о личных свойствах Бориса у всех его современников сходятся в том, что признают исключительность дарований Годунова. Иван Тимофеев ярче других характеризует умственную силу Бориса: он находит, что хотя в Москве и были умные правители, но их «разумы» можно назвать только «стенью» (то есть тенью) или подобием разума Бориса, и при этом он замечает, что такое превосходство Бориса было общепризнанным, «познано есть во всех». Не менее хвалебно отзывается о Годунове и другой его современник, автор «написания вкратце о царях московских»; он говорит: «Царь же Борис благолепием цветущ и образом своим множество людей превосшед… муж зело чуден, в рассужении ума доволен и сладкоречив вельми, благоверен и нищелюбив и строителен зело [то есть распорядителен, хозяйствен]». Иностранцы вторят таким отзывам москвичей. Буссов, например, говорит, что, по общему мнению, никто не был способнее Бориса к власти по его уму и мудрости («Dem keiner Im gantzen Lande an Weissheit und Verstande gleich ware»). Голландец Масса, вообще враждебный Борису, признает, однако, его способности: по его словам, Борис имел огромную память и, хотя не умел, будто бы, ни читать, ни писать, тем не менее все знал лучше тех, которые умели писать. Масса думает, что если бы дела шли по желанию Бориса, то он совершил бы много великих дел. Словом, современники почитали Бориса выдающимся человеком и полагали, что он по достоинству своему получил власть и хорошо ею распоряжался, «в мудрость жития мира сего, яко добрый гигант облечеся [по выражению князя Ив. А. Хворостинина] и приим славу и честь от царей». Несмотря на распространенность мнения о неграмотности Бориса, надлежит считать его человеком для его времени просвещенным. Те, которые считали Бориса неграмотным, просто ошибались: сохранилось несколько подписей Бориса под «данными» грамотами[15 - Факсимиле их можно видеть в «Чтениях Московского общества истории и древностей российских» за 1897 год, книга 1.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: