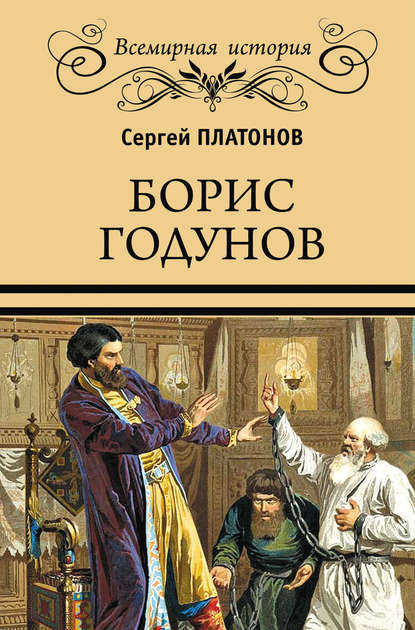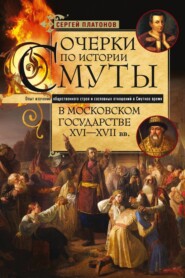По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Борис Годунов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Борис Годунов
Сергей Федорович Платонов
Всемирная история (Вече)
Академик Сергей Федорович Платонов (1860 – 1933) в 1928 году осмеливался называть себя «великорусским патриотом». Книга «Борис Годунов» (1921) стала одним из элементов идейной программы Платонова, высказанной им также в работах «Иван Грозный» (1923) и «Петр Великий: личность и деятельность» (1926). С. Ф. Платонов бросил вызов официальной исторической доктрине советской власти – пролетарскому интернационализму, воздавая хвалу традиционной национальной государственности. Историк-эмигрант П. Б. Струве в рецензии на книгу «Борис Годунов» отмечал: «Роковая моральная аналогия мерзостей “смутного времени” с мерзостями “великой революции” неотразимо встает перед умом читателя… и мы не можем отделаться от мысли, что эта аналогия присутствовала и в его уме». С. Ф. Платонов попытался дать опирающийся на источники очерк эпохи Годунова и личности самого правителя; преодолеть «грубую и невежественную» традицию обвинения этого монарха во всех мыслимых грехах вопреки фактам.
Сергей Платонов
Борис Годунов
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Русская притча. о карьере и душегубстве
В российской общественной мысли установилась прочная традиция: научный авторитет, какими бы исследовательскими заслугами он ни был отмечен, никогда не устоит в сравнении с человеком, который пострадал за свои убеждения. Самый убедительный аргумент в любой дискуссии в конечном итоге – сколько та или иная идея набрала мучеников. «Академики» идут разрядом ниже тех, кто сидел, был сослан или потерял работу, отстаивая свои принципы. Каким бы иррациональным ни показалось подобное положение вещей, оно весьма прочно, оно приобрело характер национальной культурной традиции.
Сергей Федорович Платонов (1860–1933, академик с 1920 г.) в сознании научного мира оказался после смерти Василия Осиповича Ключевского чем-то вроде наследника на престоле некоронованного владыки отечественной истории, чем-то вроде монарха научного государства. Его ученая деятельность получила бесспорное признание у современников и потомков, его педагогический труд признан в не меньшей степени: платоновские учебники до сих пор охотно рекомендуют студентам профильных вузов. На протяжении 90-х гг. курс лекций Сергея Федоровича по русской истории переиздавался неоднократно и с неизменным успехом[1 - Академик С. Ф. Платонов. Сочинения по русской истории. СПб., 1993; Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск, 1996 и др.]. Но… редкий случай: «академик» оказался одновременно и мучеником. По обвинению в организации монархического заговора и прочей антисоветской деятельности Платонов был сослан в Самару и умер в ссылке. Поэтому в постсоветское время слово Сергея Федоровича получило особенно веское звучание. Историки-профессионалы видят в нем значительную научную фигуру, главу целой школы. Мыслители демократической направленности сочувствуют Платонову как человеку, пострадавшему от правящего режима. Патриоты высоко оценивают платоновскую приверженность к монархической идее, положительные оценки, выданные историком русскому народу, его склонность к фундаментальной русской традиции.
Но далеко не все понятно в биографии Сергея Федоровича 1920-х гг. За что он пострадал? Какие именно идеи отстаивал? Или просто попал под каток идеологической борьбы как «спец» старой школы? Автору этих строк уже приходилось писать, что С. Ф. Платонов представлял в тот период действенную оппозицию марксистской исторической школе (точнее, направлению) «пролетарского интернационализма», возглавленной М. Н. Покровским[2 - Володихин Д. М. Эпоха Ивана Грозного в сочинениях С. Ф. Платонова и Р. Ю. Виппера // Платонов С. Ф. Иван Грозный. Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 10–12.]. Ученый называл себя в 1928 г. «великорусским патриотом». Современный биограф Платонова С. О. Шмидт приводит характерную оценку, данную историком-эмигрантом П. Струве в рецензии на книгу «Борис Годунов» (1921): «Роковая моральная аналогия мерзостей «смутного времени» с мерзостями «великой революции» неотразимо встает перед умом читателя… и мы не можем отделаться от мысли, что эта аналогия присутствовала и в его уме»[3 - Шмидт С. О. Сергей Федорович Платонов и «Дело Платонова» // Советская историография. М., 1996. С. 225, 238.]. С такими воззрениями Сергей Федорович явно противопоставлял себя новой власти и советским порядкам. Покровский прекрасно чувствовал оппозицию Платонова и подверг, в частности, «Бориса Годунова» жесткой критике, прямо показывая в рецензии на книгу непримиримый раскол между старой, традиционной («буржуазной») исторической школой Платонова и мировоззрением историков-марксистов.
Книга «Борис Годунов»[4 - Ранее история годуновского правления рассматривалась С. Ф. Платоновым в фундаментальном научном труде «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.», 1899; кратко она была изложена в неоднократно публиковавшемся курсе лекций по русской истории.] стала одним из элементов идейной программы, высказанной кроме этого труда также в «Иване Грозном» (1923) и в работе «Петр Великий: личность и деятельность» (1926). В этих трех книгах Платонов представляет русскую государственность XVI–XVIII вв. в лице наиболее значительных, наиболее известных образованной публике монархов того времени. Сергей Федорович предложил три исторических портрета государей – Ивана IV, Бориса Годунова и Петра I. Все они показаны как значительные исторические личности, искусные политики, умевшие получить положительный результат от мощного государственного аппарата России. Книга о Петре I выдержана почти в апологетических тонах; самая сомнительная из платоновской триады персона, Иван Грозный, представлена как «крупная политическая сила». О Борисе Годунове речь пойдет ниже, но предвосхищая аргументы, здесь, думается, можно дать общую оценку: историк и государя Бориса Федоровича наделил в основном положительными чертами. Через эти три портрета в лучшем свете показана и вся русская монархическая система власти в целом – как государственная традиция, обеспечивавшая стране величие. С точки зрения автора этих строк, в подобной идейной программе был заложен очевидный заряд противопоставления «великих потрясений» и «великой России». Платонов бросал вызов официальной исторической доктрине советской власти – «пролетарскому интернационализму», воздавая хвалу традиционной национальной государственности. Более того, он бил по больному месту, противопоставляя прежнюю военно-политическую силу и единство страны глобальному конфликту Гражданской войны и неразберихе государственного строительства 20-х годов.
В первой главе книги «Борис Годунов» Сергей Федорович ставит вроде бы чисто научную задачу – дать опирающийся на источники (в том числе на сравнительно недавно введенные в научное обращение документы) очерк эпохи Годунова и личности самого правителя; преодолеть «грубую и невежественную» традицию, обвинявшую этого монарха во всех мыслимых грехах вопреки фактам. Историк пишет: «Если в драме и исторической повести Борис является обычно с чертами интригана и злодея, то в этом следует видеть не столько выражение исторических убеждений авторов, сколько прием драматической концепции, творческой мысли. Но и в ученой литературе, даже до последних десятилетий, Борис у многих писателей выступает мрачным злодеем, идущим к трону через интригу, обман, насилие и преступление (Н. И. Костомаров, И. Д. Беляев, Казимир Валишевский). На этих писателей продолжает влиять та летописная и «житийная» традиция, которая в XVII–XVIII вв. пользовалась силою официально установленной «истины» и только в XIX в. стала уступать усилиям свободной научной критики». При подобной постановке вопроса Платонов фактически обязывает себя представить серьезные аргументы для «исторического оправдания»[5 - Это слова самого С. Ф. Платонова.] Бориса Годунова. А накопление такой аргументации прямо работает на концепцию, изложенную в предыдущем абзаце; в годы работы над «Борисом Годуновым» она только рождалась, но на протяжении нескольких лет, когда создавалась «триада», эта концепция была полностью развернута. Более того, в каждой из трех книг Платонов использовал один и тот же прием: признать себя обязанным к подбору «оправдательного» фактического материала, с первых страниц заявить историческую обоснованность похвалы монарху. Во всех трех случаях Сергей Федорович строит книгу так, что отказ от «похвалы» одновременно оборачивается отказом от исторической истины, искажением фактов. Иными словами, потенциальный оппонент, еще не раскрыв рта, уже оказывается в невеждах.
Научный талант Платонова позволяет ему решить поставленную задачу блистательно. Вот краткий свод основных пунктов платоновского положительного «досье» на Бориса Годунова: во-первых, он взял власть в тяжелое для страны время и нес это бремя ответственно[6 - «Борису пришлось взять на себя тяжелую заботу устройства власти и успокоения страны. К решению этих задач приложил он свои способности; в этом деле он обнаружил свой бесспорный исторический талант»…]. Во-вторых, в отзывах всех современников Бориса Федоровича (в том числе и в отзывах прямых его противников) неизменно содержится признание исключительности личных дарований Годунова[7 - В качестве примеров С. Ф. Платонов приводит свидетельства Ивана Тимофеева, князя Ивана Хворостинина, Конрада Буссова, Исаака Массы.]. В-третьих, он проявил себя как незаурядный дипломат: «Москву бранили и над нею иногда смеялись, но с нею должны были считаться. Руководитель московской политики Борис мог хвалиться тем, что заставил соседей признать возрождение политической силы Москвы после понесенных ею поражений»[8 - С. Ф. Платонов имеет в виду прежде всего разгром Московского государства в Ливонской войне 1558–1583 гг.]. В-четвертых, Годунов был склонен к правосудию и гуманности: там, где Иван Грозный казнил без суда и без милости, Борис Федорович прибегал к более мягким, но достаточно эффективным мерам. В-пятых, именно его участие привело к успеху в щекотливом деле установления Московского патриаршества еще при царе Федоре Ивановиче, в 1589 г. В-шестых, стилем Годунова было «благоволение к иноземцам»: правитель искал выгод правильной, регулярной торговли с Западом, являлся сторонником «культурных новшеств» и приобретения европейских научных знаний. Предлагая читателям этот свод, Сергей Федорович везде оставался в пределах фактов, доказуемых источниками.
К доводам ученого можно добавить также и то, что при Борисе Годунове велось широкое церковное строительство, а затевались еще более масштабные архитектурные проекты. Государь много средств отдавал на создание новых крепостей. Именно в те годы, например, были возведены мощная Китайгородская стена в Москве и смоленская крепость. Южные рубежи укреплялись острогами от нападений крымских татар, шло быстрое освоение Сибири. В 1601–1603 гг. во время голода, обрушившегося на страну, правительство Бориса Федоровича, стремясь уменьшить количество смертей, организовало платные общественные работы и раздачу денег. Одно из важных преобразований, связанных с именем Бориса Годунова, – закрепощение крестьянства (при нем еще далеко не закончившееся). Позднейшие эпохи увидели в крепостном праве одно только зло. Но для конца XVI в. ограничение передвижения крестьян, их постепенное «прикрепление» к земле было вынужденной мерой. Небогатое военно-служилое сословие кормилось с земли – сравнительно небольших поместий, которые давались на условиях пожизненной верной службы государю. Условия жизни крестьян в крохотных поместьях были тяжелее, чем на просторных угодьях монастырей и аристократических вотчин. Здесь, в поместьях, на них падало большее количество трудовых и натуральных повинностей. Соответственно, крестьяне стремились перейти к землевладельцам, предлагавшим более вольготные условия. Бедное дворянство от этого разорялось, а именно оно было тогда основой вооруженных сил России, главной защитой страны, важнейшей опорой трона. Найденный выход – прикрепление крестьян к земле – усилил социальную напряженность. Но также, вероятно, добавил боеспособности московскому войску.
Платонов, прославленный специалист по социально-политической истории Московского государства эпохи до воцарения Романовых, должен был обратиться к двум проблемам годуновского правления, далеким от социально-политической тематики, – ввиду их традиционной значимости для российской интеллектуальной публики. Это проблема оценки самого Бориса Годунова как правителя и тайна появления череды Лжедмитриев. Показательно следующее: вторая тема интересовала Сергея Федоровича гораздо меньше. Здесь он в большей мере довольствуется доводами здравого рассудка, чем ссылается на источники, да и сам текст становится блеклым, совершенно лишенным полемического задора и риторических красот. Зато гораздо больше внимания, больше творческой энергии, больше литературного дарования вложено в обсуждение первой темы. Историк вполне сознательно обратился к фигуре Бориса Годунова и столь же сознательно выполнил портрет умного, талантливого правителя. Явное противопоставление русского государственного идеала в лице такого правителя смутной поре революции и Гражданской войны с самого начало входило в замысел историка (здесь автор этих строк полностью согласен со Струве) и не может считаться случайным поворотом авторского замысла.
Из всей триады о государях российских «Борис Годунов» вышел раньше прочего. 1921 год! Это означает, что Платонов писал книгу в те годы и месяцы, когда батальоны белых и красных еще ходили друг на друга в гибельные штыковые атаки. Платонов торопился в этой страшной ситуации сказать свое слово, утвердить свою позицию. Именно поэтому в качестве первой фигуры великого правителя он выбрал царя Бориса Федоровича: хотя Годунов и представляется не самым очевидным элементом в триаде «положительных» монархов, но Платонов, в силу своей научной специализации, лучше всего знал исторический материал, относящийся ко временам годуновского правления[9 - Имеется в виду – по сравнению с временами Петра I и даже, видимо, Ивана IV.], а потому быстрее мог на этом материале выполнить свою идейную задачу.
В наши дни все три названные книги С. Ф. Платонова органично вливаются в историческую концепцию русских патриотов, традиционалистов… С одной оговоркой.
* * *
Сергей Федорович Платонов фактически обошел два скользких вопроса: возведение Бориса Годунова на царство и его роль в убиении царевича Дмитрия Углицкого.
Борис Годунов сделал, пожалуй, самую головокружительную карьеру за все время существования Московского царства. На протяжении четырехсот лет его подозревают и в самом жутком, самом знаменитом преступлении той поры – убийстве невинного ребенка. Обвинение в душегубстве с Бориса Годунова до сих пор не снято. Иногда случается так, что человек, масштабно мыслящий, чуждый жестокого тиранства, к тому же тонкий политик, имеет на отличной своей репутации одно-единственное кровавое пятно, даже не пятно, а пятнышко, и как знать, он ли пролил эту кровь или просто забрызгался, стоя рядом. Но только эта капелька перевешивает всю его жизнь и превращает в прах репутацию…
В 1598 г., со смертью царя Федора Ивановича, московская правящая династия пресеклась. Был созван Земский собор и инсценирована «всенародная поддержка» кандидатуры Бориса Федоровича на царство. Преодолев сопротивление недоброжелателей из боярско-княжеской знати, Годунов получил от Собора право стать государем и основать тем самым новую царскую династию. Но, согласно политическим устоям Московского государства, Борис Федорович получил желанный венец государя… Некрасиво. Не вполне законно. Многие его современники видели в процедуре призвания Годунова на царство сущий балаган.
Главным противником нового царя стала высшая служилая аристократия, еще помнившая политические вольности, которые принадлежали ей до опричнины и жестоких гонений со стороны Ивана IV. Слабый правитель мог на время или навсегда вернуть эти привилегии. Борис Федорович, хотя и крайне редко, казнил своих неприятелей, кроме того, он заставлял их покоряться ссылками и опалами. Но была бы столь острой вражда государя со знатными родами России, кабы во главе страны встал человек более родовитый и в большей степени близкий к ушедшей династии московских Рюриковичей? А ведь многие семейства нашей аристократии связаны были с нею узами браков… Быть может, не укажи Годунов столь легкий путь к русскому престолу, стране удалось бы миновать многих соблазнов и горестей Смуты.
Темным пятном на блистательной карьере Бориса Годунова, как уже говорилось, стала трагическая гибель в 1591 г. князя Углицкого Дмитрия, незаконного сына царя Ивана IV.
Дмитрий Углицкий, по сообщениям официальных источников той поры, погиб в мальчишеском возрасте (ему не было и десяти лет), якобы напоровшись во время игры на нож. Тотчас же в Угличе поднялся мятеж: горожане и родня Дмитриева, дворяне Нагие, перебили прибывших из Москвы представителей администрации, заподозрив, что они зарезали царевича.
Прямых свидетелей гибели Дмитрия нет. И каким образом нож вошел в его тело – сейчас определить невозможно. Предполагают, что мальчик страдал припадками падучей – эпилепсии. Когда произошел очередной припадок, недоброжелатели могли вложить нож ему в руку, и тогда царевич мог заколоться сам, не понимая, что делает. По другой версии, Дмитрия откровенно убили, а потом инсценировали несчастный случай. По третьей – это и был самый настоящий несчастный случай. Дмитрий играл во дворе с другими мальчишками в «тычку»; для этой игры требуется нож. Играл-играл да и напоролся на железо совершенно случайно…
Углицкие мятежники были жестоко наказаны, а в городе провела следствие целая комиссия, во главе которой стоял боярин Василий Иванович Шуйский. Комиссия сделала вывод о случайном характере гибели Дмитрия; зачинщиков мятежа казнили смертью, резали языки, отправляли в ссылку. Однако в народе распространялись слухи, будто невенчаный правитель Московского государства Борис Годунов или его клевреты причастны к гибели мальчика, поскольку видели в нем угрозу своей власти. Семью годами позже, когда Борис Федорович взошел на престол, недоброжелатели обвинили его в том, что он задолго спланировал восшествие на царство и убрал главного конкурента – мальчика, в жилах которого текла подлинная царская кровь. Страшный голод и мятежи, случившиеся в царствование Годунова, многие сочли свидетельством Божьего гнева на душегуба, посмевшего возвыситься.
Очень важную роль в этом деле играет глава следственной комиссии – самое осведомленное лицо. С одной стороны, Василий Шуйский, представитель боковой ветви Рюриковичей – аристократического рода, более знатного, чем московский княжеский дом, должен был бы рассказать о преступлении Годунова, если бы отыскал хотя бы малейший след злого умысла. Московские служилые аристократы на дух не переносили куда менее знатного по сравнению с ними Годунова, который добрался до вершин власти в обход старинных обычаев. Шуйский тем не менее завершил дело в пользу Годунова… Будучи опытным царедворцем и бесстрашным интриганом, Василий Иванович мог рассудить, что обстоятельства складываются не в его пользу и попытка уничтожить непотопляемого правителя опасна для его собственной головы. И промолчал…
Прошло десятилетие. В Польше появился некий Дмитрий, объявивший себя чудесно спасшимся от гибели царевичем. Получив поддержку польского короля и набрав небольшую армию, он в 1604 г. вторгся в пределы Московского государства. Воеводы царя Бориса упорно боролись с ним и были близки к победе, но в 1605 г. государь внезапно скончался, а его сын и наследник Федор Борисович не смог удержать престол. Большинство полевых воевод и влиятельные служилые аристократы перешли на сторону Дмитрия. Он вошел в Москву и был венчан как новый государь, а сына и вдову Бориса умертвили. Так пресеклась династия Годуновых, попытавшихся заменить на московском престоле Рюриковичей. Многим казалось, будто свершилась высшая справедливость… Словно через полтора десятилетия после углицких событий сам Бог явил свою карающую руку. Современники воспринимали царя Бориса Федоровича как христианина двояко. Некоторые церковные писатели и публицисты считали, что вся его масштабная деятельность, связанная с Церковью, – плод «непомерной гордыни» и «высокоумия», далеких от доброго христианского смирения. А в скоропостижной кончине государя и падении династии Годуновых видели Божий суд, кару Господню за тяжкие грехи. Другие, напротив, удивлялись: почему государь был столь тяжко наказан Богом? Ведь грехи его не столь велики; напротив, лишь «дьявольское наваждение» настраивало людей против доброго царя[10 - Ульяновский В. Смутное время. М., 2006. С. 50–54.]. Первое мнение оказалось преобладающим.
Впрочем, и новоявленный Дмитрий недолго царствовал. Он погиб в мае 1606 г. В истории за ним закрепилось имя Лжедмитрия I. Боярин Василий Шуйский, бывший глава следственной комиссии по углицкому делу, в правление Дмитрия сеял слухи, что новый царь – вовсе не царский сын, за что сам чуть было не окончил свои дни на плахе. Впоследствии Шуйский возглавил заговор против Дмитрия, а после его гибели, летом 1606 г., венчался на царство. История повторилась: знатного боярина «кликнула на царство» площадная толпа. Фактически Шуйский использовал рецепт, введенный в политический быт Московского государства Годуновым. Только сделал все грубее и циничнее. Тогда из Углича были привезены в Москву останки тела мальчика, и «невинноубиенного царевича» канонизировала Церковь.
Впрочем, это не помешало на протяжении нескольких смутных лет еще нескольким авантюристам воспользоваться именем Дмитрия, чтобы захватить московский престол. Новый Дмитрий вошел в русскую историю под именем Лжедмитрия II, или Тушинского вора (когда его войска бились с воеводами Василия Шуйского за Москву, «царский» лагерь стоял в Тушине). Впоследствии он был убит одним из своих соратников. Но народная вера в невинноубиенного царевича была столь велика, что позволила Дмитрию в очередной раз «воскреснуть». Лжедмитрий III, Псковский вор, попытался захватить власть в западных городах России.
С тех пор ученые и писатели множество раз пытались разгадать тайну Бориса Годунова и царевича Дмитрия. Каждая страница, каждая строка летописей, посланий, житий, документов и всякого рода литературных произведений, хотя бы отдаленно касающихся этой истории, стали настоящим полем боя для ученых полемистов. Любая крупица новой информации в наше время рождает экзотичные гипотезы. Действительно ли виновен Борис Федорович или его придворная партия в смерти мальчика? Смог ли истинный Дмитрий спастись от убийц (если убийцы действительно существовали), или же на недолгий срок царем оказался самозванец Лжедмитрий? Кто он, этот Лжедмитрий? Кто стоял за его спиной и была ли подстроена смерть царя Бориса? Так соблазнительно для поэтически настроенного литератора обыграть вечную трагедию неправедно взошедшего на престол властолюбца! Таинственный годуновский сюжет столь красиво может быть использован в рассуждениях о непреклонной судьбе, нравственных изъянах государственной власти и прижизненном воздаянии за пороки и преступления! Для интеллигента весомо звучат слова А. С. Пушкина и А. К. Толстого, приговоривших Бориса Годунова к званию убийцы. Кому неизвестна строка из пушкинской драмы «Борис Годунов»: главный герой, бредя душегубством, жалуется, как томит его собственное преступление, как неможется ему от самой памяти о нем – «…и мальчики кровавые в глазах»! Для верующих важен приговор Церкви, в сущности, тот же самый.
Но правда состоит в том, что до сих пор ученые не могут с уверенностью ответить ни на один из поставленных выше вопросов. Большинство склоняется к тому, что Борис Годунов причастен к смерти Дмитрия Углицкого – прямо или через доверенных лиц, которые проявили самочинную ретивость, прервав жизнь юного царевича; однако истина не определяется голосованием или корпоративным соглашением. Этот величайший секрет русской истории остается неразгаданным.
Возможно, угличская трагедия свыше дарована России, чтобы поколение за поколением, вникая в ее смысл, избавились от шелухи политики и задумывались о страшном, ничем не оправдываемом грехе убийства… Возможно, Господь послал русскому народу притчу о том, к чему ведет нарушение заповеди «Не убий!». Один мальчик, погибший при загадочных обстоятельствах, – и великая Смута, вытекшая из этого малого источника, чтобы погубить миллионы христиан… А государь Борис Федорович стал Божьим инструментом воспитания. Иваном Грозным отучали православный народ России от своевольства и гордыни, Борисом Годуновым – от жажды власти и склонности к душегубству. Они, быть может, сыграли роль резцов в деснице Господней, устроителей нашей земли в отрицательном смысле: посмотрите все, кто верит в Божий Промысел: так поступать нельзя! Благодатен опыт отказа от пороков, а не следования им. Вся история царя Бориса, таким образом, была, вероятно, одним словом Бога, произнесенным специально для нашей страны.
Так надо помнить сказанное!
Дмитрий Володихин
Глава первая. Карьера Бориса
I
Личность Бориса Годунова всегда пользовалась вниманием историков и беллетристов. В великой исторической московской драме на рубеже XVI и XVII столетий Борису была суждена роль и победителя и жертвы. Личные свойства и дела этого политического деятеля вызывали у его современников как похвалы, выраставшие в панегирик, так и осуждение, переходившее в злую клевету. Спокойным исследователям событий и лиц надлежало устранить и то и другое, чтобы увидеть истинное лицо Бориса и дать ему справедливую оценку. Этот труд исследования взял на себя впервые младший современник Бориса автор «Временника» XVII века дьяк Иван Тимофеев, «книгочтец и временных книг писец». Однако, составив любопытнейшую характеристику «рабоцаря» (Бориса), он в конце концов сознался, что не умеет его понять и не может уразуметь, что преобладало в Борисе: добро или зло. «В часе же смерти его [Бориса] никтоже весть, что возодоле и кая страна мерила претягну дел его, благая ли злая», – говорит Тимофеев. В самые первые годы XIX века такою же загадкою явился Борис для знаменитого Карамзина. Над «палаткою» (склепом) Годуновых в Троицкой лавре Карамзин риторически восклицал: «Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести: все безмолвствует вокруг древнего гроба!.. Что, если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летописи бессмыслием или враждою?» Тот же самый вопрос встает и перед историком нашего времени: до сих пор исторический материал, касающийся личной деятельности Бориса, настолько неясен, а политическая роль Бориса настолько сложна, что нет возможности уверенно высказаться о мотивах и принципах его деятельности и дать безошибочную оценку его моральным качествам. В этом находит свое объяснение и доныне существующая литературная разноголосица относительно Бориса. Если в драме и в исторической повести Борис является обычно с чертами интригана и злодея, то в этом следует видеть не столько выражение исторических убеждений авторов, сколько прием драматической концепции, творческой мысли. Но и в ученой литературе, даже до последних десятилетий, Борис у многих писателей выступает мрачным злодеем, идущим к трону через интригу, обман, насилие и преступление (Н. И. Костомаров, И. Д. Беляев, Казимир Валишевский). На этих писателей продолжает влиять та летописная и «житийная» традиции, которая в XVII–XVIII веках пользовалась силою официально установленной «истины» и только в XIX веке стала уступать усилиям свободной научной критики. Как глубоко эта традиция, невежественная и грубая, может возмущать неподчиненный ей ум, свидетельствуют скорбные и полные сарказма слова одного из новейших исследователей, посвященные «историографии» Бориса. Коснувшись мимоходом эпохи Бориса, профессор А. Я. Шпаков был изумлен обилием обвинений против Бориса и их легкомыслием. «История Бориса Годунова, – говорит он, – описана в летописях и различных памятниках, а оттуда и у многих историков, весьма просто. После смерти Ивана Грозного Борис Годунов сослал царевича Димитрия и Нагих в Углич, Богдана Бельского подговорил устроить покушение на Феодора Ивановича, потом сослал его в Нижний, а И. Ф. Мстиславского – в заточение, где повелел его удушить; призвал жену Магнуса, «короля Ливонского», дочь Старицкого князя Владимира Андреевича – Марью Владимировну, чтоб насильно постричь ее в монастырь и убить дочь ее Евдокию. Далее он велел перебить бояр и удушить всех князей Шуйских, оставив почему-то Василия да Дмитрия Ивановичей; затем учредил патриаршество, чтобы на патриаршем престоле сидел «доброхот» его Иов; убил Димитрия, подделал извещение об убийстве, подтасовал следствие и постановление собора об этом деле, поджег Москву, призвал крымского хана, чтобы отвлечь внимание народа от убийства царевича Димитрия и пожара Москвы; далее он убил племянницу свою Феодосию, подверг опале Андрея Щелкалова, вероломно отплатив ему злом за отеческое к нему отношение, отравил Феодора Ивановича, чуть ли не силой заставил посадить себя на трон, подтасовав Земский собор и плетьми сбивая народ кричать, что желает именно его на царство; ослепил Симеона Бекбулатовича; после этого создал дело о заговоре «Никитичей», Черкасских и других, чтобы «извести царский корень», всех их перебил и заточил; наконец, убил сестру свою царицу Ирину за то, что она не хотела признать его царем; был ненавистен всем «чиноначальникам земли» и вообще боярам за то, что грабил, разорял и избивал их, народу – за то, что ввел крепостное право, духовенству – за то, что отменил тарханы и потворствовал чужеземцам, лаская их, приглашая на службу в Россию и предоставляя свободно исповедовать свою религию, московским купцам и черни – за то, что обижал любимых ими Шуйских и Романовых и пр. Затем он отравил жениха своей дочери, не смог вынести самозванца и отравился сам. Вот и все»[11 - Проф. Шпаков А. Я. Учреждение патриаршества в России. Одесса, 1912. С. 56–60.].
Подкрепленный точными ссылками, этот перечень обвинений на Годунова не измышлен и даже не преувеличен. Он только собирает вместе все то, чему верили и чему не верили историки, что они излагали как факт и что опускали по несообразительности и невероятности. Несчастье Бориса состояло в том, что в старые времена писавшие о нем не выходили из круга преданий и клевет, внесенных в летописи и мемуары. Дело стало меняться, когда, с изменением научных интересов, внимание историков направилось от личности Бориса к изучению той эпохи в ее целом. Серьезное и свободное исследование времени Бориса повело к тому, что с достоверностью выяснился большой правительственный талант Бориса и в его характеристику вошли новые, благоприятные для его оценки черты. Правда, не всех историков новые материалы расположили в пользу Годунова; но, как только явилась возможность перейти от «летописных повествований» к «документальным данным», у Годунова стали множиться в науке защитники и почитатели. Не говорим об «историографе» Миллере, который в XVIII веке прямо-таки не смел быть откровенным в отзывах о Годунове из боязни выговоров и взысканий от начальства. Более свободный и смелый историк николаевского времени М. П. Погодин должен быть признан первым открытым апологетом Годунова. По отзыву его университетского слушателя, «голос его принимал живое, сердечное выражение, когда он говорил о Борисе Годунове и с увлечением доказывал нам (студентам), что Борис Годунов не был убийцей царевича Димитрия и не мог быть». С кафедры и в печать переносил Погодин свою симпатию к Борису. За Погодиным следовал Н. С. Арцыбашев (1830) с его оправданием Бориса от обвинения в покушении на царевича, А. А. Краевский (1836) с общей панегирической характеристикой Бориса и П. В. Павлов (1850) с его указанием на положительное значение всей деятельности Годунова как правителя и политика. Позднее в пользу Бориса по разным поводам высказывались К. С. Аксаков (1858), Е. А. Белов (1873), А. Я. Шпаков (1912) и некоторые другие писатели. Нельзя, однако, скрыть, что если не враждебны, то во всяком случае очень холодны к Борису остались такие авторитетные исследователи, как С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Однако их историческая прозорливость позволила им рассмотреть в Борисе не одни черты драматического злодея, но и качества истинно государственного деятеля. Со времени именно «Истории» Соловьева Борис стал предметом не столько обличения, сколько серьезного изучения. Быть может, дальнейшие успехи историографии создадут Борису еще лучшую обстановку и дадут его «многострадальной тени» возможность исторического оправдания.
II
Нетрудно собрать данные для «послужного списка» Бориса Федоровича Годунова – их сохранилось немного. Происходил он из рода «исконивечных» московских служилых «вольных слуг», которые гордились тем, что они «исконивечные государские ни у кого не служивали окромя своих государей». По родословному преданию (которого никто не оспаривал) предком Годуновых был ордынский мурза Чет, приехавший около 1330 года из Орды служить великому князю Ивану Калите и крещенный с именем Захария. Кроме Годуновых от Чета пошли столь «честные семьи», как Сабуровы и Вельяминовы. Если это не была самая вершина московской знати, то, во всяком случае, это был слой, близкий к вершине, попадавший в думные чины и служивший во дворце. Едва ли прав был, с точки зрения историка, А. С. Пушкин, влагая в уста князя Шуйского (в «Борисе Годунове») пренебрежительные слова о Борисе: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Шуйские, конечно, могли свысока смотреть на годуновский род, не княжеский и до ласки Грозного не боярский; но никто не мог бы в XVI веке назвать Годунова «вчерашним рабом» и «татарином». Два с половиной века род был православным и с 70-х годов XVI столетия решительно вошел в думу в лице Дмитрия Ивановича, Ивана Васильевича и Бориса Федоровича Годуновых[12 - «Годуновы – даже очень знатный род, – говорит историк местничества А. И. Маркович, – что легко и видеть: он дал четырех бояр до воцарения Бориса; родичи его, Вельяминовы, Сабуровы и др., тоже считали у себя немало бояр» («О местничестве», с. 643).]. Личная карьера Бориса началась для него рано: лет 20 от роду, около 1570 года, он женился на дочери государева любимца Григория (Малюты) Лукьяновича Бельского-Скуратова и стал придворным человеком. Приближенность его к Грозному царю выразилась в том, что он занимал должности и исполнял поручения «близко» от самого государя: бывал у него «рындою» (в ближней свите) и «дружкою» на свадьбах царских. Тридцати лет от роду Борис уже получил боярский сан, будучи «сказан» в бояре в 7089 (1580–1581) году «из крайчих» или «кравчих» (должность важная: крайчий за государевым столом ставил кушанья «пред государя», приняв их от стольников и сам отведав с каждого блюда). Все такого рода данные о Борисе приводят к мысли, что он был личным любимцем Грозного и своими ранними успехами был обязан не столько своей «породе», сколько любви царя к его семье, если не к нему самому.
Таким же доказательством фавора Годуновых может служить и женитьба царевича Федора Ивановича на сестре Бориса Ирине Федоровне Годуновой (вероятно, в 1580 году). Выбрав для сына жену в семье Годуновых, Иван Грозный ввел эту семью во дворец, в свою родню. В качестве царского родственника Борис в ноябре 1581 года мог благовидно вмешаться в семейную ссору Грозного царя. По летописному рассказу, вполне вероподобному, он получил тяжкие побои от царя за то, что «дерзнул внити во внутренне кровы царевы» и заступиться за царевича Ивана Ивановича, которого, как известно, Грозный до смерти избил. Царь и Борису «истязание многое сотвори и лютыми ранами его уязви». Вследствие такого «оскорбления» Борис расхворался и долго лечился. Посетивший его на дому Грозный вернул ему свое расположение, и Борис до самой кончины Грозного «у него государя в близости пребывал». В час смерти царя Ивана (1584) Борис находился уже в числе первейших государственных сановников и принял участие в образовании правительства при преемнике Грозного царе Федоре Ивановиче, не способном ни к каким вообще делам. На втором году его царствования Борис добивается уже правительственного первенства, а в 1588 (приблизительно) году делается формально признанным регентом государства, «царского величества шурином» и «добрым правителем», который «правил землю рукою великого государя». Целых десять лет (1588–1597) правительствовал Борис в Москве, раньше чем бездетная кончина Федора открыла ему дорогу к трону. Наконец в 1598 году «lord-protector of Russia» (как звали англичане Бориса) был Земским собором избран на царство и стал «великим государем царем и великим князем всея России Борисом Федоровичем». Таков был житейский путь Бориса, исполненный успехов и блеска, необычайно удачный и, как увидим, полный терний.
Борис вступил в правительственную среду и начал свою политическую деятельность в очень тяжелое для Московского государства время. Государство переживало сложный кризис. Последствия неудачных войн Грозного, внутренний правительственный террор, называемый опричниной, и беспорядочное передвижение народных масс от центра к окраинам страны расшатали к концу XVI века общественный порядок, внесли разруху и разорение в хозяйственную жизнь и создали такую смуту в умах, которая томила всех ожиданием грядущих бед. Само правительство признавало «великую тощету» и «изнурение» землевладельцев и отменяло всякого рода податные льготы и изъятия, «покаместа земля поустроится». Борьба с кризисом становилась неотложною задачею в глазах правительства, а в то же время и в самой правительственной среде назревали осложнения и готовилась борьба за власть. Правительству необходимо было внутреннее единство и сила, а в нем росла рознь, и ему грозил распад. Борису пришлось взять на себя тяжелую заботу устройства власти и успокоения страны. К решению этих задач приложил он свои способности; в этом деле он обнаружил свой бесспорный политический талант и в конце концов в нем же нашел свое вековое осуждение и гибель своей семьи.
III
Рассказ о деятельности Бориса начнем с вопроса об устройстве власти и о борьбе за обладание ею. Это был один из самых сложных и больных вопросов московской жизни того времени. Страстность и жестокость Грозного придали ему особенную остроту, вывели его из области теоретической и книжной в действительную жизнь и обагрили напрасной кровью невинных жертв царской мнительности и властолюбия.
Объединение великорусских областей под московскою властию и сосредоточение власти в едином лице московского великого князя совершилось очень незадолго до Ивана Грозного энергией его деда и отчасти отца. Принимая титул царя (1547) и украшая свое «самодержавие» пышными фикциями родства (идейного и физического) со вселенскими династиями «старого» и «нового» Рима, Иван Грозный действовал в молодом, только что возникшем государстве. В нем еще не сложился твердый порядок, все еще только подлежало закреплению и определению и не было такой «старины» и «пошлины», которая была бы для всех незыблемой и бесспорной. Правда, власть «великого государя» на деле достигала чрезвычайной полноты и выражалась в таких формах, которые вызывали изумление иностранцев. Известны слова австрийца барона Гербенштейна о том, что московский великий князь «властью превосходит всех монархов всего мира» и что «он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех». Это был бесспорный и очевидный факт; но в глазах русских людей XVI века он еще требовал правового и морального оправдания. Московская публицистическая письменность XVI века охотно обсуждала вопросы о пределах власти княжеской и царской, о возможности и необходимости противодействия князю, преступившему богоустановленный предел своей власти, о нечестивых и лукавых властителях («таковый царь не Божий слуга, но диаволь, и не царь, но мучитель»), наконец, о том, что власть царская ограничивается законом Божиим и действует только над телом, а не над душою подвластных ему людей. В основе подобных рассуждений лежали требования христианской нравственности и религиозного долга; в них не было стремления к внешнему ограничению княжеского и царского произвола. Напротив, вся церковная письменность проникнута была мыслью о богоустановленности власти благочестивого московского монарха и о необходимости повиноваться и служить «истинному царю», который есть «Божий слуга», которого Бог «в себе место» посадил и которого суд никем не посужается. Налагая на «самодержца» обязанность быть «истинным», «правым», «благочестивым», церковные писатели налагали на подвластных такому царю людей обязанность служить ему верно и безропотно. Мысль о необходимости «предела» самовластию великого государя, хотя бы и законного и благочестивого, возникала в иной среде – именно в боярской. Здесь руководились не столько благочестием, сколько практическими соображениями.
Давно признано историками, что Москва была обязана своими первыми политическими успехами московскому боярству. В Москве с XIV столетия сложился определенный круг боярских семей, связавших свою судьбу с судьбою московского княжеского рода и успешно работавших на пользу Москвы и ее князей даже и тогда, когда сами князья оказывались – по малолетству и иным причинам – недееспособными. Династия признавала заслуги своих бояр; знало о них и население; биограф Дмитрия Донского вложил в его уста особую похвалу боярам: «Родихся пред вами и при вас возрастох и с вами царствовах… отчину свою с вами соблюдох… и вам честь и любовь даровах, под вами городы держах и великие волости… и веселихся с вами, с вами и поскорбех; вы же не нарекостеся у мене бояре, но князи земли моей». Так говорил Дмитрий боярам, а детям своим говорил он на смертном одре: «Бояры своя любите… без воля их ничтоже не творите».
Союз династии и боярства представлялся крепким до середины XV века, до тех пор, пока судьба не послала обеим сторонам своеобразное испытание в виде появившейся в Москве толпы служилых князей, или «княжат», как называл их Грозный.
Собирание великорусских земель под властию Москвы сопровождалось обычно тем, что князья, владевшие этими землями, оказывались и сами в Москве. Если они не убегали по своей доброй воле от великорусских государей в Литву и если их не выгоняли сами государи, то им некуда было деться, кроме Москвы. Они приходили туда, били челом великому государю в службу и «приказывались» ему со своими княжествами; великий же государь их жаловал, в службу принимал, а потом, получив от них их волости как политическое владение, жаловал князей их же волостями «в вотчину», то есть передавал им их волости в потомственное частное обладание. Так совершалось превращение «государя князя» в служилого человека, «холопа» великого государя Московского. После того как московские власти водворяли в княжой волости свои порядки и извлекали из нее все, что там понадобилось великому государю, волость передавалась в распоряжение ее наследственным владельцам уже на новых основаниях: она превращалась в простое льготное владение, где владельцы обладали иммунитетом и величали себя по-старому «государями», перестав быть ими на деле. С горьким сарказмом рассказывает о подобном превращении Ярославля в московскую волость ярославский летописец, местный патриот. Под 1463 годом сообщает он об открытии мощей ярославского великого князя Федора Ростиславича с двумя сыновьями и говорит: «Сии бо чудотворцы явишася не на добро всем князем Ярославским: простилися со всеми своими отчинами навек, подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь великий против их отчины подавал им волости и села; а из старины печаловался о них князю великому старому [Василию Темному] Алексий Полуектович, дьяк великого князя, чтобы отчина та не за ними была. А после того в том же граде Ярославли явися новый чудотворец Иоанн Агафонович, сущей созиратай Ярославской земли: у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого князя ю; а кто будет сам добр, боярин или сын боярской, ин его самого записал. А иных его чудес множество не мощно исписати, понеже бо во плоти сущей дьявол». В этой скорбной повести указано на то, что ярославские князья от Москвы получили даже не свои старые земли, а в их замену, «против их отчины», новые волости и села. Большим гнездом мелких и бедных землевладельцев осели они в XVI веке при московском дворе после разгрома их княжения московскими «чудотворцами» вроде Алексея Полуектовича и Ивана Агафоновича. Понятно, какие они питали чувства к этим чудотворцам и к их вдохновителям, московским государям. Происходивший из числа именно таких ярославских князей «изменный ярославский владыка» (по слову Грозного) князь Андрей Мих. Курбский, укрывшись от руки Грозного за литовским рубежом, не пощадил московского государя и его предков в своих отзывах о них. «Обычай у московских князей, – писал он, – издавна желать братии своих крови и губить их, убогих, ради окаянных вотчин, несытства ради своего». Этому обычаю непричастны, по словам Курбского, его предки и родичи – ярославские князья. «Toe пленицы [то есть ветви] княжата не обыкли тела своего ясти и крови братии своей пити, яко некоторым издавна обычай», – язвит он Грозного, разумея под «некоторыми» «издавна кровопийственный род» московской «пленицы» князей. Так откровенен мог быть эмигрант, спасшийся от рук московского тирана. Те же княжата, которых неволя загнала в Москву и отдала в руки московской власти, должны были молчать перед этою властью и покорно нести в Москве свою службу наряду с простыми нетитулованными боярами и слугами великого государя. Но в их душах кипела та же ненависть к поработителю и цвели такие же воспоминания о былой самостоятельности, какими был полон Курбский. Под пятою московской династии служилые князья не забывали, что и они такая же династия; «то все старинные привычные власти Русской земли, – говорит о них В. О. Ключевский, – те же власти, какие правили землею прежде по уделам; только прежде они правили ею по частям и поодиночке, а теперь, собравшись в Москву, они правят всею землею и все вместе. Такое разумение дела было свойственно не одним княжатам; все признавали их «государями» и, в отличие от них, царя Московского звали «великим государем», почитая (по выражению Иосифа Волоцкого), что великий государь «всея Русские земли государям государь». В первое время служилые князья в Москве не смешивались с простыми боярами и составляли собою особый служилый слой; «князи и бояре» – обычная формула официальных перечней московских. Только с течением времени постепенно возник обычай жаловать наиболее родовитых княжат в бояре, а тех, кто «похуже», и в окольничие, и таким способом княжата понемногу вошли в боярскую среду старых «исконивечных» московских слуг.
Сергей Федорович Платонов
Всемирная история (Вече)
Академик Сергей Федорович Платонов (1860 – 1933) в 1928 году осмеливался называть себя «великорусским патриотом». Книга «Борис Годунов» (1921) стала одним из элементов идейной программы Платонова, высказанной им также в работах «Иван Грозный» (1923) и «Петр Великий: личность и деятельность» (1926). С. Ф. Платонов бросил вызов официальной исторической доктрине советской власти – пролетарскому интернационализму, воздавая хвалу традиционной национальной государственности. Историк-эмигрант П. Б. Струве в рецензии на книгу «Борис Годунов» отмечал: «Роковая моральная аналогия мерзостей “смутного времени” с мерзостями “великой революции” неотразимо встает перед умом читателя… и мы не можем отделаться от мысли, что эта аналогия присутствовала и в его уме». С. Ф. Платонов попытался дать опирающийся на источники очерк эпохи Годунова и личности самого правителя; преодолеть «грубую и невежественную» традицию обвинения этого монарха во всех мыслимых грехах вопреки фактам.
Сергей Платонов
Борис Годунов
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Русская притча. о карьере и душегубстве
В российской общественной мысли установилась прочная традиция: научный авторитет, какими бы исследовательскими заслугами он ни был отмечен, никогда не устоит в сравнении с человеком, который пострадал за свои убеждения. Самый убедительный аргумент в любой дискуссии в конечном итоге – сколько та или иная идея набрала мучеников. «Академики» идут разрядом ниже тех, кто сидел, был сослан или потерял работу, отстаивая свои принципы. Каким бы иррациональным ни показалось подобное положение вещей, оно весьма прочно, оно приобрело характер национальной культурной традиции.
Сергей Федорович Платонов (1860–1933, академик с 1920 г.) в сознании научного мира оказался после смерти Василия Осиповича Ключевского чем-то вроде наследника на престоле некоронованного владыки отечественной истории, чем-то вроде монарха научного государства. Его ученая деятельность получила бесспорное признание у современников и потомков, его педагогический труд признан в не меньшей степени: платоновские учебники до сих пор охотно рекомендуют студентам профильных вузов. На протяжении 90-х гг. курс лекций Сергея Федоровича по русской истории переиздавался неоднократно и с неизменным успехом[1 - Академик С. Ф. Платонов. Сочинения по русской истории. СПб., 1993; Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск, 1996 и др.]. Но… редкий случай: «академик» оказался одновременно и мучеником. По обвинению в организации монархического заговора и прочей антисоветской деятельности Платонов был сослан в Самару и умер в ссылке. Поэтому в постсоветское время слово Сергея Федоровича получило особенно веское звучание. Историки-профессионалы видят в нем значительную научную фигуру, главу целой школы. Мыслители демократической направленности сочувствуют Платонову как человеку, пострадавшему от правящего режима. Патриоты высоко оценивают платоновскую приверженность к монархической идее, положительные оценки, выданные историком русскому народу, его склонность к фундаментальной русской традиции.
Но далеко не все понятно в биографии Сергея Федоровича 1920-х гг. За что он пострадал? Какие именно идеи отстаивал? Или просто попал под каток идеологической борьбы как «спец» старой школы? Автору этих строк уже приходилось писать, что С. Ф. Платонов представлял в тот период действенную оппозицию марксистской исторической школе (точнее, направлению) «пролетарского интернационализма», возглавленной М. Н. Покровским[2 - Володихин Д. М. Эпоха Ивана Грозного в сочинениях С. Ф. Платонова и Р. Ю. Виппера // Платонов С. Ф. Иван Грозный. Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 10–12.]. Ученый называл себя в 1928 г. «великорусским патриотом». Современный биограф Платонова С. О. Шмидт приводит характерную оценку, данную историком-эмигрантом П. Струве в рецензии на книгу «Борис Годунов» (1921): «Роковая моральная аналогия мерзостей «смутного времени» с мерзостями «великой революции» неотразимо встает перед умом читателя… и мы не можем отделаться от мысли, что эта аналогия присутствовала и в его уме»[3 - Шмидт С. О. Сергей Федорович Платонов и «Дело Платонова» // Советская историография. М., 1996. С. 225, 238.]. С такими воззрениями Сергей Федорович явно противопоставлял себя новой власти и советским порядкам. Покровский прекрасно чувствовал оппозицию Платонова и подверг, в частности, «Бориса Годунова» жесткой критике, прямо показывая в рецензии на книгу непримиримый раскол между старой, традиционной («буржуазной») исторической школой Платонова и мировоззрением историков-марксистов.
Книга «Борис Годунов»[4 - Ранее история годуновского правления рассматривалась С. Ф. Платоновым в фундаментальном научном труде «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.», 1899; кратко она была изложена в неоднократно публиковавшемся курсе лекций по русской истории.] стала одним из элементов идейной программы, высказанной кроме этого труда также в «Иване Грозном» (1923) и в работе «Петр Великий: личность и деятельность» (1926). В этих трех книгах Платонов представляет русскую государственность XVI–XVIII вв. в лице наиболее значительных, наиболее известных образованной публике монархов того времени. Сергей Федорович предложил три исторических портрета государей – Ивана IV, Бориса Годунова и Петра I. Все они показаны как значительные исторические личности, искусные политики, умевшие получить положительный результат от мощного государственного аппарата России. Книга о Петре I выдержана почти в апологетических тонах; самая сомнительная из платоновской триады персона, Иван Грозный, представлена как «крупная политическая сила». О Борисе Годунове речь пойдет ниже, но предвосхищая аргументы, здесь, думается, можно дать общую оценку: историк и государя Бориса Федоровича наделил в основном положительными чертами. Через эти три портрета в лучшем свете показана и вся русская монархическая система власти в целом – как государственная традиция, обеспечивавшая стране величие. С точки зрения автора этих строк, в подобной идейной программе был заложен очевидный заряд противопоставления «великих потрясений» и «великой России». Платонов бросал вызов официальной исторической доктрине советской власти – «пролетарскому интернационализму», воздавая хвалу традиционной национальной государственности. Более того, он бил по больному месту, противопоставляя прежнюю военно-политическую силу и единство страны глобальному конфликту Гражданской войны и неразберихе государственного строительства 20-х годов.
В первой главе книги «Борис Годунов» Сергей Федорович ставит вроде бы чисто научную задачу – дать опирающийся на источники (в том числе на сравнительно недавно введенные в научное обращение документы) очерк эпохи Годунова и личности самого правителя; преодолеть «грубую и невежественную» традицию, обвинявшую этого монарха во всех мыслимых грехах вопреки фактам. Историк пишет: «Если в драме и исторической повести Борис является обычно с чертами интригана и злодея, то в этом следует видеть не столько выражение исторических убеждений авторов, сколько прием драматической концепции, творческой мысли. Но и в ученой литературе, даже до последних десятилетий, Борис у многих писателей выступает мрачным злодеем, идущим к трону через интригу, обман, насилие и преступление (Н. И. Костомаров, И. Д. Беляев, Казимир Валишевский). На этих писателей продолжает влиять та летописная и «житийная» традиция, которая в XVII–XVIII вв. пользовалась силою официально установленной «истины» и только в XIX в. стала уступать усилиям свободной научной критики». При подобной постановке вопроса Платонов фактически обязывает себя представить серьезные аргументы для «исторического оправдания»[5 - Это слова самого С. Ф. Платонова.] Бориса Годунова. А накопление такой аргументации прямо работает на концепцию, изложенную в предыдущем абзаце; в годы работы над «Борисом Годуновым» она только рождалась, но на протяжении нескольких лет, когда создавалась «триада», эта концепция была полностью развернута. Более того, в каждой из трех книг Платонов использовал один и тот же прием: признать себя обязанным к подбору «оправдательного» фактического материала, с первых страниц заявить историческую обоснованность похвалы монарху. Во всех трех случаях Сергей Федорович строит книгу так, что отказ от «похвалы» одновременно оборачивается отказом от исторической истины, искажением фактов. Иными словами, потенциальный оппонент, еще не раскрыв рта, уже оказывается в невеждах.
Научный талант Платонова позволяет ему решить поставленную задачу блистательно. Вот краткий свод основных пунктов платоновского положительного «досье» на Бориса Годунова: во-первых, он взял власть в тяжелое для страны время и нес это бремя ответственно[6 - «Борису пришлось взять на себя тяжелую заботу устройства власти и успокоения страны. К решению этих задач приложил он свои способности; в этом деле он обнаружил свой бесспорный исторический талант»…]. Во-вторых, в отзывах всех современников Бориса Федоровича (в том числе и в отзывах прямых его противников) неизменно содержится признание исключительности личных дарований Годунова[7 - В качестве примеров С. Ф. Платонов приводит свидетельства Ивана Тимофеева, князя Ивана Хворостинина, Конрада Буссова, Исаака Массы.]. В-третьих, он проявил себя как незаурядный дипломат: «Москву бранили и над нею иногда смеялись, но с нею должны были считаться. Руководитель московской политики Борис мог хвалиться тем, что заставил соседей признать возрождение политической силы Москвы после понесенных ею поражений»[8 - С. Ф. Платонов имеет в виду прежде всего разгром Московского государства в Ливонской войне 1558–1583 гг.]. В-четвертых, Годунов был склонен к правосудию и гуманности: там, где Иван Грозный казнил без суда и без милости, Борис Федорович прибегал к более мягким, но достаточно эффективным мерам. В-пятых, именно его участие привело к успеху в щекотливом деле установления Московского патриаршества еще при царе Федоре Ивановиче, в 1589 г. В-шестых, стилем Годунова было «благоволение к иноземцам»: правитель искал выгод правильной, регулярной торговли с Западом, являлся сторонником «культурных новшеств» и приобретения европейских научных знаний. Предлагая читателям этот свод, Сергей Федорович везде оставался в пределах фактов, доказуемых источниками.
К доводам ученого можно добавить также и то, что при Борисе Годунове велось широкое церковное строительство, а затевались еще более масштабные архитектурные проекты. Государь много средств отдавал на создание новых крепостей. Именно в те годы, например, были возведены мощная Китайгородская стена в Москве и смоленская крепость. Южные рубежи укреплялись острогами от нападений крымских татар, шло быстрое освоение Сибири. В 1601–1603 гг. во время голода, обрушившегося на страну, правительство Бориса Федоровича, стремясь уменьшить количество смертей, организовало платные общественные работы и раздачу денег. Одно из важных преобразований, связанных с именем Бориса Годунова, – закрепощение крестьянства (при нем еще далеко не закончившееся). Позднейшие эпохи увидели в крепостном праве одно только зло. Но для конца XVI в. ограничение передвижения крестьян, их постепенное «прикрепление» к земле было вынужденной мерой. Небогатое военно-служилое сословие кормилось с земли – сравнительно небольших поместий, которые давались на условиях пожизненной верной службы государю. Условия жизни крестьян в крохотных поместьях были тяжелее, чем на просторных угодьях монастырей и аристократических вотчин. Здесь, в поместьях, на них падало большее количество трудовых и натуральных повинностей. Соответственно, крестьяне стремились перейти к землевладельцам, предлагавшим более вольготные условия. Бедное дворянство от этого разорялось, а именно оно было тогда основой вооруженных сил России, главной защитой страны, важнейшей опорой трона. Найденный выход – прикрепление крестьян к земле – усилил социальную напряженность. Но также, вероятно, добавил боеспособности московскому войску.
Платонов, прославленный специалист по социально-политической истории Московского государства эпохи до воцарения Романовых, должен был обратиться к двум проблемам годуновского правления, далеким от социально-политической тематики, – ввиду их традиционной значимости для российской интеллектуальной публики. Это проблема оценки самого Бориса Годунова как правителя и тайна появления череды Лжедмитриев. Показательно следующее: вторая тема интересовала Сергея Федоровича гораздо меньше. Здесь он в большей мере довольствуется доводами здравого рассудка, чем ссылается на источники, да и сам текст становится блеклым, совершенно лишенным полемического задора и риторических красот. Зато гораздо больше внимания, больше творческой энергии, больше литературного дарования вложено в обсуждение первой темы. Историк вполне сознательно обратился к фигуре Бориса Годунова и столь же сознательно выполнил портрет умного, талантливого правителя. Явное противопоставление русского государственного идеала в лице такого правителя смутной поре революции и Гражданской войны с самого начало входило в замысел историка (здесь автор этих строк полностью согласен со Струве) и не может считаться случайным поворотом авторского замысла.
Из всей триады о государях российских «Борис Годунов» вышел раньше прочего. 1921 год! Это означает, что Платонов писал книгу в те годы и месяцы, когда батальоны белых и красных еще ходили друг на друга в гибельные штыковые атаки. Платонов торопился в этой страшной ситуации сказать свое слово, утвердить свою позицию. Именно поэтому в качестве первой фигуры великого правителя он выбрал царя Бориса Федоровича: хотя Годунов и представляется не самым очевидным элементом в триаде «положительных» монархов, но Платонов, в силу своей научной специализации, лучше всего знал исторический материал, относящийся ко временам годуновского правления[9 - Имеется в виду – по сравнению с временами Петра I и даже, видимо, Ивана IV.], а потому быстрее мог на этом материале выполнить свою идейную задачу.
В наши дни все три названные книги С. Ф. Платонова органично вливаются в историческую концепцию русских патриотов, традиционалистов… С одной оговоркой.
* * *
Сергей Федорович Платонов фактически обошел два скользких вопроса: возведение Бориса Годунова на царство и его роль в убиении царевича Дмитрия Углицкого.
Борис Годунов сделал, пожалуй, самую головокружительную карьеру за все время существования Московского царства. На протяжении четырехсот лет его подозревают и в самом жутком, самом знаменитом преступлении той поры – убийстве невинного ребенка. Обвинение в душегубстве с Бориса Годунова до сих пор не снято. Иногда случается так, что человек, масштабно мыслящий, чуждый жестокого тиранства, к тому же тонкий политик, имеет на отличной своей репутации одно-единственное кровавое пятно, даже не пятно, а пятнышко, и как знать, он ли пролил эту кровь или просто забрызгался, стоя рядом. Но только эта капелька перевешивает всю его жизнь и превращает в прах репутацию…
В 1598 г., со смертью царя Федора Ивановича, московская правящая династия пресеклась. Был созван Земский собор и инсценирована «всенародная поддержка» кандидатуры Бориса Федоровича на царство. Преодолев сопротивление недоброжелателей из боярско-княжеской знати, Годунов получил от Собора право стать государем и основать тем самым новую царскую династию. Но, согласно политическим устоям Московского государства, Борис Федорович получил желанный венец государя… Некрасиво. Не вполне законно. Многие его современники видели в процедуре призвания Годунова на царство сущий балаган.
Главным противником нового царя стала высшая служилая аристократия, еще помнившая политические вольности, которые принадлежали ей до опричнины и жестоких гонений со стороны Ивана IV. Слабый правитель мог на время или навсегда вернуть эти привилегии. Борис Федорович, хотя и крайне редко, казнил своих неприятелей, кроме того, он заставлял их покоряться ссылками и опалами. Но была бы столь острой вражда государя со знатными родами России, кабы во главе страны встал человек более родовитый и в большей степени близкий к ушедшей династии московских Рюриковичей? А ведь многие семейства нашей аристократии связаны были с нею узами браков… Быть может, не укажи Годунов столь легкий путь к русскому престолу, стране удалось бы миновать многих соблазнов и горестей Смуты.
Темным пятном на блистательной карьере Бориса Годунова, как уже говорилось, стала трагическая гибель в 1591 г. князя Углицкого Дмитрия, незаконного сына царя Ивана IV.
Дмитрий Углицкий, по сообщениям официальных источников той поры, погиб в мальчишеском возрасте (ему не было и десяти лет), якобы напоровшись во время игры на нож. Тотчас же в Угличе поднялся мятеж: горожане и родня Дмитриева, дворяне Нагие, перебили прибывших из Москвы представителей администрации, заподозрив, что они зарезали царевича.
Прямых свидетелей гибели Дмитрия нет. И каким образом нож вошел в его тело – сейчас определить невозможно. Предполагают, что мальчик страдал припадками падучей – эпилепсии. Когда произошел очередной припадок, недоброжелатели могли вложить нож ему в руку, и тогда царевич мог заколоться сам, не понимая, что делает. По другой версии, Дмитрия откровенно убили, а потом инсценировали несчастный случай. По третьей – это и был самый настоящий несчастный случай. Дмитрий играл во дворе с другими мальчишками в «тычку»; для этой игры требуется нож. Играл-играл да и напоролся на железо совершенно случайно…
Углицкие мятежники были жестоко наказаны, а в городе провела следствие целая комиссия, во главе которой стоял боярин Василий Иванович Шуйский. Комиссия сделала вывод о случайном характере гибели Дмитрия; зачинщиков мятежа казнили смертью, резали языки, отправляли в ссылку. Однако в народе распространялись слухи, будто невенчаный правитель Московского государства Борис Годунов или его клевреты причастны к гибели мальчика, поскольку видели в нем угрозу своей власти. Семью годами позже, когда Борис Федорович взошел на престол, недоброжелатели обвинили его в том, что он задолго спланировал восшествие на царство и убрал главного конкурента – мальчика, в жилах которого текла подлинная царская кровь. Страшный голод и мятежи, случившиеся в царствование Годунова, многие сочли свидетельством Божьего гнева на душегуба, посмевшего возвыситься.
Очень важную роль в этом деле играет глава следственной комиссии – самое осведомленное лицо. С одной стороны, Василий Шуйский, представитель боковой ветви Рюриковичей – аристократического рода, более знатного, чем московский княжеский дом, должен был бы рассказать о преступлении Годунова, если бы отыскал хотя бы малейший след злого умысла. Московские служилые аристократы на дух не переносили куда менее знатного по сравнению с ними Годунова, который добрался до вершин власти в обход старинных обычаев. Шуйский тем не менее завершил дело в пользу Годунова… Будучи опытным царедворцем и бесстрашным интриганом, Василий Иванович мог рассудить, что обстоятельства складываются не в его пользу и попытка уничтожить непотопляемого правителя опасна для его собственной головы. И промолчал…
Прошло десятилетие. В Польше появился некий Дмитрий, объявивший себя чудесно спасшимся от гибели царевичем. Получив поддержку польского короля и набрав небольшую армию, он в 1604 г. вторгся в пределы Московского государства. Воеводы царя Бориса упорно боролись с ним и были близки к победе, но в 1605 г. государь внезапно скончался, а его сын и наследник Федор Борисович не смог удержать престол. Большинство полевых воевод и влиятельные служилые аристократы перешли на сторону Дмитрия. Он вошел в Москву и был венчан как новый государь, а сына и вдову Бориса умертвили. Так пресеклась династия Годуновых, попытавшихся заменить на московском престоле Рюриковичей. Многим казалось, будто свершилась высшая справедливость… Словно через полтора десятилетия после углицких событий сам Бог явил свою карающую руку. Современники воспринимали царя Бориса Федоровича как христианина двояко. Некоторые церковные писатели и публицисты считали, что вся его масштабная деятельность, связанная с Церковью, – плод «непомерной гордыни» и «высокоумия», далеких от доброго христианского смирения. А в скоропостижной кончине государя и падении династии Годуновых видели Божий суд, кару Господню за тяжкие грехи. Другие, напротив, удивлялись: почему государь был столь тяжко наказан Богом? Ведь грехи его не столь велики; напротив, лишь «дьявольское наваждение» настраивало людей против доброго царя[10 - Ульяновский В. Смутное время. М., 2006. С. 50–54.]. Первое мнение оказалось преобладающим.
Впрочем, и новоявленный Дмитрий недолго царствовал. Он погиб в мае 1606 г. В истории за ним закрепилось имя Лжедмитрия I. Боярин Василий Шуйский, бывший глава следственной комиссии по углицкому делу, в правление Дмитрия сеял слухи, что новый царь – вовсе не царский сын, за что сам чуть было не окончил свои дни на плахе. Впоследствии Шуйский возглавил заговор против Дмитрия, а после его гибели, летом 1606 г., венчался на царство. История повторилась: знатного боярина «кликнула на царство» площадная толпа. Фактически Шуйский использовал рецепт, введенный в политический быт Московского государства Годуновым. Только сделал все грубее и циничнее. Тогда из Углича были привезены в Москву останки тела мальчика, и «невинноубиенного царевича» канонизировала Церковь.
Впрочем, это не помешало на протяжении нескольких смутных лет еще нескольким авантюристам воспользоваться именем Дмитрия, чтобы захватить московский престол. Новый Дмитрий вошел в русскую историю под именем Лжедмитрия II, или Тушинского вора (когда его войска бились с воеводами Василия Шуйского за Москву, «царский» лагерь стоял в Тушине). Впоследствии он был убит одним из своих соратников. Но народная вера в невинноубиенного царевича была столь велика, что позволила Дмитрию в очередной раз «воскреснуть». Лжедмитрий III, Псковский вор, попытался захватить власть в западных городах России.
С тех пор ученые и писатели множество раз пытались разгадать тайну Бориса Годунова и царевича Дмитрия. Каждая страница, каждая строка летописей, посланий, житий, документов и всякого рода литературных произведений, хотя бы отдаленно касающихся этой истории, стали настоящим полем боя для ученых полемистов. Любая крупица новой информации в наше время рождает экзотичные гипотезы. Действительно ли виновен Борис Федорович или его придворная партия в смерти мальчика? Смог ли истинный Дмитрий спастись от убийц (если убийцы действительно существовали), или же на недолгий срок царем оказался самозванец Лжедмитрий? Кто он, этот Лжедмитрий? Кто стоял за его спиной и была ли подстроена смерть царя Бориса? Так соблазнительно для поэтически настроенного литератора обыграть вечную трагедию неправедно взошедшего на престол властолюбца! Таинственный годуновский сюжет столь красиво может быть использован в рассуждениях о непреклонной судьбе, нравственных изъянах государственной власти и прижизненном воздаянии за пороки и преступления! Для интеллигента весомо звучат слова А. С. Пушкина и А. К. Толстого, приговоривших Бориса Годунова к званию убийцы. Кому неизвестна строка из пушкинской драмы «Борис Годунов»: главный герой, бредя душегубством, жалуется, как томит его собственное преступление, как неможется ему от самой памяти о нем – «…и мальчики кровавые в глазах»! Для верующих важен приговор Церкви, в сущности, тот же самый.
Но правда состоит в том, что до сих пор ученые не могут с уверенностью ответить ни на один из поставленных выше вопросов. Большинство склоняется к тому, что Борис Годунов причастен к смерти Дмитрия Углицкого – прямо или через доверенных лиц, которые проявили самочинную ретивость, прервав жизнь юного царевича; однако истина не определяется голосованием или корпоративным соглашением. Этот величайший секрет русской истории остается неразгаданным.
Возможно, угличская трагедия свыше дарована России, чтобы поколение за поколением, вникая в ее смысл, избавились от шелухи политики и задумывались о страшном, ничем не оправдываемом грехе убийства… Возможно, Господь послал русскому народу притчу о том, к чему ведет нарушение заповеди «Не убий!». Один мальчик, погибший при загадочных обстоятельствах, – и великая Смута, вытекшая из этого малого источника, чтобы погубить миллионы христиан… А государь Борис Федорович стал Божьим инструментом воспитания. Иваном Грозным отучали православный народ России от своевольства и гордыни, Борисом Годуновым – от жажды власти и склонности к душегубству. Они, быть может, сыграли роль резцов в деснице Господней, устроителей нашей земли в отрицательном смысле: посмотрите все, кто верит в Божий Промысел: так поступать нельзя! Благодатен опыт отказа от пороков, а не следования им. Вся история царя Бориса, таким образом, была, вероятно, одним словом Бога, произнесенным специально для нашей страны.
Так надо помнить сказанное!
Дмитрий Володихин
Глава первая. Карьера Бориса
I
Личность Бориса Годунова всегда пользовалась вниманием историков и беллетристов. В великой исторической московской драме на рубеже XVI и XVII столетий Борису была суждена роль и победителя и жертвы. Личные свойства и дела этого политического деятеля вызывали у его современников как похвалы, выраставшие в панегирик, так и осуждение, переходившее в злую клевету. Спокойным исследователям событий и лиц надлежало устранить и то и другое, чтобы увидеть истинное лицо Бориса и дать ему справедливую оценку. Этот труд исследования взял на себя впервые младший современник Бориса автор «Временника» XVII века дьяк Иван Тимофеев, «книгочтец и временных книг писец». Однако, составив любопытнейшую характеристику «рабоцаря» (Бориса), он в конце концов сознался, что не умеет его понять и не может уразуметь, что преобладало в Борисе: добро или зло. «В часе же смерти его [Бориса] никтоже весть, что возодоле и кая страна мерила претягну дел его, благая ли злая», – говорит Тимофеев. В самые первые годы XIX века такою же загадкою явился Борис для знаменитого Карамзина. Над «палаткою» (склепом) Годуновых в Троицкой лавре Карамзин риторически восклицал: «Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести: все безмолвствует вокруг древнего гроба!.. Что, если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летописи бессмыслием или враждою?» Тот же самый вопрос встает и перед историком нашего времени: до сих пор исторический материал, касающийся личной деятельности Бориса, настолько неясен, а политическая роль Бориса настолько сложна, что нет возможности уверенно высказаться о мотивах и принципах его деятельности и дать безошибочную оценку его моральным качествам. В этом находит свое объяснение и доныне существующая литературная разноголосица относительно Бориса. Если в драме и в исторической повести Борис является обычно с чертами интригана и злодея, то в этом следует видеть не столько выражение исторических убеждений авторов, сколько прием драматической концепции, творческой мысли. Но и в ученой литературе, даже до последних десятилетий, Борис у многих писателей выступает мрачным злодеем, идущим к трону через интригу, обман, насилие и преступление (Н. И. Костомаров, И. Д. Беляев, Казимир Валишевский). На этих писателей продолжает влиять та летописная и «житийная» традиции, которая в XVII–XVIII веках пользовалась силою официально установленной «истины» и только в XIX веке стала уступать усилиям свободной научной критики. Как глубоко эта традиция, невежественная и грубая, может возмущать неподчиненный ей ум, свидетельствуют скорбные и полные сарказма слова одного из новейших исследователей, посвященные «историографии» Бориса. Коснувшись мимоходом эпохи Бориса, профессор А. Я. Шпаков был изумлен обилием обвинений против Бориса и их легкомыслием. «История Бориса Годунова, – говорит он, – описана в летописях и различных памятниках, а оттуда и у многих историков, весьма просто. После смерти Ивана Грозного Борис Годунов сослал царевича Димитрия и Нагих в Углич, Богдана Бельского подговорил устроить покушение на Феодора Ивановича, потом сослал его в Нижний, а И. Ф. Мстиславского – в заточение, где повелел его удушить; призвал жену Магнуса, «короля Ливонского», дочь Старицкого князя Владимира Андреевича – Марью Владимировну, чтоб насильно постричь ее в монастырь и убить дочь ее Евдокию. Далее он велел перебить бояр и удушить всех князей Шуйских, оставив почему-то Василия да Дмитрия Ивановичей; затем учредил патриаршество, чтобы на патриаршем престоле сидел «доброхот» его Иов; убил Димитрия, подделал извещение об убийстве, подтасовал следствие и постановление собора об этом деле, поджег Москву, призвал крымского хана, чтобы отвлечь внимание народа от убийства царевича Димитрия и пожара Москвы; далее он убил племянницу свою Феодосию, подверг опале Андрея Щелкалова, вероломно отплатив ему злом за отеческое к нему отношение, отравил Феодора Ивановича, чуть ли не силой заставил посадить себя на трон, подтасовав Земский собор и плетьми сбивая народ кричать, что желает именно его на царство; ослепил Симеона Бекбулатовича; после этого создал дело о заговоре «Никитичей», Черкасских и других, чтобы «извести царский корень», всех их перебил и заточил; наконец, убил сестру свою царицу Ирину за то, что она не хотела признать его царем; был ненавистен всем «чиноначальникам земли» и вообще боярам за то, что грабил, разорял и избивал их, народу – за то, что ввел крепостное право, духовенству – за то, что отменил тарханы и потворствовал чужеземцам, лаская их, приглашая на службу в Россию и предоставляя свободно исповедовать свою религию, московским купцам и черни – за то, что обижал любимых ими Шуйских и Романовых и пр. Затем он отравил жениха своей дочери, не смог вынести самозванца и отравился сам. Вот и все»[11 - Проф. Шпаков А. Я. Учреждение патриаршества в России. Одесса, 1912. С. 56–60.].
Подкрепленный точными ссылками, этот перечень обвинений на Годунова не измышлен и даже не преувеличен. Он только собирает вместе все то, чему верили и чему не верили историки, что они излагали как факт и что опускали по несообразительности и невероятности. Несчастье Бориса состояло в том, что в старые времена писавшие о нем не выходили из круга преданий и клевет, внесенных в летописи и мемуары. Дело стало меняться, когда, с изменением научных интересов, внимание историков направилось от личности Бориса к изучению той эпохи в ее целом. Серьезное и свободное исследование времени Бориса повело к тому, что с достоверностью выяснился большой правительственный талант Бориса и в его характеристику вошли новые, благоприятные для его оценки черты. Правда, не всех историков новые материалы расположили в пользу Годунова; но, как только явилась возможность перейти от «летописных повествований» к «документальным данным», у Годунова стали множиться в науке защитники и почитатели. Не говорим об «историографе» Миллере, который в XVIII веке прямо-таки не смел быть откровенным в отзывах о Годунове из боязни выговоров и взысканий от начальства. Более свободный и смелый историк николаевского времени М. П. Погодин должен быть признан первым открытым апологетом Годунова. По отзыву его университетского слушателя, «голос его принимал живое, сердечное выражение, когда он говорил о Борисе Годунове и с увлечением доказывал нам (студентам), что Борис Годунов не был убийцей царевича Димитрия и не мог быть». С кафедры и в печать переносил Погодин свою симпатию к Борису. За Погодиным следовал Н. С. Арцыбашев (1830) с его оправданием Бориса от обвинения в покушении на царевича, А. А. Краевский (1836) с общей панегирической характеристикой Бориса и П. В. Павлов (1850) с его указанием на положительное значение всей деятельности Годунова как правителя и политика. Позднее в пользу Бориса по разным поводам высказывались К. С. Аксаков (1858), Е. А. Белов (1873), А. Я. Шпаков (1912) и некоторые другие писатели. Нельзя, однако, скрыть, что если не враждебны, то во всяком случае очень холодны к Борису остались такие авторитетные исследователи, как С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Однако их историческая прозорливость позволила им рассмотреть в Борисе не одни черты драматического злодея, но и качества истинно государственного деятеля. Со времени именно «Истории» Соловьева Борис стал предметом не столько обличения, сколько серьезного изучения. Быть может, дальнейшие успехи историографии создадут Борису еще лучшую обстановку и дадут его «многострадальной тени» возможность исторического оправдания.
II
Нетрудно собрать данные для «послужного списка» Бориса Федоровича Годунова – их сохранилось немного. Происходил он из рода «исконивечных» московских служилых «вольных слуг», которые гордились тем, что они «исконивечные государские ни у кого не служивали окромя своих государей». По родословному преданию (которого никто не оспаривал) предком Годуновых был ордынский мурза Чет, приехавший около 1330 года из Орды служить великому князю Ивану Калите и крещенный с именем Захария. Кроме Годуновых от Чета пошли столь «честные семьи», как Сабуровы и Вельяминовы. Если это не была самая вершина московской знати, то, во всяком случае, это был слой, близкий к вершине, попадавший в думные чины и служивший во дворце. Едва ли прав был, с точки зрения историка, А. С. Пушкин, влагая в уста князя Шуйского (в «Борисе Годунове») пренебрежительные слова о Борисе: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Шуйские, конечно, могли свысока смотреть на годуновский род, не княжеский и до ласки Грозного не боярский; но никто не мог бы в XVI веке назвать Годунова «вчерашним рабом» и «татарином». Два с половиной века род был православным и с 70-х годов XVI столетия решительно вошел в думу в лице Дмитрия Ивановича, Ивана Васильевича и Бориса Федоровича Годуновых[12 - «Годуновы – даже очень знатный род, – говорит историк местничества А. И. Маркович, – что легко и видеть: он дал четырех бояр до воцарения Бориса; родичи его, Вельяминовы, Сабуровы и др., тоже считали у себя немало бояр» («О местничестве», с. 643).]. Личная карьера Бориса началась для него рано: лет 20 от роду, около 1570 года, он женился на дочери государева любимца Григория (Малюты) Лукьяновича Бельского-Скуратова и стал придворным человеком. Приближенность его к Грозному царю выразилась в том, что он занимал должности и исполнял поручения «близко» от самого государя: бывал у него «рындою» (в ближней свите) и «дружкою» на свадьбах царских. Тридцати лет от роду Борис уже получил боярский сан, будучи «сказан» в бояре в 7089 (1580–1581) году «из крайчих» или «кравчих» (должность важная: крайчий за государевым столом ставил кушанья «пред государя», приняв их от стольников и сам отведав с каждого блюда). Все такого рода данные о Борисе приводят к мысли, что он был личным любимцем Грозного и своими ранними успехами был обязан не столько своей «породе», сколько любви царя к его семье, если не к нему самому.
Таким же доказательством фавора Годуновых может служить и женитьба царевича Федора Ивановича на сестре Бориса Ирине Федоровне Годуновой (вероятно, в 1580 году). Выбрав для сына жену в семье Годуновых, Иван Грозный ввел эту семью во дворец, в свою родню. В качестве царского родственника Борис в ноябре 1581 года мог благовидно вмешаться в семейную ссору Грозного царя. По летописному рассказу, вполне вероподобному, он получил тяжкие побои от царя за то, что «дерзнул внити во внутренне кровы царевы» и заступиться за царевича Ивана Ивановича, которого, как известно, Грозный до смерти избил. Царь и Борису «истязание многое сотвори и лютыми ранами его уязви». Вследствие такого «оскорбления» Борис расхворался и долго лечился. Посетивший его на дому Грозный вернул ему свое расположение, и Борис до самой кончины Грозного «у него государя в близости пребывал». В час смерти царя Ивана (1584) Борис находился уже в числе первейших государственных сановников и принял участие в образовании правительства при преемнике Грозного царе Федоре Ивановиче, не способном ни к каким вообще делам. На втором году его царствования Борис добивается уже правительственного первенства, а в 1588 (приблизительно) году делается формально признанным регентом государства, «царского величества шурином» и «добрым правителем», который «правил землю рукою великого государя». Целых десять лет (1588–1597) правительствовал Борис в Москве, раньше чем бездетная кончина Федора открыла ему дорогу к трону. Наконец в 1598 году «lord-protector of Russia» (как звали англичане Бориса) был Земским собором избран на царство и стал «великим государем царем и великим князем всея России Борисом Федоровичем». Таков был житейский путь Бориса, исполненный успехов и блеска, необычайно удачный и, как увидим, полный терний.
Борис вступил в правительственную среду и начал свою политическую деятельность в очень тяжелое для Московского государства время. Государство переживало сложный кризис. Последствия неудачных войн Грозного, внутренний правительственный террор, называемый опричниной, и беспорядочное передвижение народных масс от центра к окраинам страны расшатали к концу XVI века общественный порядок, внесли разруху и разорение в хозяйственную жизнь и создали такую смуту в умах, которая томила всех ожиданием грядущих бед. Само правительство признавало «великую тощету» и «изнурение» землевладельцев и отменяло всякого рода податные льготы и изъятия, «покаместа земля поустроится». Борьба с кризисом становилась неотложною задачею в глазах правительства, а в то же время и в самой правительственной среде назревали осложнения и готовилась борьба за власть. Правительству необходимо было внутреннее единство и сила, а в нем росла рознь, и ему грозил распад. Борису пришлось взять на себя тяжелую заботу устройства власти и успокоения страны. К решению этих задач приложил он свои способности; в этом деле он обнаружил свой бесспорный политический талант и в конце концов в нем же нашел свое вековое осуждение и гибель своей семьи.
III
Рассказ о деятельности Бориса начнем с вопроса об устройстве власти и о борьбе за обладание ею. Это был один из самых сложных и больных вопросов московской жизни того времени. Страстность и жестокость Грозного придали ему особенную остроту, вывели его из области теоретической и книжной в действительную жизнь и обагрили напрасной кровью невинных жертв царской мнительности и властолюбия.
Объединение великорусских областей под московскою властию и сосредоточение власти в едином лице московского великого князя совершилось очень незадолго до Ивана Грозного энергией его деда и отчасти отца. Принимая титул царя (1547) и украшая свое «самодержавие» пышными фикциями родства (идейного и физического) со вселенскими династиями «старого» и «нового» Рима, Иван Грозный действовал в молодом, только что возникшем государстве. В нем еще не сложился твердый порядок, все еще только подлежало закреплению и определению и не было такой «старины» и «пошлины», которая была бы для всех незыблемой и бесспорной. Правда, власть «великого государя» на деле достигала чрезвычайной полноты и выражалась в таких формах, которые вызывали изумление иностранцев. Известны слова австрийца барона Гербенштейна о том, что московский великий князь «властью превосходит всех монархов всего мира» и что «он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех». Это был бесспорный и очевидный факт; но в глазах русских людей XVI века он еще требовал правового и морального оправдания. Московская публицистическая письменность XVI века охотно обсуждала вопросы о пределах власти княжеской и царской, о возможности и необходимости противодействия князю, преступившему богоустановленный предел своей власти, о нечестивых и лукавых властителях («таковый царь не Божий слуга, но диаволь, и не царь, но мучитель»), наконец, о том, что власть царская ограничивается законом Божиим и действует только над телом, а не над душою подвластных ему людей. В основе подобных рассуждений лежали требования христианской нравственности и религиозного долга; в них не было стремления к внешнему ограничению княжеского и царского произвола. Напротив, вся церковная письменность проникнута была мыслью о богоустановленности власти благочестивого московского монарха и о необходимости повиноваться и служить «истинному царю», который есть «Божий слуга», которого Бог «в себе место» посадил и которого суд никем не посужается. Налагая на «самодержца» обязанность быть «истинным», «правым», «благочестивым», церковные писатели налагали на подвластных такому царю людей обязанность служить ему верно и безропотно. Мысль о необходимости «предела» самовластию великого государя, хотя бы и законного и благочестивого, возникала в иной среде – именно в боярской. Здесь руководились не столько благочестием, сколько практическими соображениями.
Давно признано историками, что Москва была обязана своими первыми политическими успехами московскому боярству. В Москве с XIV столетия сложился определенный круг боярских семей, связавших свою судьбу с судьбою московского княжеского рода и успешно работавших на пользу Москвы и ее князей даже и тогда, когда сами князья оказывались – по малолетству и иным причинам – недееспособными. Династия признавала заслуги своих бояр; знало о них и население; биограф Дмитрия Донского вложил в его уста особую похвалу боярам: «Родихся пред вами и при вас возрастох и с вами царствовах… отчину свою с вами соблюдох… и вам честь и любовь даровах, под вами городы держах и великие волости… и веселихся с вами, с вами и поскорбех; вы же не нарекостеся у мене бояре, но князи земли моей». Так говорил Дмитрий боярам, а детям своим говорил он на смертном одре: «Бояры своя любите… без воля их ничтоже не творите».
Союз династии и боярства представлялся крепким до середины XV века, до тех пор, пока судьба не послала обеим сторонам своеобразное испытание в виде появившейся в Москве толпы служилых князей, или «княжат», как называл их Грозный.
Собирание великорусских земель под властию Москвы сопровождалось обычно тем, что князья, владевшие этими землями, оказывались и сами в Москве. Если они не убегали по своей доброй воле от великорусских государей в Литву и если их не выгоняли сами государи, то им некуда было деться, кроме Москвы. Они приходили туда, били челом великому государю в службу и «приказывались» ему со своими княжествами; великий же государь их жаловал, в службу принимал, а потом, получив от них их волости как политическое владение, жаловал князей их же волостями «в вотчину», то есть передавал им их волости в потомственное частное обладание. Так совершалось превращение «государя князя» в служилого человека, «холопа» великого государя Московского. После того как московские власти водворяли в княжой волости свои порядки и извлекали из нее все, что там понадобилось великому государю, волость передавалась в распоряжение ее наследственным владельцам уже на новых основаниях: она превращалась в простое льготное владение, где владельцы обладали иммунитетом и величали себя по-старому «государями», перестав быть ими на деле. С горьким сарказмом рассказывает о подобном превращении Ярославля в московскую волость ярославский летописец, местный патриот. Под 1463 годом сообщает он об открытии мощей ярославского великого князя Федора Ростиславича с двумя сыновьями и говорит: «Сии бо чудотворцы явишася не на добро всем князем Ярославским: простилися со всеми своими отчинами навек, подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь великий против их отчины подавал им волости и села; а из старины печаловался о них князю великому старому [Василию Темному] Алексий Полуектович, дьяк великого князя, чтобы отчина та не за ними была. А после того в том же граде Ярославли явися новый чудотворец Иоанн Агафонович, сущей созиратай Ярославской земли: у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого князя ю; а кто будет сам добр, боярин или сын боярской, ин его самого записал. А иных его чудес множество не мощно исписати, понеже бо во плоти сущей дьявол». В этой скорбной повести указано на то, что ярославские князья от Москвы получили даже не свои старые земли, а в их замену, «против их отчины», новые волости и села. Большим гнездом мелких и бедных землевладельцев осели они в XVI веке при московском дворе после разгрома их княжения московскими «чудотворцами» вроде Алексея Полуектовича и Ивана Агафоновича. Понятно, какие они питали чувства к этим чудотворцам и к их вдохновителям, московским государям. Происходивший из числа именно таких ярославских князей «изменный ярославский владыка» (по слову Грозного) князь Андрей Мих. Курбский, укрывшись от руки Грозного за литовским рубежом, не пощадил московского государя и его предков в своих отзывах о них. «Обычай у московских князей, – писал он, – издавна желать братии своих крови и губить их, убогих, ради окаянных вотчин, несытства ради своего». Этому обычаю непричастны, по словам Курбского, его предки и родичи – ярославские князья. «Toe пленицы [то есть ветви] княжата не обыкли тела своего ясти и крови братии своей пити, яко некоторым издавна обычай», – язвит он Грозного, разумея под «некоторыми» «издавна кровопийственный род» московской «пленицы» князей. Так откровенен мог быть эмигрант, спасшийся от рук московского тирана. Те же княжата, которых неволя загнала в Москву и отдала в руки московской власти, должны были молчать перед этою властью и покорно нести в Москве свою службу наряду с простыми нетитулованными боярами и слугами великого государя. Но в их душах кипела та же ненависть к поработителю и цвели такие же воспоминания о былой самостоятельности, какими был полон Курбский. Под пятою московской династии служилые князья не забывали, что и они такая же династия; «то все старинные привычные власти Русской земли, – говорит о них В. О. Ключевский, – те же власти, какие правили землею прежде по уделам; только прежде они правили ею по частям и поодиночке, а теперь, собравшись в Москву, они правят всею землею и все вместе. Такое разумение дела было свойственно не одним княжатам; все признавали их «государями» и, в отличие от них, царя Московского звали «великим государем», почитая (по выражению Иосифа Волоцкого), что великий государь «всея Русские земли государям государь». В первое время служилые князья в Москве не смешивались с простыми боярами и составляли собою особый служилый слой; «князи и бояре» – обычная формула официальных перечней московских. Только с течением времени постепенно возник обычай жаловать наиболее родовитых княжат в бояре, а тех, кто «похуже», и в окольничие, и таким способом княжата понемногу вошли в боярскую среду старых «исконивечных» московских слуг.