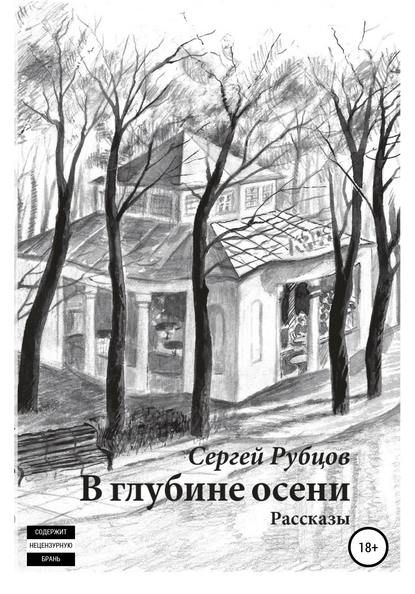По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В глубине осени. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он прошёл под крышу кафе, заказал чашку кофе, бокал сухого вина и сел через два столика от молодых людей, соблюдая дистанцию так, чтобы они были видны, но и на достаточном расстоянии, где их громкий разговор не слишком бы его раздражал. Не то чтобы он как-то особенно не любил шум и людей, но в последние годы он стал замечать, что близкое общение и многолюдные компании вызывают в нём раздражение и мешают.
Филумов долго смотрел на мокрую аллею, на пустые теннисные корты, проглядывающие сквозь кусты, стволы и ветви парка. Прикладывался к бокалу с вином, запивая уже почти остывшее кофе. Он ни о чём не думал. В нём, независимо от его сознания, оживали забытые тени, слышались обрывки давних разговоров, кружились и ложились на дно памяти поздние сухие листья. Он увидел себя пробегающим по аллее в сторону легкоатлетического манежа после кросса по холмам Нагорного парка. Видение спортсмена промелькнуло и растворилось в конце аллеи, не добежав до памятника князю Гедиминасу.
Теплело. Сквозь плотную облачность неярким свечением угадывалось солнце. В баре включили магнитофон. Старые записи – «Битлы», «Ролинги», «Лед Дзеппелин». Негромко. Филумов расстегнул куртку, достал очки и уже готов был раскрыть и почитать журнал, оставленный кем-то на столе.
Она появилась внезапно и ниоткуда. Молодые люди к тому времени уже ушли. В павильоне было тихо и пусто. Филумов увидел, как она возникла из тумана в конце аллеи и подошла к «Ротонде». На взгляд ей было около тридцати, и он подумал, что по возрасту она вполне могла бы быть его дочерью. Высокая и стройная, она была одета в чёрную куртку плотного материала, из которого шьют пальто, в облегающие длинные ноги чёрные брюки и лакированные ботинки на смешной толстой платформе. Чёрная кожаная сумка на плече. Из-под белой пушистой шапочки во все стороны выбивались лёгкие вьющиеся тёмно-русые волосы. Она вошла в павильон, что-то тихо напевая, – мелодия показалась ему знакомой: «Love me, love me, say you do…». С воздушным хлопком вороньего крыла сложила зонтик и простучала по деревянному полу «Ротонды» к стойке бара. Заказала кофе и присела за столик напротив лицом к нему.
Филумову с её появлением – стук шагов, ветхий павильон, туманное очарование осени, листопад, незнакомка в чёрном, лёгкая грусть узнавания и прощания, – на мгновение показалось, что он сидит не в центре города, а на загородной станции и ждёт электричку. «И, правда, скоро в дорогу. Опять поезда. Новые встречи, лица и глаза. Когда ещё вернусь и вернусь ли?»
Он рассматривал её лицо. В ней была не обычная привлекательность, а какая-то ни на кого не похожая красота. Особенно его поразили её глаза. В разрезе и форме что-то восточное, внешние уголки слегка приподняты. То, что они посажены чуть глубже обычного, нисколько их не портило, а вместе с широкими верхними веками и тёмной тенью вокруг, они хранили загадку и тайну итальянских мадонн. И потом, этот янтарный цвет! Он как будто вобрал в себя все краски осенних листьев. В их глубине было так много печали, неизъяснимого страдания и в то же время доброго, мягкого света. Высокий чистый лоб без морщин, пушистые тёмные брови, чуть заметная горестная морщинка в уголках чётко очерченных, слегка припухлых губ. Точёный нос мило и весело задирался вверх.
Их взгляды встретились. Кто может объяснить, что происходит, когда мужчина и женщина впервые смотрят друг другу в глаза?! Ему на мгновение показалось, что он уже где-то видел этот удивительный взгляд, только было это давно. Во сне, наяву или в какой-то другой жизни – он не мог вспомнить, но было в нём что-то очень близкое и почти родное. Её взгляд проник внутрь Филумова, заполнил холодное душевное пространство и согрел. Он не видел ничего, что жило и шевелилось вокруг. Она тоже смотрела на него и не отводила глаз.
«Как нелепо устроена жизнь! Вот сидит и смотрит на меня женщина, которую я, возможно, искал и о которой мечтал. В её взгляде так много того, чего мне так не хватало, – нежности. Кажется, очень просто – встать и подойти к ней, но… почему я не встретил её раньше?».
Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но она вздрогнула, как будто внезапно что-то вспомнив. Быстро взглянула на маленькие жёлтые часики. Допила кофе, длинными узкими пальцами достала салфетку. Бросила на Филумова последний взгляд, полный едва заметного сожаления или укора, ещё чуть помедлила, как будто на что-то решаясь, закинула сумку на плечо, раскрыла зонтик и не спеша пошла прочь.
Он сидел неподвижно и долго смотрел ей вслед. «Ещё можно догнать её». Короткое время он боролся с этим желанием. «Поздно, да и зачем, что я ей скажу и что могу предложить: золото осени, мягкие ковры опавших листьев, серебро на висках и изумрудную тоску в глазах? Полно, тоже мне, богатство. Кому это нужно?» И он продолжал смотреть, как она медленно исчезает, словно чёрный поплавок, растворяясь в глубине осени.
Поднявшийся ветер гнал по аллее мёртвую листву. Из динамиков в баре – вместе с листопадом, каплями дождя и воспоминаниями, проникая сквозь одежду, кожу и схватывая за сердце, – летел голос Нины Симон: «Love me, love me, say you do…»
Город туманов
Было яркое, пронизанное солнечными лучами и бликами, свежее весеннее утро. Городок просыпался, начиная суетливую, шумную возню – готовился к ежегодным торжествам. Слышался приглушённый стёклами и плотными портьерами гул и шорох проезжающих машин, щебет птах и шелест листьев старых тополей.
По городу развесили длинные, узкие, как бинты, красные полотнища с меловыми надписями, начинавшиеся словами: «Слава…», «Мир, Труд, Май» и «Да здравствует…». Приколотили портреты пожилых волосатых, лысеющих и почти лысых, бородатых и усатых мужчин. Лица на всех портретах были разными, как на фотороботах, и только прически, усы и бороды позволяли опознать личности, проходившие, видимо, по одному делу. Из динамиков по центральным улицам неслась бравурная, жизнеутверждающая, физкультурная музыка – музыка здоровых желудков, железных мускулов и девственно пустых мозгов.
Звуковая волна, разливаясь по улицам, переливалась в переулки, лилась в подворотни, заполняя дворики древнего города, вливалась в подъезды, окна, чердачные отдушины, заливала бодрящим боем барабанного бумса ушные перепонки горожан, кошек, голубей, собак.
«Утро красит нежным цветом стены древнего кремля… И вновь продолжается бой… И Ленин такой молодой…» – неслось над черепичными крышами города, храмами, башнями, колокольнями, над всей необъятной удивительной и странной страной, улетая в бесконечную, бирюзовую, слегка разбавленную ватными клочками высь.
Волна докатилась до извилистой улицы и дома, стоящего почти в самом центре Старого города и повернутого животом во внутренний уютный дворик. Даже в самые погожие солнечные дни тут была тень. Во двор вела арка, напоминая топку камина. Дом подставлял старую потёртую спину первому, ещё не стойкому, теплу.
Если бы кто-нибудь из праздных гуляк, которые во множестве болтаются по улицам Старого города, забрел внутрь – он бы увидел квадрат двора и стоящую посередине не то стелу, не то пьедестал памятника. На вершине постамента было пусто, поэтому возникало ощущение, что здесь когда-то стоял командор – хотелось непременно заполнить пустоту, установить хоть что-нибудь: крест, бюст – или, на худой конец, забраться на постамент самому. Напротив входа желтела стена древнего забора, поросшая густым ковром дикого винограда, прихваченная длинными зубами контрфорсов. За стеной взлетал в небеса древний костёл, затенённый отрядом пожилых тополей. В остальных трёх сторонах дворика он бы увидел три подъезда, смягчённых тенью, с уходящими куда-то в сизоватую глубину ступенями. Всё это: стела, мраморная, с отбитыми углами скамейка, напоминающая французский сыр бри с зеленовато-серыми жилками плесени, три—четыре чахлых куста сирени и вишни, стены, давно не знавшие краски, с треснувшей и местами обвалившейся штукатуркой и обнажившимся рыжим кирпичом, земля, мощённая где булыжником, где тротуарной плиткой, местами покрытая реденькой чахлой травкой, а то и вовсе голая, – создавало впечатление тлена, старости, долгой болезни, чего-то нежилого, но непостижимым образом, одновременно – покоя, столетиями нажитого человеческого уюта и тепла, незыблемости, вечности. Казалось, что это не жилой дом, а старый, беспризорный музей, если бы не тюль и не гардины на окнах, не цветочки в горшках на подоконниках и не висящее на веревках в углу двора стираное белье. Воздух дворика застоялся и не проветривался лет пятьдесят.
Вот и старый подъезд. Сколько вечеров ты слушал наши мальчишеские бредни, песни под гитару, эхом отражавшиеся от твоих сводов. Ты помнишь первые робкие свидания и поцелуи на площадке между этажами. По твоим ступеням, стертым наждаком столетий, бегали мы в школу, во двор, в Город, в сверкающий, соблазнительный и удивительный мир.
Город моего детства, юности, молодости. Город туманов. Город снов. Из его улочек, домиков, черепичных крыш, костёлов и церквей, из камней на мостовой, из близких друзей и любимых девушек, из самого воздуха и неба – сложилось всё, что можно выразить коротким словом – я. Город и я – мы. Его у меня уже никто не отнимет. Как долго я не видел тебя! В моих сегодняшних снах ты причудливо вплетаешься в другие города, и даже если я долго не вижу тебя, ты всё равно где-то рядом, внутри, под черепом и кожей. Во сне я всё брожу по Старому городу, по дворикам и холмам в осенних туманах, в висящем в воздухе дожде. Всё пытаюсь найти кого-то, кого когда-то любил, оставил, обидел, забыл.
Это не ностальгия. Ностальгия – это тоска по утраченной родине, по тому, что невозможно вернуть. У меня нет тоски. Я ни о чём не жалею. Город – часть меня, моей жизни, души, тела. Он во мне, и я не чувствую разрыва. Всё так же свеж и прозрачен весенний воздух над кафедральным собором, над колокольней и Замковой горой. И я, как прежде, всё иду по Пилес до церкви Параскевы Пятницы, сворачиваю налево и спускаюсь вниз и дальше, через мосток с чугунными ажурными перилами, через вечно спешащую Вильняле, в страну Ужупис. Ухожу туманными улочками в Город прошлого.
Живут со мной и первая влюбленность, и первая любовь. Живые и навсегда ушедшие друзья, но и умершие – они живы во мне. Всё так же ходят ко мне в гости, разговаривают, смеются, молчат.
Помню первые наивные художественные опыты и первые неумелые стихи. И ещё какую-то затаённую раннюю печаль и тоску в груди. Предчувствие чего-то большого, что должно случиться и что непременно произойдёт – ожидание судьбы. Вспоминаются какие-то юношеские клятвы, данные самому себе, которые почти все остались неисполненными.
Я уехал. Жизнь как будто гнала меня, и я покорялся её бурному, стремительному течению. Видно, досталась мне от предков тяга к кочевью – не сидится мне долго на обжитом месте. А город остался, живёт и будет жить без меня…
Мой двор
Двор для меня – это не просто дома, сараи, деревья. Это мир, эпоха, живое существо, в котором заключено моё детство, воздух, без которого не было бы меня, небо над городом, особое ощущение жизни конца 50-х – начала 60-х годов. Отсюда начинаются мои пути-дорожки в наш, такой непростой, необыкновенный, прекрасный и одновременно трагический мир.
Появился я на свет в ноябре 1957 года. В столице Литвы. В городе, который литовцы называют «Вильнюс», поляки – «Вильно», евреи – «Вилнэ». В каком роддоме, не помню: у меня при рождении от всех этих новых впечатлений после катавасии внутриутробного развития и родов было плохо с памятью. Родители жили на улице Пшевальского, польского революционера, в маленьком однокомнатном полу-подвальчике.
Отец, Валентин Иванович, с 1949 года служил в Литве в войсках МВД. Часть, в которой он служил, находилась в районе городка Алитус и занималась уничтожением остатков банд литовских националистов – «лесных братьев». Он был трубачом в военном оркестре. В этом, собственно, и заключалась его служба. Лишь изредка их, музыкантов, привлекали на крупные лесные оцепления и прочёсывания. Прослужив положенных три года, отец перевёлся в Вильнюс, где он остался на сверхсрочную службу в гарнизонном военном оркестре и прослужил ещё четыре года. Отслужив срочную, поехал в отпуск на родину в тамбовскую губернию и познакомился с моей мамой – Софьей Васильевной, в девичестве Востриковой. Влюбился, женился и увёз её в Литву. Но не одну, а с маленькой дочкой Таней – моей сестрой.
Двор наш был интересен тем, что в нём стояло два дома под одним номером. Жили мы как бы одним домом.
Вильнюс всегда был многонациональным городом. Населяли его поляки, евреи, белорусы, которые жили тут издавна. После войны постепенно подтягивались из малых городков и хуторов литовцы, которых при освобождении города советскими войсками в 1944 году было немного – два процента, и русские с украинцами, в основном приехавшие после войны для восстановления города. Не был исключением и наш двор. Все, естественно, между собой говорили на русском.
Квартирка наша представляла собой комнату метров 18—20, от которой была отгорожена кухня 7—8 метров, а может, это всё было и того меньше, но вспоминается именно так. Комната, таким образом, представляла собой букву «г». Ели мы на кухне. В длинной ноге буквы «г» стоял диван родителей, в верхней перекладине «г», за поворотом в темном углу (окна там не было), располагались наши с сестрой кровати, в углу буквы «г» – печка, обложенная белым печным кафелем. Из всех прелестей цивилизации были свет, кран с холодной водой и умывальник. Ни газа, ни туалета, ни тем более ванной не наблюдалось. Туалет находился на улице, в углу двора. Мыться ходили в общественную баню, которая была дальше по улице, в сторону центра города. Мама готовила еду на керосиновом примусе. В квартирке было два окна: одно на кухне, другое в родительской половине. Окна глядели во двор и частично уходили под землю. Получалось, что между нашими окнами и землёй проходил как бы окопчик с бруствером, выложенный из кирпича и оштукатуренный. Из-за этого окопчика дождевая вода стекала под наши окна, и поэтому в квартирке была постоянная сырость, а в особо дождливую пору вода затекала и в саму квартирку через входные двери. По малолетству и от отсутствия опыта жизни в квартирах более шикарных – я никаких неудобств не ощущал. Мне не с чем было сравнивать.
Когда я был совсем маленьким, родители ставили мою кроватку, плетённую из ивовых прутьев, вплотную к своему дивану так, чтобы я был всё время у мамы под рукой. Просыпаясь ночью, я переваливался через перила кроватки, падал на родительский диван и забирался к маме с папой под одеяло. Как-то раз я спросонья перепутал и упал в противоположную сторону, но там ничего, кроме пола, не оказалось. От удивления и обиды я, естественно, заорал.
Бедная моя кроватка! В ней позже завелись клопы, которые с удовольствием пили по ночам мою младенческую кровь, и отец вынес её во двор, облил керосином и спалил. Я смотрел на костёр и был доволен тем, что вместе с ней горели мои кровопийцы.
Дом был трёхэтажный, если считать и наш полуподвальный этаж. Второй этаж был самый «цивильный», и там селились в основном старшие офицеры, военные прокуроры или военные врачи со своими семьями. Последние были в основном евреями. Были и смешанные семьи. Например, семья прокурора Ликёра, жена которого была русской. Офицеры же были русские, украинцы и белорусы. Комнаты у них были посветлее и побольше, потолки выше, окна пошире, а так всё то же самое.
Я не помню, чтобы когда-нибудь возникали ссоры или конфликты на национальной почве. Жили дружно, дружили семьями, и связи эти остались на долгие годы. Даже когда наши дома снесли один за другим и все получили квартиры в разных концах города, дружба не прерывалась. Были тут семьи военврача Вайнтрауба, экономиста Эйнгорна. На одном этаже с нами, в таком же подвальчике, только дальше по коридору, жила семья парикмахера Флейша. Мы росли вместе, и наша детская жизнь проходила во дворе.
Жили все примерно одинаково. Ну, может быть, жители второго этажа материально чуть лучше, но ни у кого это не вызывало ни зависти, ни злобы. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. Когда стали появляться телевизоры, соседи ходили к обладателям чудо-приёмника по вечерам в гости, со своими чадами и домочадцами, смотреть разные передачи и фильмы. Расставлялись стулья, кто-то тащил свои табуретки. Жизнь каждой семьи проходила на виду у всех, и все знали, что происходит у соседей: кто поругался, кто расходится, кто гуляет, кто что купил – да никто ничего и не скрывал.
Я не помню случая, чтобы кто-нибудь обозвал еврея «жидом», а русского «кацапом», или «москалём». Это противоречило всему строю тогдашней жизни. И как я мог назвать своего дружка Илюшку Эйнгорна или Инку Флейш «жидами»? Да я и слова такого не знал и от родителей (спасибо им!) не слышал. Для меня они были друзьями, товарищами, дворовым братством. Все они были для меня чем-то естественным и органичным, как воздух, которым дышишь, не задумываясь, как булыжная мостовая нашей улицы, которую топчешь каждый день и другой себе не представляешь, как будто она вечно была и вечно будет…
Родители мои, беспокоясь о моём здоровье – подвальчик-то тёмный и сырой, – старались, чтобы я как можно чаще бывал во дворе, на улице. Так что там и проходила большая часть моего детства. По этой же причине меня поили рыбьим жиром. Вот это, я вам скажу, гадость! Я этот жир запомнил на всю жизнь. Приходилось маме идти на всякие хитрости, иначе мой организм отказывался его принимать. Покупала какой-нибудь фруктовый сироп и наливала сразу две столовые ложки – одну жира, другую сиропа. Только так резко, одну другой, запивая жир сиропом, я мог его проглотить.
Наш дом стоял вдоль улицы. Второй, двухэтажный, находился дальше от дороги, в глубине двора, чуть наискосок от нашего – и фасадом был повернут в сторону улицы. Двор, огороженный дровяными сараями, стоял «покоем». Во дворе, чуть ближе к нашему дому, в землю вкопали деревянный стол со скамейками с четырёх сторон. Этот столик постоянно оккупировали картёжники. Они, вместе со столом и скамейками, представляли в моём сознании как бы одно целое.
Одним из самых активных участников игры был мой отец. Он играл всегда с азартом, с шутками-прибаутками. Карточные игры не отличались особым разнообразием: «кинг», «рамс», «тысяча» – вот, пожалуй, и всё. Ставили на кон по 10—15 копеек, не больше. В худшем случае можно было за вечер проиграть 1—2 рубля или, наоборот, выиграть. Отец к моменту моего рождения уже оставил военную службу и работал на заводе, зарабатывал квартиру. После работы и ужина бежал к столу – занимать место. Маме эта его страсть, конечно, мало нравилась, но она мирилась с ней: «Всё же муж не пьёт и всё время на глазах» (стол был виден из наших окон). А чтобы я не лежал в тёмной сырой квартире, она выносила меня во двор и отдавала отцу на руки, так что я с младенчества был невольным участником игры. Поэтому первыми моими словами были «туз», «валет», «дама», а не «мама». Во дворе вечно стоял шум. Постоянно спорили, ругались, смеялись и орали. Играли упорно, до темноты. Когда становилось совсем темно, проводили из ближайшей квартиры длинный провод и подвешивали над столом, на ветку стоящей у стола березы, большую электрическую лампочку. Игра продолжалась до поздней ночи. Приходили играть и заядлые любители из соседних домов.
Играли даже женщины. Особенно азартной была жена офицера Семёнова, литовка Матильда Константиновна. В миру – Мотя. Мотя была небольшого роста, примерно 150 см, но поражали её объёмы. При таком росте вес у нее был не менее 120 кг. Она была как надутый шар. Своими формами она могла бы украсить любое из полотен Рубенса, если бы её можно было поместить в известный пыточный станок инквизиции и вытянуть за руки и за ноги сантиметров на 20. Нога в икре по объему равнялась двум, а то и трем бицепсам моего отца. Летом ей было особенно тяжело. Она выходила во двор и шла уверенной тяжелой поступью к картёжникам. В руке у нее был алюминиевый бидончик литра на три. Она выгоняла из-за стола своего мужа, капитана Мишу Семёнова, садилась плотно на лавку и начинала играть. Кого-нибудь из пацанов посылала «на колонку» за водой, только наказывала, чтоб принёс холодную. Для этого нужно было долго её сливать. Так и вижу Мотю за столом с картами в руке, с тройным подбородком и с бидончиком, стоящим на столе рядом с ней. Лицо её выражало полное удовольствие и лоснилось от пота. За два часа игры она выпивала четыре бидончика. Полнота Моти вызывала вечные насмешки соседей. Мало кто понимал, что полнота эта была следствием болезней и неправильного обмена веществ, а не обжорства. Кажется, уже тогда у неё были признаки диабета. Впрочем, шутки были без злобы, но Мотю они всё равно обижали. Она сама страдала от своей полноты. Купить платье и вообще готовую одежду она не могла, поэтому моя мама иногда шила ей то одно, то другое платье, и Мотя часто приходила к нам в подвальчик на примерку.
Младший сын Моти, Сашка, был моим ровесником и вечным соперником. Он пошёл в Мотю и был гораздо крупнее меня. Мы с ним устраивали борцовские поединки во дворе. Помню один такой. Мы вышли на середину двора. Тут же, конечно, собрались зрители, среди которых были Мотя и мой отец. Мы сцепились с Санькой, а поскольку он был выше и тяжелее, то ему удалось меня повалить и прижать к земле. Он лежал на мне всей своей тушкой, а я под ним извивался как уж. Мотя довольно улыбалась. Тут я изловчился и выскользнул из-под Сашки и, в свою очередь, оседлал соперника. Того, что произошло дальше, никто не ожидал. Мотя, увидев, что её сынка прижали, подбежала и начала осыпать меня тумаками, что вызвало возмущение зрителей. Благо, батя мой был рядом и вовремя оттащил разъярённую Матильду.
Однажды всем двором искали пропавшую соседскую девчонку. Она вышла в туалет и пропала. Очумевшая мамаша в панике бегала по всем соседям, искала по всем дворовым закуткам – нигде нет. Решила, что та провалилась в туалетную яму. Действительно, дырки в нашем туалете были большими. Мужики стали длинными шестами обшаривать дно ямы. В этот полный трагизма момент со стороны улицы тихонько во двор вошла виновница паники. Она, как потом выяснилось, ничего не сказав матери, пошла в гости к подружке. Появление «утопленницы» вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Облегчение у тех, кто искал её в туалете, и радость соседей, дежуривших во дворе. Реакция мамаши «воскресшей» девчонки была бурной, то есть сначала она кинулась к ней, принялась обнимать и плакать от счастья, но немного придя в себя, стала лупить её по заднице, приговаривая: «Не будешь уходить без спроса?!» Девчонка орала благим матом и божилась, что больше так не будет. Помню, что я сильнее испугался вида матери, вернее резкого перехода от радости к жестокости.
Потом некоторое время достопримечательностью двора был Илюша Эйнгорн.
Илью, как всякого ребёнка в порядочной еврейской семье, родители пытались учить музыке. Пианино, скрипка и т.д., но никаких выдающихся способностей у него не оказалось, а возможно, и желания, а может быть, музыкального слуха, что редко, но всё же бывает, даже и в таком музыкальном народе.
Надо сказать несколько слов о его внешности. Илюха видом своим напоминал какую-то нелепую птицу: рыжие вихры его вечно вились в разные стороны, как будто хотели сорваться с головы и улететь, нос – клюв попугая и торчащие наружу, в разные стороны, передние зубы. Так вот, после неудачных родительских музыкальных опытов Илюша, уже совершенно самостоятельно, обнаружил у себя (к несчастью для всех соседей) певческий талант. В те давно ушедшие времена был очень популярен итальянский мальчик-вундеркинд Робертино Лоретти, с поразительной красоты и чистоты голосом. Во всяком доме, где был проигрыватель, а были они практически в каждой семье, хранились виниловые пластинки с его песнями. Вот его и избрал Илья себе в кумиры и решил добиться такой же всемирной славы. А как? Кто-то из взрослых, не подумав, на свою беду, сказал Илюше, что голос надо развивать. И вот в одно прекрасное утро состоялся его «дебют».
Семья Эйнгорнов жила в доме напротив на втором этаже, в квартире с широким балконом, выходящим во двор.
И вот певец наш вышел на этот балкон, предвкушая «фурор», который он «произведёт на восхищенных слушателей». Было воскресенье, что-то около восьми часов утра. Двор ещё спал в безмятежном блаженстве тёплого летнего утра. Спал и не ведал о надвигающейся опасности. Он ещё не знал, что рядом проснулся всемирный талант Ильи Эйнгорна. Илья включил проигрыватель, поставил пластинку Робертино и выступил на балкон. Тишину двора пронзил дикий, ни на что не похожий крик. «Джа-ма-а-а-й-к-а-а-а!!!» – заорал и завыл наш певец, отчего тут же проснулись все дети, включая грудных, резко вспорхнула что-то мирно клевавшая стайка голубей и бешено залаяли дворовые собаки. Вздрогнули и проснулись работяги, трудившиеся всю неделю (тогда, кстати сказать, был один выходной – воскресенье), заворочались в тёплых кроватях домохозяйки, служилые отцы и матери семейств. Через полчаса утренняя распевка нашего Лоретти подошла к концу, но двор, естественно, уже не спал. Двор ещё не знал, что эта пытка продлится ежедневно, месяца два.
Да, покой кончился. Он был разорван на клочки истошным криком Ильи, как некогда был потревожен покой еврейского народа трубным гласом его знаменитого тёзки пророка. У них обоих были свои далеко идущие планы и резоны. В маломузыкальном творчестве Илюши сквозила хрустальная любовь к чистому, ничем не разбавленному искусству. Какая, в сущности, мелочь, что нет голоса и недостаточно слуха, что твой вокал вызывает в домочадцах лишь одно чувство – ненависть, что единственное, что они по утрам спрашивают у твоей мамы, – это: «Роза, когда ты заткнёшь фонтан своему вундеркинду? Чтоб он был так здоров, как мы устали от его пения».
Но, несмотря ни на что, в течение двух месяцев нам пришлось прослушать весь репертуар Робертино в исполнении Ильи, что явно ослабило нашу любовь к искусству итальянского мальчика и вообще к итальянской музыке.