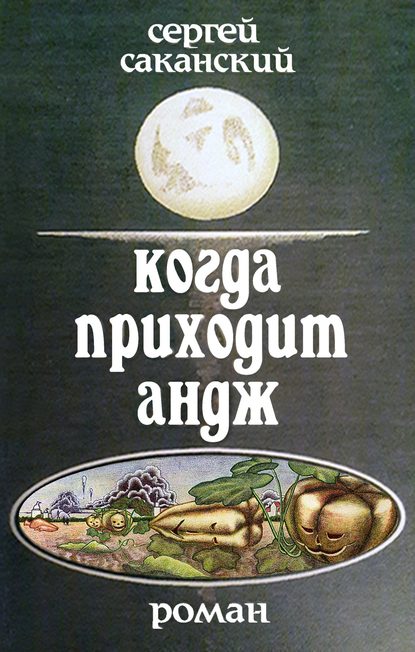По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Когда приходит Андж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мэл отдавал себе отчет в том, что мечтает глупости, но стоит ли осуждать его – ведь он понятия не имел о чьей-то посторонней возможности подслушать его мысли…
И я буду с ними, с ними, на вершинах наслаждений, и я буду брать – не хватать, не хапать – а именно брать двумя пальцами, как стебель цветка, а потом придет год от рождества Христова 1985-й, и мы придумаем нечто новое, мы сменим одну правду другой, и снова будем брать, еще нежнее, с еще большим наслаждением, более изысканные плоды…
Вдруг будто какая-то на гибком медицинском шланге присоска, покачиваясь, вылезла из-под кровати и поцеловала его в шею – ведь институт есть единственное, что они могут сделать со мной на законном основании, следовательно, они пойдут другим путем, а именно: подкараулят меня где-нибудь и преспокойно убьют, как говорят в народе – кирпич на голову упадет.
Мэл увидел бесспорную вещественность этой мысли. Вот он стоит в троллейбусе, невинно поглядывая по сторонам, красивая женщина строит ему глазки, он завязывает знакомство, выходит с ней – темные улицы, по городу движется цепная реакция собачьего лая, вдруг несколько костлявых фигур преграждают дорогу, подруга спокойно уходит по переулку, не оглядываясь, она сделала свое дело, его профессионально, с холодным отвращением бьют, он закрывается, пытаясь защитить жизненно важные органы, и вдруг ему становится ясно, что его вовсе не бьют, а его убивают, и он кричит, но никто не идет на помощь, потому что милиционеры предупреждены, а мирные жители боятся милиционеров, – это чудовищно, нелепо, да, слишком нелепо, скорее всего, так: они заходят в засаленный подъезд кислой капусты, она открывает дверь картофельной коммуналки, запускает тихую музыку, томное ожидание нового тела, она дает себя раздеть, вдруг вцепляется ему в волосы, орет, врываются соседи, милиционеры, налицо попытка изнасилования, он попадает в лагерь, где его голову зажимают между дверью и косяком, делают его машкой, не выдержав кошмара, он кончает с собой, что также выглядит неправдоподобно, лучше оставить так, как это было всегда: незнакомая бедная комната, тихая музыка вечернего дрозда, острый неповторимый запах, сугубо индивидуальный для каждой, утренний чай, в глазах благодарность за доставленные оргазмы, поглаживания: заходите еще, 3-я Паршивая улица, Дом Образцовых Фекалий, лестница вчерашнего супа.
Мэл был человеком странным, противоречивым, с одной стороны, он хотел завоевать мир, насладиться им с высоты, иметь самых лучших женщин, иметь ярких, интересных друзей, вроде Стаканского, и т. д. и т. п. В то же время он высоко ценил свое одиночество, Стаканского да и прочих людей тайно ненавидел, а что касается наслаждений – Мэл в полной мере ощущал лишь эякуляцию, его вкусовые рецепторы были развиты слабо, вообще, он воспринимал мир больше через запах, цвета его были приглушенными, тусклыми. Родившись в год собаки, а по странному совпадению – и в час собаки, Мэл, в сущности, и был этой самой собакой, так, по крайней мере, он иногда с горечью думал о себе.
Недостатки и слабости, которые Мэл тщательно скрывал, несколько смещали уже вполне сложившийся образ. Плохое зрение делало окружающих людей лимоннолицыми, без каких-либо существенных черт, очки, разумеется, Мэл категорически не носил: кроме вполне понятной причины, была еще одна, странная – он боялся, что количество женщин уменьшится еще и потому, что он их слишком хорошо разглядит.
Женщин у Мэла было уже больше сотни, в прошлом году он как раз посчитал на компьютере, и – удивительная вещь – тогда их оказалось девяносто девять, и Мэл срочно взял недостающую, вместе с ней, кстати, и отметил это дело, ни слова ей, собака, не сказав. За всю его недолгую жизнь ни разу – верите ли? – не было у него отказного случая, что могло бы послужить либо косвенным доказательством существования некоего еще не открытого донжуанского поля, либо… Вполне возможно, что шестое, или даже седьмое чувство подсказывало Мэлу: с этой де не выгорит, немедленно шел электрический импульс в мозг, в центр наслаждения, и Мэл не испытывал ни страсти, ни боли в паху…
Своим бесспорным недостатком Мэл считал непреодолимую тягу к табаку, много раз он пытался бросить, безуспешно, в конце концов смирился, со злостью сообразив, что этим наградил его «дед», куривший, как паровоз, исключительно папиросы, омерзительный Беломор, уводящий в ассоциацию о парашах, бушлатах, каких-то закопанных скелетах… Была у него еще одна, совершенно незамотивированная привычка – в гостях он всегда воровал спички, как бы машинально засовывая коробок в карман: никому и в голову не приходило, что он делает это обдуманно, расчетливо. Другой его странностью было внезапное, непонятное желание ночевать где-нибудь вне дома: частенько он засиживался допоздна у того же Стаканского, и тогда хозяева сами не хотели отпускать его в жуткую, полную стрельбы ночь, и Мэл как бы с неохотой соглашался, влезая в плюшевый халат, впрочем, скорее всего, здесь прослеживалось желание комфорта, элементарной домашней ванны…
Вот каким чудаковатым персонажем был этот Мэл Плетнев, и вряд ли стоит говорить, что это совершенно не типический образ, не какой-нибудь там Базаров, Мышкин или Дубровский.
Ночь… Свесившись с кровати, Мэл далеко шарит, рука натыкается на твердый предмет, завернутый в ситцевую тряпицу. Это – инструмент.
Музыка была для Мэла мерцанием, он видел здание, чьи загадочные окна возделывали мелодии ночи и пустоты, – вот почему инструмент Мэла Плетнева, инструмент, специально для него изготовленный его другом, мейстером Сакварелидзе – из красного и лимонного дерева, с инкрустацией тончайшими пластинками янтаря, слюды, смарагда, инструмент, найденный после известных событий и так озадачивший следователя, – был похож на узкое многоэтажное здание с пылающими окнами. Вот почему, разворачивая свой инструмент, Мэл накладывал длинные артистические пальцы на разноцветные шторы человеческих жилищ и, слегка надавив, извлекал свои симфонии и фуги, свои рапсодии и гимны, и двигались по ночному городу дивные сполохи света, будто город, глазированный, сахарный, со свечами тысячелетия подавали на стол великана, и он следил внимательными белыми глазами, сглатывая слюну, как вспыхивает где-то на Сретенке очередной аккорд и, в мгновенье ока полыхнув по бульварам за реку, взлетает на Воробьевы горы, чтобы потом вынырнуть в Коломенском и в более дальней перспективе нестись по тьме и сырости южной Подмосковии, где лишь мельчайшими искрами полыхают отдельные дома, станции, церкви… И толпы обезумевших от ужаса людей вываливают на улицы, срывают друг с друга одежды, разрывают друг другу рты, – и вот уже пляшет бесноватый в кальсонах, как занавеска в окне, на площади перед памятником Ришелье, прямо на колодезном люке, и скачут, гулко стуча, вниз по лестнице отломанные головы…
Он сфантазировал себе рок-группу, в лицах представив ее состав: это были замечательные, безраздельно преданные ему ребята, они были столь же реальны, как, скажем, литературные персонажи, жили своей, неуправляемой жизнью, и плевать им было на собственную нематериальность.
Мэл не хотел быть ни органистом, который, сложив губы трубочкой, склоняется над клавиатурой, ни даже лидером, в экстазе выгибающим спину с фаллической гитарой наголо, ни тем более ударником, который на заднем плане иронически переглядывается с публикой, когда друзья-артисты пускают петуха.
Мэл был загадочным басистом с гитарой, длинной, как ружье, он ставил изумительные звуки среди спрессованной публики, словно палочки в муравейник для добычи кислоты, разумеется, он сочинял тексты и музыку, и был неофициальным, теневым руководителем группы, и с первого же взгляда было ясно, что главный здесь именно он. Мэл зависал на перекладине в метро, с каменным лицом онаниста, и лишь по ритмическому дрожанию век можно было догадаться, что внутри молодого человека происходит музыка, броуновское движение зала, пятеро маленьких человечков на сцене, наполняющих мир грандиозным звуком… И никакого значения не имеет, что с рождения нет Мэла ни малейшего музыкального слуха, иначе бы он действительно пытался стать музыкантом – в яркокварцевом ореоле славы, в бешеном серебре софитов, он имел бы, наверно, столько же девочек, и вовсе не нужно было ему карабкаться по этой лестнице, годами высиживать материальную власть…
Инструмент Мэла Плетнева был глухим. Мейстер Сакварелидзе изготовил плоскую, размером чуть больше компьютерной клавиатуры, доску, в которую были врезаны выступающие клавиши, их легко было нащупать, но вовсе невозможно нажать. Каждая клавиша соответствовала определенной ноте, полулежа в кресле, Мэл клал инструмент себе на колени и, водя по клавишам пальцами, внутренне слышал или, вернее, воображал свою волшебную музыку.
Дверь была заперта, тишина… В тишине было слышно лишь глубокое дыхание музыканта и легкое постукивание ногтей о деревяшку, но это была неведомая, фантастическая, феерическая музыка, и лишь один человек в мире слышал ее.
Анжела стучалась тихо – пять коротких телеграфных стучков в размере три четверти. Девушка разбежалась и прыгнула, запрокинув ноги ему за спину. Мэл отечески похлопал ее по плечам.
– Я очень скучала за тобой.
Она восседала у него на коленях, его мысли метались в знакомых читателю пространствах, он машинально поглаживал ее бедро, внечувственнно, как бородач теребит бороду, его слова были бездумным отражением ее слов:
– Да?
– Да. Я каталась на лыжах в горах, у нас там зимой бывает снег. А в прошлом году был снег и внизу, мы катались на санках по улицам, а один Лешка – он даже спустился на горных лыжах с Ай-Петри, мимо Тюзлера и Учан-Су, вылетел на Советскую площадь и лихо развернулся у сучьего дома, правда, потом лыжи пришлось выбросить, потому что там кое-где торчал асфальт.
– А я считаю эти катания пустой тратой времени.
– Да?
– Да.
– А на что же вы тратите свое бесценное время, милорд?
– Так… В жизни есть дела поважнее.
– Ты, наверно, пишешь роман? Я угадала?
– Какая ты догадливая.
– А можно примазаться к твоей славе?
– Только посмертно.
– Не говори так. У нас во дворе был мальчик, его потом в горах нашли, в обвале, так он тоже написал роман. Между прочим, он его мне посвятил… Бр-р! Какой был гнусный роман – там всю дорогу только и делали, что пердели, как в фильмах Феллини, да беседовали о строении Вселенной, честное слово, пятьсот страниц сплошного пердежа и какой-то странной, душераздирающей философии… Вообще, этот роман как будто бы медленно сходит с ума: герои говорят совершенно не характерные им речи, меняются местами, репликами, причем, безумие его совершенно уникально – каждый читатель, в меру своей испорченности, находит свою, индивидуальную точку безумия… Эй, ты не заснул? А ты знаешь, что Вера Лемурова пишет стихи?
– Да ну?
– Ну да! Очень дурные стишки про чувства. Она у нас трагическая женщина.
– Ну ее на фиг.
– Правильно. У нас есть много о чем поговорить, кроме нее. А откуда ты родом, Мэлор?
– Из Стамбула.
– Не смешно. Ты турок?
– Нет, правда, я родился в Стамбуле, где мой отец был полпредом. Мы даже жили полгода в Италии.
– Правда? Расскажи.
– Скучно. Эмигранты едят бананы. Есть обычные, есть круглые, есть маленькие, словно пиписьки, а нам присылают зеленые, кормовые.
– А я никогда не ела бананов.
– Как?
– Так. В Ялте их не бывает, а в Москве денег нет.
– Может, ты и апельсинов не ела?
– Ела недавно. Под Новый Год. Слушай, этот Пурся хотел меня трахнуть под бой курантов. Набей ему морду, а?
– Непременно. Только найду предлог.
– А ты просто – вызови его на дуэль.
– А если убью?
– Отсидишь и вернешься. Я буду тебя ждать, я верная. Да не улыбайся ты так кисло, будто лимон схавал! Я пошутила. Пурся уже получил свое.
– Да? Кто же это постарался за тебя?