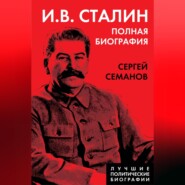По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Под черным знаменем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Под черным знаменем
Сергей Николаевич Семанов
Жизнь и смерть Нестора Махно. О знаменитом повстанческом атамане написано немало сочинений. К сожалению, истинный облик его нередко вольно или невольно искажали. Только сегодня, когда обнаружены многие сокрытые ранее документы и воспоминания, мы можем узнать, каким он был на самом деле. В основу книги легли сведения, полученные автором во время бесед со вдовой и единственной дочерью Нестора Ивановича.
Сергей Семанов
Под черным знаменем
Жизнь и смерть Нестора Махно
Для начала процитируем письмо, отправленное 4 апреля 1968 года в город Ленинград из города Джамбула. Этот небольшой городок в южной казахской степи назывался до тридцать шестого года Аулие-Ата, до тридцать восьмого – Мирзоян (бывший партийный шеф Казахстана, позже расстрелянный). Затем разросшийся уже город накрыло имя «акына», прославлявшего убийц прежнего своего начальника.
Ну, переименование городов, улиц, площадей и мостов – дело знакомое, это так, для справки…
Данное письмо приводим полностью, опустив только фразу, где упомянута фамилия: пусть она ненадолго останется не известной читателю. И еще добавим: письмо это, отправленное чуть ли не четверть века тому назад, публикуется впервые.
«Мы жили тогда в пригороде Парижа Венсене в маленькой меблированной квартирке, состоящей из одной небольшой комнаты с кухней. Семья наша состояла из трех человек: меня, мужа и одиннадцатилетней дочери. Осень 1933 г. Я безработная, муж довольно тяжело болен, дочь ходила в школу. Муж болел туберкулезом легких еще со времени заключения в Бутырской тюрьме в Москве, где он отбывал каторгу, закованный по рукам и ногам, и где провел девять лет и откуда его как политического заключенного освободила революция. Из тюрьмы он вышел без одного легкого, и теперь изнемогало и второе его легкое, также пораженное туберкулезом. Кроме того, его мучил последние пару лет и туберкулез костей. Были поражены два ребра, на которых постоянно образовывались большие болезненные шишки, наполненные гноем. Еще беспокоила его незаживающая рана на ноге, простреленной в одном из боев разрывной пулей. На эту ногу он хромал. Из раны время от времени выходили осколки разрывной пули.
Однажды в русской газете «Последние новости» [1 - Газета выходила в Париже с 1920 по 1940-й, редактором с 1921-го был П. H Милюков] я прочла объявление, что в один русский детский пансион-интернат требуются работницы. Я пошла по указанному адресу и устроилась на работу в качестве прачки в пансион для русских девочек в Кенси, а муж больной остался один дома. По воскресеньям я его изредка навещала. Часто навещали его многие товарищи. Зимой ему стало хуже, и приблизительно в марте месяце 1934 года мы его поместили в один из французских госпиталей в Париже.
По воскресеньям я часто навещала его в госпитале. Здесь я встречалась с многочисленными его товарищами, как русскими, так и французами. Часто бывал у мужа один эмигрант из бывших белогвардейцев из войск Юденича, некто Яков Филиппович Карабань. А познакомились мы с ним, живя в одном отеле на одном этаже в Венсене. Он частенько заходил к нам, подолгу беседовал с мужем и был всегда желанным гостем.
Несмотря на пребывание в госпитале, здоровье мужа не улучшалось. В июне месяце врачи решили сделать операцию – (вынуть) удалить два пораженных туберкулезом ребра. В конце июня однажды вечером я зашла к нему в госпиталь. Он был очень уставший, измученный и ослабевший. На мой вопрос: «Ну, как?» он ничего не ответил, только из глаз его покатились слезы. Я тоже заплакала. Говорить нам больше было не о чем… Я поняла, что ему тяжело, что жизненные силы покидают его, что он уже больше не жилец на этом свете. А через несколько дней ко мне на работу в Кенси приезжает на такси один товарищ, Максим, и говорит: «Собирайся, Галина, сейчас же едем в Париж, Нестор умирает».
Я взяла дочь, спустилась к заведующей и заявила ей, что я сейчас с дочерью уезжаю в Париж, так как отец моей дочери и мой муж умирает. Мы сели в такси и поехали. Часов в пять вечера мы были уже в Париже, в госпитале. Муж лежал на постели бледный, с полузакрытыми глазами, с распухшими руками, отгороженный от остальных большой ширмой. У него было несколько товарищей, которым, несмотря на неурочный час, разрешили здесь присутствовать. Я его поцеловала в щеку. Он открыл глаза, и обращаясь к дочери, слабым голосом произнес:
– Оставайся, доченька, здоровой и счастливой! – Потом закрыл глаза и сказал: – Извините меня, друзья, я очень устал, хочу уснуть…
Пришла дежурная сестра. Спросила его:
– Как чувствуете себя?
На что он ответил:
– Дайте ужин. Принесите кислородную подушку.
– Сейчас, – ответила сестра и принесла ему кислородную подушку.
С трудом, дрожащими руками, он вставил себе в рот трубочку кислородной подушки, и сестра попросила нас всех удалиться и прийти завтра утром.
На следующее утро, когда мы зашли в палату, то увидели, что кровать, на которой лежал муж, пуста и ширмы у кровати не было. Один из соседей больных сказал, что сегодня утром около шести часов муж перестал дышать. Пришла сестра, закрыла ему лицо простыней, и вскоре его вынесли в мертвецкую. Это было 6-го июля 1934 года. Сестра сдала мне одежду мужа, его часы и прочие мелкие вещи, и мы пошли в мертвецкую. Здесь лежал покойник с восковым, очень спокойным лицом. На груди его сочилась рана после операции. Один из товарищей снял с лица мужа маску, и через пару дней мы его хоронили на кладбище Пер-ля-Шез. Тело его было сожжено в крематории, и урна с прахом замурована в стене».
Грустно… Смерть каждого человека трагична, каким бы он ни был в грешном своем бытии. И все же попытаемся предположить: кто же это? Кто так мирно и кротко рассчитался с жизнью в нищей больнице, в одиночестве и неприкаянности? Скромный служащий, работяга-неудачник, запутавшийся в жизни интеллигент, разорившийся предприниматель?…
Нет и нет. Имя героя письма когда-то, не так уж задолго до его кончины, гремело по всей России, отголоски аж по всему миру разносились. Имя пахло порохом, кровью, потом боевых лошадей, ружейным маслом, ременной сбруей боевых тачанок. Оно, это имя, стало символом нашей гражданской войны – кровавой и беспощадной друг к другу. Символом русской лихости и удали, презрения к своей и – к великому нашему несчастью – чужой жизни.
Имя это – Нестор Иванович Махно. О нем, а главное – о делах, с ним связанных, и пойдет рассказ в нашей книге.
Вернемся, однако, к письму, ибо не случайно именно с него началось наше повествование. Тут нужны кое-какие пояснения, которые потребуют некоторого авторского присутствия: недолгого, впрочем, весьма недолгого.
В начале шестидесятых годов я, научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР, как и ряд моих молодых сверстников-историков, с головой окунулся в изучение истории гражданской войны. Время для того было, по нашим понятиям, благоприятное: архивы, ставшие доступными так широко в конце пятидесятых, еще не успели «закрыться», в академических институтах и изданиях сохранялось еще известное свободомыслие.
Чего только не выволакивали мы из богатств, благополучно пролежавших десятилетия в «спецхранах», чего только не переписывали – так, на всякий случай, бескорыстно, а уж как горячо и свободно обсуждали прочитанное! Кое-кому из нас это потом пошло впрок. Мне, как я теперь понимаю, особенно повезло. Ощупью я наткнулся на ряд острейших сюжетов в переломный период истории России, о чем позже удалось кое-что написать и даже опубликовать. Один из этих сюжетов – о Махно.
В самом конце шестьдесят пятого, будучи в Москве, я робко заявился в солиднейший академический журнал «Вопросы истории». В ту пору периодических изданий было у нас куда меньше, чем сейчас, почти всякая публикация вызывала общественное внимание. Смущаясь своей дерзости, я зашел в комнату, где помещался отдел отечественной истории (все там ныне, как было!). Едва ли не запинаясь от робости, предложил: статья, мол, о Махно… Надо сказать, что в ту пору такое предложение выглядело не только неожиданным, но и странноватым, я на успех почти не надеялся. И вдруг молодой завотделом, красивый и голубоглазый, быстро и строго сказал: «Пишите и присылайте как можно скорее!» Решительным и смелым этим редактором оказался Андрей Николаевич Сахаров, ныне известный академический историк и писатель. Сейчас-то легко говорить, но тогда решиться на такое мог только отважный человек.
И я погрузился в забытые, с трудом читавшиеся, замшелые, по большей части запрятанные за железной дверью источники. И разворачивалась жуткая картина… Кровь, казалось, капала с выцветших страниц книг и газет, смертный запах поднимался с неряшливо составленных документов, людские стоны звучали за корявыми текстами приказов. К какому же выводу меня, молодого русского интеллигента, могло это привести?.
Вспомним время – середину шестидесятых, во многом переломную эпоху в идейной жизни страны. «Оттепель» отмерла, снятие Хрущева подавляющее большинство народа и интеллигенции встретило с чувством облегчения и не без злорадства даже. Померкло постепенно обаяние двусмысленного XX съезда, ибо выяснилось, что Хрущев собирался без Сталина жить почти по-сталински (кукуруза – вместо «великих строек», расстрелы в Новочеркасске – взамен «жертв сталинского террора»). Да, конечно, при Хрущеве стало несколько «теплее», но и только, суть общественного уклада не изменилась.
И вот тогда-то перед молодой русской интеллигенцией встал вопрос о ценности революции как таковой, не о конкретной даже, русской ли, французской, какой иной, а по сути – может ли революция, то есть насильственное изменение сущего, стать благом для общества? Годны ли сегодня подобные методы для решения положительных задач?
Тогда же автор этих заметок, склонный в молодые годы к решительным обобщениям, сформулировал: «Нет такого режима, который бы стоил революции!» Что ж, сказано крепко, хотя к широте и истинности этого афоризма нам предстоит вернуться. В ту пору многие становились ненавистниками всяких революционных действий и насильственных переворотов. Отсюда мое тогдашнее отношение к Махно и махновщине – «бунт бессмысленный и беспощадный». Оценка в духе давних традиций русской мысли, долгое время почитавшихся вредными. Статья же о Махно была написана быстро и горячо, с ходу опубликована, получила большой отклик у нас и за рубежом. Тут же мне стали пенять на погрешности в «классовых оценках» и т. п. (особенно тут свирепствовали украинские товарищи), но дело было сделано. Статье повезло: узкая щелочка тогдашней гласности вскоре вновь и надолго прикрылась; и то сказать, за четверть века, прошедшего с той публикации, в нашей печати не появилось ни одной (!) более или менее серьезной работы о таком крупном и знаменитом историческом явлении, каким, несомненно, была махновщина.
Но… вскоре публикация в малотиражном ученом журнале получила неожиданное продолжение. В марте 1968 года в институт пришло письмо из казахского города Джамбула. Письмо очень сухое и осторожное – некая Г. Кузьменко хотела бы связаться с С. Семеновым, автором статьи в «Вопросах истории», для уточнения некоторых подробностей по затронутой им теме. Кузьменко? Эта фамилия была мне знакома. Неужели?… Я тут же ответил, и выяснилось, что написала мне небезызвестная в истории Галина Андреевна Кузьменко, вдова и соратница Нестора Ивановича Махно, мать его единственной дочери Елены. Кстати, от нее я впервые узнал и о том, что истинная фамилия Махно – Михненко.
…Большой лист стародавней бумаги в линейку густо исписан с обеих сторон, даже полей нет. Вверху заголовок: «Моя биография», а строкой ниже (видимо, по подсказке) «Автобиография». В углу есть приписка тем же почерком, но иной ручкой и чернилами (явно позднего происхождения): «По возвращении для ОВИРа». Почерк угловатый, резкий, правописание грамотное, но рука водила пером явно с большим напряжением, отсюда даже некоторая корявость в написании отдельных букв и слов. Заметно бросается в глаза преувеличенность высоты прописных букв и строгая закрытость округлых («а», «о», «б», «д»); согласно графологии это соответственно означает: честолюбие, доходящее до деспотизма, а также скрытность. Не знаю, как вообще, но в данном случае графология не солгала. Итак, цитируем без малейших изменений первую половину документа (о другой половине – позже):
«Родилась я, Галина Андреевна Кузьменко, в городе Киеве 28 декабря 1896 года (все даты в документе до 1917 года даны по старому стилю. – С. С). Отец мой, крестьянин Андрей Иванович Кузьменко, служил тогда на железной дороге. Мать, Доминикия Михайловна Ткачен-ко, по происхождению крестьянка. Когда мне было лет десять, отец бросил службу и переехал с семьей в родное село Песчаный Брод Херсонской губернии, Елисаветград-ского уезда, взял у братьев свой надел земли, шесть десятин, и стал заниматься земледелием. По окончании двухклассной школы я поступила в Добровеличковскую учительскую семинарию, которую и окончила в 1916 году. Первое учительское место получила в селе Гуляйполе Екатеринославской губернии в двухклассной школе. Учительствовала здесь один учебный год 1916 – 1917. На следующий учебный год уехала в Киев и поступила в Университет св. Владимира. Одновременно работала в Министерстве труда в качестве заведующей столом личного состава Министерства. Через год вернулась снова в Гуляйполе и стала преподавать украинский язык, физику и естествознание в гимназиях мужской и женской. Весной 1919 года сошлась с Нестором Ивановичем Михненко – Махно, который в то время был командиром Повстанческой армии и держал фронт белых под командованием Деникина».
Так она представлялась сама сотрудникам МВД в пятидесятых годах.
С весны 1968-го мы вступили с Галиной Андреевной в оживленную переписку, но она сообщала о себе, а главное – о Махно и махновщине – очень скупо, сказывалась осторожность, приобретенная ею за долгие годы заключения в советских лагерях (понять ее можно, тут и объяснять нечего). Значит, надо было ехать из Ленинграда в Джамбул, за несколько тысяч верст, и там попытаться выяснить у этой единственной свидетельницы необходимые сведения, иначе они навсегда погибли бы для нашей истории, и без того обездоленной подлинными источниками.
В ту пору директором нашего института был Николай Евгеньевич Носов, крупный специалист по средневековой России, человек широкий и благоделательный. Я откровенно доложил ему суть дела, и он – не то что многие его коллеги на подобных постах – охотно и твердо поддержал меня. Конечно, обозначить в официальном приказе командировку к вдове Махно было по тем временам совершенно невозможно, поэтому мы вместе придумали: еду для работы в историческом архиве Джамбульской области.
Получив казенную подорожную, я общался с Галиной Андреевной уже телеграммами. Вот последняя моя: «Прилетаю 27 (сентября 1968) срочно телеграфируйте возможность встречи…» Ответ: «Буду ждать вас у кассы аэропорта. Кузьменко».
Взял у своего друга магнитофон (по нынешним временам неудобный и дурацкий) и… оказался наконец в джамбульском аэропорту, крошечном, как автобусная станция.
Естественно, что всякий человек, знакомый лишь по переписке или телефонным разговорам, как-то вырисовывается в нашем представлении. Так и я пытался представить себе мою героиню. Ну, все мы рабы традиций, не нами рожденных. Так вот, перед войной вышел в свет кинофильм «Александр Пархоменко», имел он тогда огромный успех, а покажи его по ТВ сейчас – успех был бы, уверен, не меньший (да чего там – большой, учитывая очевидную убогость нынешнего экрана).
Какие актеры предстали тогда! Пархоменко играл Хвыля, воплощавший образ народного героя без страха, упрека и корысти; самого Махно – великий (и неблагодарно забытый ныне) Чирков – он слепил такой образ Стеньки Разина XX века, что до сих пор Нестора Ивановича большинство народа воспринимает по его канве. Однако главное тут для нас в ином – жену Махно сыграла ослепительная киноактриса Окуневская, опять же роль ее здесь оказалась столь же блистательной, сколь и далекой от исторической правды. Что ж, высокое искусство всегда превосходит историографию, вот почему до конца дней своих человечество будет воспринимать Ричарда III по Шекспиру, а Кутузова – по Льву Толстому. Сколь бы ни протестовали тут положительные историки-профессионалы. Образ выше факта.
У крошечного помещения кассы затерянного в казахской степи аэропорта встретил я сухую, худощавую женщину – того типа, что уже давно, невзирая на возраст, не заботятся о своей внешности: простенький платочек, кое-какое платьице домашнего изготовления, кофточка не первого года носки, стоптанные туфельки. Все это выглядело просто, естественно и уж никак не нарочито.
Галина Андреевна значительно превосходила средний женский рост (в молодости она явно возвышалась над своим низкорослым, согбенным после каторги, а позже – хромым от ранения мужем). Обращали на себя внимание высокий лоб, крупные, правильные черты лица, но особенно глаза – темно-карие, глубоко сидящие, з внимательным и сосредоточенно-настороженным взглядом. И сразу же, сквозь полувековой исторический туман, после перемен стольких жизненных декораций, становилось ясно: да, в такую женщину мог влюбиться, а главное – прислушиваться к ней знаменитый, лихой и беспощадный атаман! Нет, красотка Окуневская явно не дотягивала в своем киношном образе.
Впоследствии подтвердилось и первое заочное впечатление от почерка: Галина Андреевна была натурой сильной и незаурядной, неописуемо тяжелая жизнь не сломила ее характера, цепкий природный ум не ослабел и к семидесяти годам, а подозрительная осторожность была истинным порождением той жуткой эпохи, в которую ей довелось жить.
Начали мы работать с Галиной Андреевной. Длилось это с неделю, не меньше, беседовали ежедневно по нескольку часов. Иногда я записывал ее слова на приятельский магнитофон, но по большей части делал собственный конспект, приближенный к стенографии. И хоть мы были взаимно дружелюбны, ее не покидала настороженная сдержанность, скупость в подробностях и характеристиках. Убежден, что некоторые сведения, и немаловажные, остались сокрыты, но обвинять мою собеседницу я никак не могу: пережившая столько тягот, обманов и разочарований, как она могла довериться так вдруг незнакомому человеку, совсем иной среды и другого поколения?…
Да, к тому же имелись у Галины Андреевны не только прошлые, но и нынешние основания к сдержанности. Еще в самом конце пятидесятых, в разгар «оттепели» обратилась она с обычной тогда просьбой о реабилитации. Но и в «оттепель» с немалым отбором «реабилитировали». 30 июня 1960 года из Киева на бланке Прокуратуры Украины пришел ей ответ, вот он (цитирую по подлиннику):
«По Вашему заявлению Прокуратура УССР изучила дело, по которому Вы были осуждены. Материалами дела виновность Ваша доказана, и оснований для реабилитации не усматривается.
Заместитель начальника отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Г. Малый».
Вот так и доживала свой век больная старуха, еще на восьмом десятке остававшаяся «контрреволюционеркой», то есть преступницей на «законных» основаниях… Только в середине семидесятых родственники некоторых махновцев после долгих хлопот стали наконец получать справки «об отсутствии состава преступления» – спустя полвека после событий.
Сергей Николаевич Семанов
Жизнь и смерть Нестора Махно. О знаменитом повстанческом атамане написано немало сочинений. К сожалению, истинный облик его нередко вольно или невольно искажали. Только сегодня, когда обнаружены многие сокрытые ранее документы и воспоминания, мы можем узнать, каким он был на самом деле. В основу книги легли сведения, полученные автором во время бесед со вдовой и единственной дочерью Нестора Ивановича.
Сергей Семанов
Под черным знаменем
Жизнь и смерть Нестора Махно
Для начала процитируем письмо, отправленное 4 апреля 1968 года в город Ленинград из города Джамбула. Этот небольшой городок в южной казахской степи назывался до тридцать шестого года Аулие-Ата, до тридцать восьмого – Мирзоян (бывший партийный шеф Казахстана, позже расстрелянный). Затем разросшийся уже город накрыло имя «акына», прославлявшего убийц прежнего своего начальника.
Ну, переименование городов, улиц, площадей и мостов – дело знакомое, это так, для справки…
Данное письмо приводим полностью, опустив только фразу, где упомянута фамилия: пусть она ненадолго останется не известной читателю. И еще добавим: письмо это, отправленное чуть ли не четверть века тому назад, публикуется впервые.
«Мы жили тогда в пригороде Парижа Венсене в маленькой меблированной квартирке, состоящей из одной небольшой комнаты с кухней. Семья наша состояла из трех человек: меня, мужа и одиннадцатилетней дочери. Осень 1933 г. Я безработная, муж довольно тяжело болен, дочь ходила в школу. Муж болел туберкулезом легких еще со времени заключения в Бутырской тюрьме в Москве, где он отбывал каторгу, закованный по рукам и ногам, и где провел девять лет и откуда его как политического заключенного освободила революция. Из тюрьмы он вышел без одного легкого, и теперь изнемогало и второе его легкое, также пораженное туберкулезом. Кроме того, его мучил последние пару лет и туберкулез костей. Были поражены два ребра, на которых постоянно образовывались большие болезненные шишки, наполненные гноем. Еще беспокоила его незаживающая рана на ноге, простреленной в одном из боев разрывной пулей. На эту ногу он хромал. Из раны время от времени выходили осколки разрывной пули.
Однажды в русской газете «Последние новости» [1 - Газета выходила в Париже с 1920 по 1940-й, редактором с 1921-го был П. H Милюков] я прочла объявление, что в один русский детский пансион-интернат требуются работницы. Я пошла по указанному адресу и устроилась на работу в качестве прачки в пансион для русских девочек в Кенси, а муж больной остался один дома. По воскресеньям я его изредка навещала. Часто навещали его многие товарищи. Зимой ему стало хуже, и приблизительно в марте месяце 1934 года мы его поместили в один из французских госпиталей в Париже.
По воскресеньям я часто навещала его в госпитале. Здесь я встречалась с многочисленными его товарищами, как русскими, так и французами. Часто бывал у мужа один эмигрант из бывших белогвардейцев из войск Юденича, некто Яков Филиппович Карабань. А познакомились мы с ним, живя в одном отеле на одном этаже в Венсене. Он частенько заходил к нам, подолгу беседовал с мужем и был всегда желанным гостем.
Несмотря на пребывание в госпитале, здоровье мужа не улучшалось. В июне месяце врачи решили сделать операцию – (вынуть) удалить два пораженных туберкулезом ребра. В конце июня однажды вечером я зашла к нему в госпиталь. Он был очень уставший, измученный и ослабевший. На мой вопрос: «Ну, как?» он ничего не ответил, только из глаз его покатились слезы. Я тоже заплакала. Говорить нам больше было не о чем… Я поняла, что ему тяжело, что жизненные силы покидают его, что он уже больше не жилец на этом свете. А через несколько дней ко мне на работу в Кенси приезжает на такси один товарищ, Максим, и говорит: «Собирайся, Галина, сейчас же едем в Париж, Нестор умирает».
Я взяла дочь, спустилась к заведующей и заявила ей, что я сейчас с дочерью уезжаю в Париж, так как отец моей дочери и мой муж умирает. Мы сели в такси и поехали. Часов в пять вечера мы были уже в Париже, в госпитале. Муж лежал на постели бледный, с полузакрытыми глазами, с распухшими руками, отгороженный от остальных большой ширмой. У него было несколько товарищей, которым, несмотря на неурочный час, разрешили здесь присутствовать. Я его поцеловала в щеку. Он открыл глаза, и обращаясь к дочери, слабым голосом произнес:
– Оставайся, доченька, здоровой и счастливой! – Потом закрыл глаза и сказал: – Извините меня, друзья, я очень устал, хочу уснуть…
Пришла дежурная сестра. Спросила его:
– Как чувствуете себя?
На что он ответил:
– Дайте ужин. Принесите кислородную подушку.
– Сейчас, – ответила сестра и принесла ему кислородную подушку.
С трудом, дрожащими руками, он вставил себе в рот трубочку кислородной подушки, и сестра попросила нас всех удалиться и прийти завтра утром.
На следующее утро, когда мы зашли в палату, то увидели, что кровать, на которой лежал муж, пуста и ширмы у кровати не было. Один из соседей больных сказал, что сегодня утром около шести часов муж перестал дышать. Пришла сестра, закрыла ему лицо простыней, и вскоре его вынесли в мертвецкую. Это было 6-го июля 1934 года. Сестра сдала мне одежду мужа, его часы и прочие мелкие вещи, и мы пошли в мертвецкую. Здесь лежал покойник с восковым, очень спокойным лицом. На груди его сочилась рана после операции. Один из товарищей снял с лица мужа маску, и через пару дней мы его хоронили на кладбище Пер-ля-Шез. Тело его было сожжено в крематории, и урна с прахом замурована в стене».
Грустно… Смерть каждого человека трагична, каким бы он ни был в грешном своем бытии. И все же попытаемся предположить: кто же это? Кто так мирно и кротко рассчитался с жизнью в нищей больнице, в одиночестве и неприкаянности? Скромный служащий, работяга-неудачник, запутавшийся в жизни интеллигент, разорившийся предприниматель?…
Нет и нет. Имя героя письма когда-то, не так уж задолго до его кончины, гремело по всей России, отголоски аж по всему миру разносились. Имя пахло порохом, кровью, потом боевых лошадей, ружейным маслом, ременной сбруей боевых тачанок. Оно, это имя, стало символом нашей гражданской войны – кровавой и беспощадной друг к другу. Символом русской лихости и удали, презрения к своей и – к великому нашему несчастью – чужой жизни.
Имя это – Нестор Иванович Махно. О нем, а главное – о делах, с ним связанных, и пойдет рассказ в нашей книге.
Вернемся, однако, к письму, ибо не случайно именно с него началось наше повествование. Тут нужны кое-какие пояснения, которые потребуют некоторого авторского присутствия: недолгого, впрочем, весьма недолгого.
В начале шестидесятых годов я, научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР, как и ряд моих молодых сверстников-историков, с головой окунулся в изучение истории гражданской войны. Время для того было, по нашим понятиям, благоприятное: архивы, ставшие доступными так широко в конце пятидесятых, еще не успели «закрыться», в академических институтах и изданиях сохранялось еще известное свободомыслие.
Чего только не выволакивали мы из богатств, благополучно пролежавших десятилетия в «спецхранах», чего только не переписывали – так, на всякий случай, бескорыстно, а уж как горячо и свободно обсуждали прочитанное! Кое-кому из нас это потом пошло впрок. Мне, как я теперь понимаю, особенно повезло. Ощупью я наткнулся на ряд острейших сюжетов в переломный период истории России, о чем позже удалось кое-что написать и даже опубликовать. Один из этих сюжетов – о Махно.
В самом конце шестьдесят пятого, будучи в Москве, я робко заявился в солиднейший академический журнал «Вопросы истории». В ту пору периодических изданий было у нас куда меньше, чем сейчас, почти всякая публикация вызывала общественное внимание. Смущаясь своей дерзости, я зашел в комнату, где помещался отдел отечественной истории (все там ныне, как было!). Едва ли не запинаясь от робости, предложил: статья, мол, о Махно… Надо сказать, что в ту пору такое предложение выглядело не только неожиданным, но и странноватым, я на успех почти не надеялся. И вдруг молодой завотделом, красивый и голубоглазый, быстро и строго сказал: «Пишите и присылайте как можно скорее!» Решительным и смелым этим редактором оказался Андрей Николаевич Сахаров, ныне известный академический историк и писатель. Сейчас-то легко говорить, но тогда решиться на такое мог только отважный человек.
И я погрузился в забытые, с трудом читавшиеся, замшелые, по большей части запрятанные за железной дверью источники. И разворачивалась жуткая картина… Кровь, казалось, капала с выцветших страниц книг и газет, смертный запах поднимался с неряшливо составленных документов, людские стоны звучали за корявыми текстами приказов. К какому же выводу меня, молодого русского интеллигента, могло это привести?.
Вспомним время – середину шестидесятых, во многом переломную эпоху в идейной жизни страны. «Оттепель» отмерла, снятие Хрущева подавляющее большинство народа и интеллигенции встретило с чувством облегчения и не без злорадства даже. Померкло постепенно обаяние двусмысленного XX съезда, ибо выяснилось, что Хрущев собирался без Сталина жить почти по-сталински (кукуруза – вместо «великих строек», расстрелы в Новочеркасске – взамен «жертв сталинского террора»). Да, конечно, при Хрущеве стало несколько «теплее», но и только, суть общественного уклада не изменилась.
И вот тогда-то перед молодой русской интеллигенцией встал вопрос о ценности революции как таковой, не о конкретной даже, русской ли, французской, какой иной, а по сути – может ли революция, то есть насильственное изменение сущего, стать благом для общества? Годны ли сегодня подобные методы для решения положительных задач?
Тогда же автор этих заметок, склонный в молодые годы к решительным обобщениям, сформулировал: «Нет такого режима, который бы стоил революции!» Что ж, сказано крепко, хотя к широте и истинности этого афоризма нам предстоит вернуться. В ту пору многие становились ненавистниками всяких революционных действий и насильственных переворотов. Отсюда мое тогдашнее отношение к Махно и махновщине – «бунт бессмысленный и беспощадный». Оценка в духе давних традиций русской мысли, долгое время почитавшихся вредными. Статья же о Махно была написана быстро и горячо, с ходу опубликована, получила большой отклик у нас и за рубежом. Тут же мне стали пенять на погрешности в «классовых оценках» и т. п. (особенно тут свирепствовали украинские товарищи), но дело было сделано. Статье повезло: узкая щелочка тогдашней гласности вскоре вновь и надолго прикрылась; и то сказать, за четверть века, прошедшего с той публикации, в нашей печати не появилось ни одной (!) более или менее серьезной работы о таком крупном и знаменитом историческом явлении, каким, несомненно, была махновщина.
Но… вскоре публикация в малотиражном ученом журнале получила неожиданное продолжение. В марте 1968 года в институт пришло письмо из казахского города Джамбула. Письмо очень сухое и осторожное – некая Г. Кузьменко хотела бы связаться с С. Семеновым, автором статьи в «Вопросах истории», для уточнения некоторых подробностей по затронутой им теме. Кузьменко? Эта фамилия была мне знакома. Неужели?… Я тут же ответил, и выяснилось, что написала мне небезызвестная в истории Галина Андреевна Кузьменко, вдова и соратница Нестора Ивановича Махно, мать его единственной дочери Елены. Кстати, от нее я впервые узнал и о том, что истинная фамилия Махно – Михненко.
…Большой лист стародавней бумаги в линейку густо исписан с обеих сторон, даже полей нет. Вверху заголовок: «Моя биография», а строкой ниже (видимо, по подсказке) «Автобиография». В углу есть приписка тем же почерком, но иной ручкой и чернилами (явно позднего происхождения): «По возвращении для ОВИРа». Почерк угловатый, резкий, правописание грамотное, но рука водила пером явно с большим напряжением, отсюда даже некоторая корявость в написании отдельных букв и слов. Заметно бросается в глаза преувеличенность высоты прописных букв и строгая закрытость округлых («а», «о», «б», «д»); согласно графологии это соответственно означает: честолюбие, доходящее до деспотизма, а также скрытность. Не знаю, как вообще, но в данном случае графология не солгала. Итак, цитируем без малейших изменений первую половину документа (о другой половине – позже):
«Родилась я, Галина Андреевна Кузьменко, в городе Киеве 28 декабря 1896 года (все даты в документе до 1917 года даны по старому стилю. – С. С). Отец мой, крестьянин Андрей Иванович Кузьменко, служил тогда на железной дороге. Мать, Доминикия Михайловна Ткачен-ко, по происхождению крестьянка. Когда мне было лет десять, отец бросил службу и переехал с семьей в родное село Песчаный Брод Херсонской губернии, Елисаветград-ского уезда, взял у братьев свой надел земли, шесть десятин, и стал заниматься земледелием. По окончании двухклассной школы я поступила в Добровеличковскую учительскую семинарию, которую и окончила в 1916 году. Первое учительское место получила в селе Гуляйполе Екатеринославской губернии в двухклассной школе. Учительствовала здесь один учебный год 1916 – 1917. На следующий учебный год уехала в Киев и поступила в Университет св. Владимира. Одновременно работала в Министерстве труда в качестве заведующей столом личного состава Министерства. Через год вернулась снова в Гуляйполе и стала преподавать украинский язык, физику и естествознание в гимназиях мужской и женской. Весной 1919 года сошлась с Нестором Ивановичем Михненко – Махно, который в то время был командиром Повстанческой армии и держал фронт белых под командованием Деникина».
Так она представлялась сама сотрудникам МВД в пятидесятых годах.
С весны 1968-го мы вступили с Галиной Андреевной в оживленную переписку, но она сообщала о себе, а главное – о Махно и махновщине – очень скупо, сказывалась осторожность, приобретенная ею за долгие годы заключения в советских лагерях (понять ее можно, тут и объяснять нечего). Значит, надо было ехать из Ленинграда в Джамбул, за несколько тысяч верст, и там попытаться выяснить у этой единственной свидетельницы необходимые сведения, иначе они навсегда погибли бы для нашей истории, и без того обездоленной подлинными источниками.
В ту пору директором нашего института был Николай Евгеньевич Носов, крупный специалист по средневековой России, человек широкий и благоделательный. Я откровенно доложил ему суть дела, и он – не то что многие его коллеги на подобных постах – охотно и твердо поддержал меня. Конечно, обозначить в официальном приказе командировку к вдове Махно было по тем временам совершенно невозможно, поэтому мы вместе придумали: еду для работы в историческом архиве Джамбульской области.
Получив казенную подорожную, я общался с Галиной Андреевной уже телеграммами. Вот последняя моя: «Прилетаю 27 (сентября 1968) срочно телеграфируйте возможность встречи…» Ответ: «Буду ждать вас у кассы аэропорта. Кузьменко».
Взял у своего друга магнитофон (по нынешним временам неудобный и дурацкий) и… оказался наконец в джамбульском аэропорту, крошечном, как автобусная станция.
Естественно, что всякий человек, знакомый лишь по переписке или телефонным разговорам, как-то вырисовывается в нашем представлении. Так и я пытался представить себе мою героиню. Ну, все мы рабы традиций, не нами рожденных. Так вот, перед войной вышел в свет кинофильм «Александр Пархоменко», имел он тогда огромный успех, а покажи его по ТВ сейчас – успех был бы, уверен, не меньший (да чего там – большой, учитывая очевидную убогость нынешнего экрана).
Какие актеры предстали тогда! Пархоменко играл Хвыля, воплощавший образ народного героя без страха, упрека и корысти; самого Махно – великий (и неблагодарно забытый ныне) Чирков – он слепил такой образ Стеньки Разина XX века, что до сих пор Нестора Ивановича большинство народа воспринимает по его канве. Однако главное тут для нас в ином – жену Махно сыграла ослепительная киноактриса Окуневская, опять же роль ее здесь оказалась столь же блистательной, сколь и далекой от исторической правды. Что ж, высокое искусство всегда превосходит историографию, вот почему до конца дней своих человечество будет воспринимать Ричарда III по Шекспиру, а Кутузова – по Льву Толстому. Сколь бы ни протестовали тут положительные историки-профессионалы. Образ выше факта.
У крошечного помещения кассы затерянного в казахской степи аэропорта встретил я сухую, худощавую женщину – того типа, что уже давно, невзирая на возраст, не заботятся о своей внешности: простенький платочек, кое-какое платьице домашнего изготовления, кофточка не первого года носки, стоптанные туфельки. Все это выглядело просто, естественно и уж никак не нарочито.
Галина Андреевна значительно превосходила средний женский рост (в молодости она явно возвышалась над своим низкорослым, согбенным после каторги, а позже – хромым от ранения мужем). Обращали на себя внимание высокий лоб, крупные, правильные черты лица, но особенно глаза – темно-карие, глубоко сидящие, з внимательным и сосредоточенно-настороженным взглядом. И сразу же, сквозь полувековой исторический туман, после перемен стольких жизненных декораций, становилось ясно: да, в такую женщину мог влюбиться, а главное – прислушиваться к ней знаменитый, лихой и беспощадный атаман! Нет, красотка Окуневская явно не дотягивала в своем киношном образе.
Впоследствии подтвердилось и первое заочное впечатление от почерка: Галина Андреевна была натурой сильной и незаурядной, неописуемо тяжелая жизнь не сломила ее характера, цепкий природный ум не ослабел и к семидесяти годам, а подозрительная осторожность была истинным порождением той жуткой эпохи, в которую ей довелось жить.
Начали мы работать с Галиной Андреевной. Длилось это с неделю, не меньше, беседовали ежедневно по нескольку часов. Иногда я записывал ее слова на приятельский магнитофон, но по большей части делал собственный конспект, приближенный к стенографии. И хоть мы были взаимно дружелюбны, ее не покидала настороженная сдержанность, скупость в подробностях и характеристиках. Убежден, что некоторые сведения, и немаловажные, остались сокрыты, но обвинять мою собеседницу я никак не могу: пережившая столько тягот, обманов и разочарований, как она могла довериться так вдруг незнакомому человеку, совсем иной среды и другого поколения?…
Да, к тому же имелись у Галины Андреевны не только прошлые, но и нынешние основания к сдержанности. Еще в самом конце пятидесятых, в разгар «оттепели» обратилась она с обычной тогда просьбой о реабилитации. Но и в «оттепель» с немалым отбором «реабилитировали». 30 июня 1960 года из Киева на бланке Прокуратуры Украины пришел ей ответ, вот он (цитирую по подлиннику):
«По Вашему заявлению Прокуратура УССР изучила дело, по которому Вы были осуждены. Материалами дела виновность Ваша доказана, и оснований для реабилитации не усматривается.
Заместитель начальника отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Г. Малый».
Вот так и доживала свой век больная старуха, еще на восьмом десятке остававшаяся «контрреволюционеркой», то есть преступницей на «законных» основаниях… Только в середине семидесятых родственники некоторых махновцев после долгих хлопот стали наконец получать справки «об отсутствии состава преступления» – спустя полвека после событий.