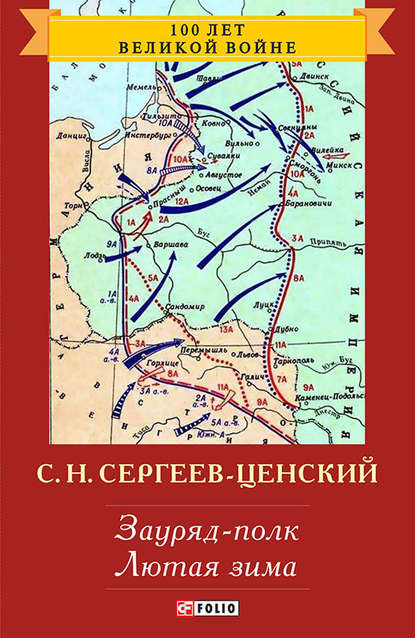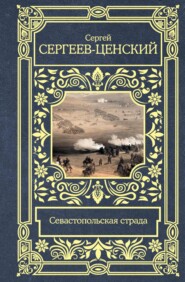По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зауряд-полк. Лютая зима
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
а также окончание пушкинского «Царя Никиты», которое написано было совсем не для дам и по этой причине не могло не презреть цензуры.
И когда заканчивал чтение, он, как артист, ожидал похвалы или за то, что у него отличная дикция, или за то, что у него хорошая память, а когда хвалили, говорил с чувством:
– Да! Был!.. Был конь, да изъездился! А был!.. Был, отцы мои хорошие, был конек горячий, а не так себе, какой-нибудь, абы что!
С ним в дружине примирились в первые же дни все, за исключением, конечно, поручика Миткалева, который до него командовал второю ротой и получал по триста рублей, а теперь должен был перейти на полтораста; но к подполковникам из немцев отнеслись подозрительно все, начиная с самого Полетики.
Однако приземистый Эльш оказался очень добродушен, да в первые дни осторожно и очень уступчиво держался и Генкель. Но чем дальше, тем больше развертывался и показывал свою многогранность этот синеголовый и пышуще-красный лицом, толстый и тяжелый, не легче шести пудов, в дымчатых очках, скрывавших косоглазие, и с сизым носом.
Служил он, как оказалось из его послужного списка, в жандармах, о чем, многозначительно подмигивая, сообщил всем адъютант, зауряд-прапорщик Татаринов.
В дружине привыкли к тому, что полковник Полетика ничего совершенно не знал, все и вся путал и ничего не хотел знать, а заведующий хозяйством, подполковник Мазанка, во многом сомневался и обращался к другим за советами.
Генкель, как оказалось уже недели через две после появления его в дружине, все знал, ничего не путал и ни в чем решительно не сомневался. Когда, после обстрела Севастополя, ввязалась в войну Турция и стали поговаривать о том, что Персия тоже готовится выступить на стороне Германии, то Генкель, попыхивая сигарой, говорил с большой серьезностью:
– Это для нас очень была бы неприятная история, господа! Персия – большая страна. Там двадцать восемь миллионов населения!
– Вот туда, к черту! – удивлялся Полетика. – Двадцать восемь? Гм… Откуда же могло их набраться столько, этих… этих, как их… Скажите, пожалуйста, как их оказалось много!..
– Да. Двадцать восемь миллионов… Считайте десять процентов на армию, – получается почти три миллиона человек – армия! И нам с нею придется иметь дело, господа.
– Но ведь три-то эти миллиона, они ведь необученные! – пытался возражать Мазанка.
– Ничего! Немецкие инструкторы обучат… Да, наконец, они ведь просто могут влиться в турецкую армию, а она-то уж обучена Гольц-пашой…
Так же авторитетно говорил он и о всем другом, о чем угодно. Он оказался крымский помещик: под Курманом, где плотно осели с давних пор немцы, было его имение.
Он был полная противоположность не только Пернатому, но буквально каждому из офицеров дружины, так как единственный из всех он ретиво начал вводить всюду порядок, строго придерживаясь уставов и внеуставных распоряжений высшего начальства.
Он неукоснительно следил за тем, чтобы ратники, как и другие «нижние чины», не занимали мест внутри вагонов трамвая, а только на задней площадке, чтобы они были застегнуты на все пуговицы, чтобы они отдавали ему честь, как штаб-офицеру, становясь во фронт, хотя по закону о призванных из отставки он должен был носить капитанские погоны, и другие подполковники дружины иногда забывали на улице о том, что им должны становиться во фронт.
По настоянию Генкеля заведена была дружинная лавка в одном из подвалов казармы, а в этой лавке должно было продаваться все, что было необходимо ратникам, начиная с чая и сахара и кончая ваксой. В лавку Генкель устроил продавцом бывшего бакалейного торговца из ратников своей роты, а главное, заведование лавкой великодушно взял на себя. Так были им лишены заработка многочисленные бабы, продававшие ратникам около казармы своего печенья коржики, бублики и пирожки.
Но другие бабы проникали во двор казармы за кусками хлеба и помоями, сливавшимися в бочки.
Генкель заявил как-то Полетике, очень вежливо, правда:
– Как хотите, господин полковник, но ведь это же совсем невозможная какая-то вещь, хе-хе!.. Бабы… вполне свободно… как к себе домой, заходят в казармы, нагружают до отказа свои ведра и, представьте, на коромыслах у всех на виду разносят помои по своим хозяйствам!.. Но ведь они же вносят в казарму разврат!
– Ну, ну! Разврат!.. Что вы там говорите, – разврат! – слабо защищался Полетика.
– Как хотите, конечно, но… меня это, признаюсь, ошеломило!.. Мне кажется, – позвольте просто высказать мне свое мнение, господин полковник, – что это надо бы прекратить. Начальство может об этом узнать, и тогда, знаете ли… Гм… Мне просто хотелось бы указать на это… на этот маленький непорядок, хе-хе… А ведь здесь недалеко свалки. Можно просто вывозить помои на свалки, и будет хорошо.
– Помои, да… Они, конечно, воняют тут… А бабы, они вроде… вроде… как это называется, а?
– Проституток?
– Ну вот, – сказали тоже! Каких там проституток, когда они просто бабы! Они идут с помоями, и от них воняет, а вы… Как они называются, черт их знает!.. Вот эти, в лазаретах… в белых халатах…
– Сестры милосердия?
– Да не сестры, а… также они и в санитарных вагонах… Санитарки, да, вот что я хотел сказать… убирают всякую вообще сволочь в помойную яму, горшки там ночные и прочее… Так вот и эти бабы… И вечером у нас во дворе все бочки чистые, я сам видал. А тут вдруг… что вы такое сказали? Выносить бочки? Куда выносить?.. То есть вывозить! Куда?.. Послушайте, с вонючими такими бочками, кто же с ними будет возиться? Что вы мне тут такое… Вильгельм… как? Аполлоныч?
– Я? Оскар Карлович, господин полковник.
– Ага! Вы – Оскар, а это, стало быть, Эльш – Аполлон?
– Он, насколько мне известно, Ипполит Вильгельмович… Но вопрос о помоях я мог бы взять на себя лично. Прикажите это делать артёлке моей роты, и она их будет вывозить каждый день, эти помои. Заведем для этого бочку такую, лежачую, вроде водовозной, и всё. Ведь лошадь ротная все равно ничего не делает целый день, только жрет и жиреет.
– Ну, как знаете! – отмахнулся от него, как от надоевшего овода, Полетика.
И вот артёлка третьей роты, которой командовал Генкель, начала ежедневно вывозить из казарменного двора помои.
До назначения в дружину Генкеля третьей ротой командовал поручик Кароли, а субалтерном его был длиннорыжебородый зауряд-прапорщик Шнайдеров, бывший учитель. Этого рыжего Шнайдерова совершенно не переваривал Кароли, прозвавший его за бороду Метелкиным.
– Да ведь это – сплошной дурак, – накажи меня бог, правда! – говорил он о нем Ливенцеву, отходя на ученье к нему от своей роты. – Что он мне ратников мучает? Ведь я же им дал «оправиться», а он им начал замогильным своим голосом устав гарнизонный читать! Обязанности дежурного по полку офицера им читает… Накажи меня бог, из этих учителей никогда я ни одного умного человека не видал! Ну, на кой им черт обязанности дежурного офицера? Тебя если сделали зауряд-прапором, так ты, покорнейше благодарим твою мамашу, и учи себе эти обязанности наизусть, а им зачем? Вот проклятая мельница пустая! И гудит, и гудит, и гудит, в печенку, в селезенку, в корень!.. Гудит замогильно, а у меня аж тоска, у меня тоска!.. Ну, дали им оправиться, и пусть оправляются, а чего же ты гудишь? На какую такую пользу веры-царя-отечества, чтоб тебя разорвало на три части!..
Теперь Кароли, передав роту Генкелю, стал ведать, как юрист, исключительно дознаниями по части самовольных отлучек; он же должен был, по приказу Полетики, находить необходимые справки в «Своде военных постановлений» за 1869-й и прочие годы. А Шнайдеров пришелся под стать новому командиру и ревностно, вполне поощряемый к этому Генкелем, проходил с ратниками из устава «обязанности дворцовых часовых» и «порядок зари с церемонией в присутствии их императорских величеств».
Генкель оказался так строг к ратникам, что дружинный карцер, прежде почти пустовавший, теперь был битком набит ратниками его роты. Он часто писал рапорты Полетике то на того, то на другого из своих ратников, добавляя на докладе, что такого-то и такого-то надо бы отправить на гарнизонную гауптвахту. И добивался того, что Полетика объявлял в приказе об аресте на гауптвахте то того, то другого из третьей роты.
Генкель явно выслуживался своей заботой о благочинии и порядке перед каким-то высшим начальством, и скоро все увидели, что он выслужился.
На имя командира ополченской бригады, генерал-лейтенанта Баснина, человека массивного, сутулого, обрюзгшего, с желтым обвисшим неподвижным лицом, хрипучим голосом и какими-то моськиными глазами, из которых один, левый, был гораздо уже правого, может быть, как следствие первого паралича, – поступил обстоятельный донос ревнителя пользы службы, подполковника Генкеля, возмущенного явной бесхозяйственностью подполковника Мазанки. И вот совершенно неожиданно весьма тяжелый на подъем генерал явился в дружину. Конечно, все, что указано было в доносе, он нашел и жестоко наорал на Мазанку, а покидая дружину, предложил Полетике Мазанку сместить, Генкеля же, «как весьма расторопного штаб-офицера», сделать заведующим хозяйством.
И на следующий же день в приказе по дружине появилось, что подполковник Генкель назначается заведующим хозяйством, а Мазанка – командиром третьей роты. Но это было еще не все, не прошло и трех дней, как в том же приказе было объявлено: «В случае отлучки или болезни командира дружины, полковника Полетики, командование дружиной переходит к подполковнику Генкелю».
Тут-то и развернулся вовсю Генкель!
Дружинная нестроевая рота оказалась теперь завалена работой: шорники чинили усердно бесчисленные хомуты, шлеи, уздечки и прочую сбрую; столяры чинили старую и делали новую мебель; слесаря и кузнецы возились с частями сельскохозяйственных машин – лобогреек, молотилок… Все это привозилось из имения Генкеля и, исправленное, увозилось туда же, причем лошади Генкеля размещались на несколько дней как бы на отдых в дружинной конюшне, а люди его питались вместе с нестроевою ротою в ожидания конца ремонта всего этого сельскохозяйственного инвентаря. Наконец, оказалось, что и помои со двора казармы отнюдь не вывозились на свалки: Генкель нанял не так далеко от казармы небольшой домишко с сараем и доставил туда из своего имения дюжины три породистых поросят с матками и свинарем; дружинные помои шли на откорм поросят. Генкель оказался весьма деловым человеком, что и говорить! Он и дружине стремился всячески принести пользу. Он говорил, например, почтительно Полетике:
– Господин полковник! Для конюшни нашей нужна солома. Я знаю одно такое место, где можно купить сколько угодно соломы, и всего по пятнадцать копеек за пуд.
– Гм… Солома-мосола… Мосола, да… – задумчиво говорил Полетика. – Ну что ж, знаете и… какого же черта? Конечно, покупайте, что ж…
– Но придется ведь заплатить кое-что и за провоз, господин полковник. Ведь эта солома, конечно, не в Севастополе, хе-хе… В Севастополе, в первоклассной крепости, какая же может быть солома?
Полетика соглашался, что в Севастополе, в самом деле, откуда же взяться соломе? Солому, конечно, надобно привезти откуда-нибудь из деревни, и, само собою, придется накинуть к пятнадцати копейкам что-нибудь на провоз.
Солома и прибыла вскорости целым обозом из имения Генкеля, который получал, кроме пятнадцати копеек за пуд, еще и за провоз.
Голова Генкеля без устали работала над тем, как бы вообще слить воедино дружину в Севастополе и имение под станцией Курман. Во всяком случае, он уже отобрал из лошадей дружины дюжину голов, приказав конюхам кормить их лучше и следить усерднее за их здоровьем, рассчитывая непременно их приобрести для имения, чуть только окончится война и начнут их распродавать с торгов.
Заботы о свеем имении часто мешали Генкелю вовремя расплачиваться с подрядчиками дружины. Но выходило как-то так, что Генкель всегда подыскивал оправдания и изворачивался с такою ловкостью, которой никак даже и предположить было нельзя в его жирном, шестипудовом теле. А потом как-то случилось даже и так, что он непосредственно сносился с самим комендантом города, полковником Оллонгреном, минуя Полетику, и выходило временами, что даже и Полетика как будто зависел от Генкеля: ведь он все, что ему угодно, мог наговорить о нем коменданту города, а тот передать коменданту крепости… и мало ли что могло из этого выйти!
И в то время как Эльш неумеренно много пил, найдя себе в этом занятии доброго товарища в лице своего субалтерна, поручика Миткалева, до войны служившего где-то по земскому страхованию, низенького человечка с рыженькими, вечно мокрыми усиками, неудачно старавшегося говорить глухим басом; в то время как командир первой роты, капитан Урфалов, человек преувеличенно турецкого обличья, большой любитель серебряных портсигаров с золотыми монограммами, устроил в своей квартире постоянные и приманчивые для иных ужины с преферансом до часу, до двух ночи, – Генкель был весь в густых деловых облаках сигарного дыма, в тонких соображениях, выкладках и расчетах.
И величественно заседал он в кабинете командира за его столом, когда случалось заболеть чем-нибудь Полетике.