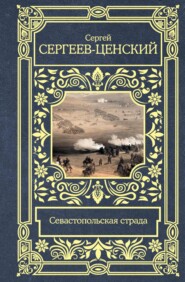По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушки заговорили. Утренний взрыв
Серия
Год написания книги
1944
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, этого нельзя! – решительно сказал великий князь и подписал приказ.
– Оттяжка могла бы занять всего только пять-шесть дней, – упавшим уже голосом заметил Янушкевич, не прикасаясь к приказу, хотя он был и подписан.
– Фронт не готов к выступлению? – вдруг выкрикнул великий князь. – Разве это ново? Когда же и где это было, чтобы фронт был вполне готов? Никогда и нигде не бывало, а воевать тем не менее всегда начинали!
– За пять-шесть дней могли бы подтянуться резервы, ваше высочество… – стараясь быть убедительным, начал было излагать свои доводы Янушкевич, но главковерх перебил его коротким и начальственным:
– Успеют и во время военных действий! – и поднялся из-за стола.
Янушкевич был выше среднего роста, но главковерх – на целую голову выше его, и выражение лица его сделалось каменно-жестким. Начальнику штаба ничего не оставалось больше, как взять приказ, чтобы передать его по прямому проводу генералу Жилинскому.
В тот же день, то есть 2 августа, приказ великого князя породил директиву № 1, вышедшую уже из штаба фронта:
«Главнокомандующий приказал:
1. 1-й армии перейти границу 4 сего августа и с линии Владиславов – Сувалки наступать на фронт Инстербург – Ангербург, в обход линии Мазурских озер, с севера.
2. 2-й армии перейти границу с линии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле, наступать на фронт Летцен, Руджаны, Ортельсбург и далее к северу.
3. Задача 1-й армии – возможно глубже охватить левый фланг неприятеля на реке Ангерапп, где предполагаются его главные силы, имея целью отрезать неприятеля от Кенигсберга.
4. Задача 2-й армии – свои главные силы направить на фронт Руджаны – Ортельсбург во фланг и тыл Мазурских озер».
В директиве № 1 было и еще несколько пунктов, но эти – основные и главнейшие. Разумеется, кавалерийские части должны были выступить на день раньше, чтобы не только оттеснить передовые отряды противника, но и осветить впереди лежащую местность для пехоты.
Для ставки главковерха все пункты этого приказа были предельно ясны и никаких других толкований иметь не могли. Однако уже в штабе Северо-Западного фронта кое-что в нем показалось не совсем ясным, хотя он и был передан в штабы армий без малейших, разумеется, изменений. В штабе обеих армий над ним задумались люди, которым гораздо виднее было положение дел, чем Жилинскому, а тем более главковерху.
Оно изменялось, конечно, по мере того, как конные части, оттеснив пограничные заставы немцев, начали глубже проникать в пределы Пруссии.
Противник не стоял на месте, выжидая; он тоже передвигался, пользуясь обилием и завидно исправным состоянием своих дорог, и получалось так, что данные разведки сегодня были одни, завтра другие, тем более что немецкая конница умело скрывала свою пехоту.
Наконец, сведения о противнике добывались и самолетами, способными проникать в его расположение гораздо дальше, чем кавалерийские части, и с кругозором куда более обширным.
Сводки ежедневно составлялись в частях на фронте и шли в штабы, где вполне отчетливо представлялось, что пехоте 1-й армии придется иметь дело прежде всего с частями 1-го немецкого корпуса, которым командовал генерал Франсуа.
Нервно ожидавшие энергичного натиска 1-й русской армии чины французского генерального штаба убедились, наконец, в том, что он начался, хотя и с небольшим опозданием, по их мнению: им казалось, что они, французы, если бы были на месте неповоротливых русских, начали бы его даже раньше назначенного срока.
VI
Из рядовых своей пехоты Петя почему-то особенно выделял плотника Гунькова, лет сорока, взятого, конечно, из запаса.
Началось у него с ним с того, что Гуньков, внимательно глядевший на путейский значок, спросил вполголоса:
– Небось, пожалуй, серебряная бляха-то эта?
– Конечно, серебряная, – улыбнувшись, сказал Петя, на что Гуньков, человек с виду крепкий, хозяйственный, калужанин с рыжеватой бородкой, сметливыми серыми глазами и очень деловитыми, как успел уже заметить Петя, толстопалыми руками, сказал, слегка подмигнув:
– Кабы не украли… Вам бы лучше снять это да спрятать от греха.
А когда Петя только засмеялся на это, Гуньков добавил не без грусти:
– Вы, конечно, господин образованный, а только я народ знаю и верно вам говорю.
В другой раз, чуть ли не в тот же день, Гуньков взял обломок доски, посмотрел на него сосредоточенно, ковырнул ногтем и отбросил презрительно, сказав:
– Елка!
Это заметил Петя и спросил просто так, чтобы понять его:
– Чем тебя елка обидела?
– Елка? – очень оживился Гуньков. – Говорится так об этом: все деревья простил плотник, когда помирать собирался, только одной елке простить не захотел – до такой степени она ему надоела.
– Елка? – удивился Петя. – Да это же мягкое дерево, чем же надоела?
– Ну, вы, значит, этого не знаете, потому говорите… Никаких вы, стало быть, делов никогда с елкой не имели, а уж боле шершавого дерева, чем эта елка, и на свете не существует. Что рубанок, что даже фуганок сразу забивает, и что ни минута, ты их бери прочищай – вот какая с елкой работа… У других досок – хотя бы у сосны – стружка ровная идет, а уж у елки – прямо одни только рваные клочья, вот какое это дерево – стерва!
А еще как-то, когда между солдат разговор зашел о своем сельском хозяйстве, – как-то с ним управятся бабы, – Гуньков бросил и свое замечание, на первый взгляд Пети как будто и не совсем идущее к теме:
– Баба – в поле, а лиса – в курятник.
– Среди бела дня? – насмешливо спросил его один из солдат.
– Ты, должно, из городских, – степенно отвечал на это Гуньков, – этого дела не знаешь. А что касается лисы, она, брат, не промахнется.
– Середь дня чтоб в курятник зашла?
– А то долго ей?
– А собаки?
– Боится она твоих собак, если она – лиса!.. Да зверь об себе все решительно знает, если ты хочешь понимать. Например, лиса… Она за людями все замечает, сколько лет возле них жимши. Нешто, ты думаешь, она не знает, что летом на нее охоты нет, как у нее мех лезет и никуда он ни к черту не годен? Зна-а-ет! Нешто, ты думаешь, не знает лиса, что мясо у ней вонючее до такой степени, что никто его жрать не согласится? Зна-а-ет, брат!.. А кроме того, ведь у ней же лисята теперь возле норы ее ждут – корми нас! Как ей к ним показаться без курицы в зубах? Вот через это она теперь и храбрая, лиса…
Гуньков помолчал немного и добавил:
– Что касается волков, то они готовы верст за пятнадцать бежать от своего логова, только бы как-нибудь по нечаянности близко к себе какую живность не задрать. Волк, он всех телят, всех овец, всех жеребят возле свово логова наперечет знает, а только нипочем не тронет: поклацает на них зубами, шерсть в дыбки подымет, а потом тут же ходу скорей. Почему это? Зна-а-ет, что чуть он проштрафится, то тут ему и погибель, а всему его выводку тоже конец. А верст за пятнадцать, за двадцать набедокурит, поди его ищи-свищи.
Когда Петя после встречи с самим Ренненкампфом вернулся в роту, первый, кто узнал от него, что он должен идти под арест на гарнизонную гауптвахту, был Гуньков, который как раз тогда был дневальным.
Он ударил себя обеими руками по бедрам в знак удивления и протянул горестно:
– Ну что ты скажешь!.. Диви бы наш брат, серый, а то… – И он кивнул на серебряный значок и добавил с большим сожалением: – Ну, на гарнизонной там такие артисты сидят, что вы уж лучше это свое отличие дежурному или там начальнику караула на сохранение сдайте, а то с ним проститесь.
И он же первый увидел его снова, когда его выпустили, и был явно обрадован тем, что он цел и что при нем, как и прежде, его отличие – никто не спер.
Между тем дядька Пети, из-за него пострадавший, так как ротный командир поставил его на два часа под ружье, – мрачно предсказывал, что недосиженное на гауптвахте он, Петя, еще отсидит со временем.
– Раз ежли сам командующий войсками на вас за необразованность вашу наложил свое взыскание, то как же могут его отменить? – глядя в упор, говорил он вполне убежденно.