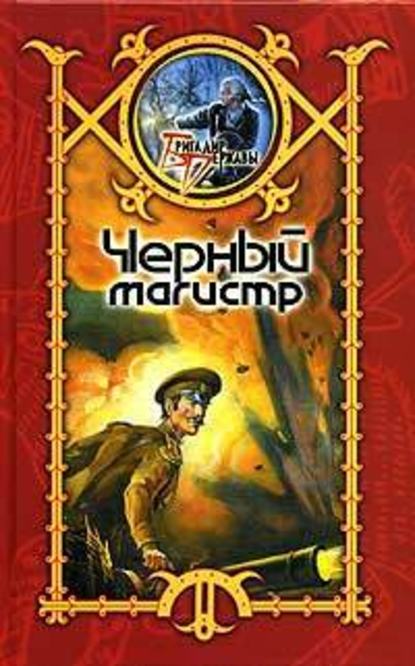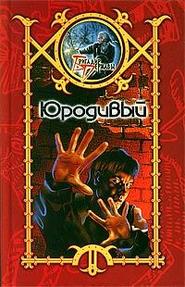По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Черный магистр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Чего это у нас за страна такая, – горестно размышлял я, направляясь к дамам, собравшимся в свой кружок во главе с хозяйкой дома, – все ее спасают, да никак не спасут».
Дамы, в основном, не юного и еще более достойного возрастов, обсуждали несостоявшийся любительский спектакль.
– Как бы было, голубушка Екатерина Дмитриевна, прэлэсно для просвещения умов и улучшения нравов... – говорила женщина, одетая по моде, но с нелепыми «наворотами» на платье, отличавшими ее от других дам. – Пиэса пустяшная, но востра! Жаль, автор из плэбеев, все про купцов пишет.
– Что за пьеса? – тихонько поинтересовался я у хозяйки.
– «Утро молодого человека».
– Островского? – машинально вспомнил я.
Екатерина Дмитриевна странно на меня посмотрела. Я попытался поправиться, но не сообразил, как, и отошел от греха подальше. «Потом между делом скажу, что видел книгу в ее библиотеке», – решил я.
Гости веселились, как умели, я же чувствовал себя не в своей тарелке. На меня продолжали смотреть с любопытством, но безо всякого уважения, как на ученого медведя в цирке. Может быть, от нервического состояния или из-за меланхолии (вот как я уже научился выражаться!), мне никто из многочисленной компании не понравился. Между тем, столы, за которыми мы ужинали, прибрали, и прислуга готовила залу к танцам.
Я не нашел ничего веселее, как отправиться в буфет, куда периодически наведывалась мужская часть общества. Над бутылками и бокалами колдовал приглашенный со стороны буфетчик. Здесь оказалось самое веселое место. После третьего бокала французского шампанского я начал видеть уездных жителей совсем в ином свете. Среди них оказалось много милых людей. Постепенно сюда же стянулись спасители отечества – либералы. Пик их активности уже прошел, и язвы общества не казались такими страшными. Только плохо одетый революционер Венедикт Фиолистратович между «Лафитом» и «Клико» поругивал аристократов.
Как я понял, император Николай Павлович, после декабрьского восстания 1825 года перестал доверять высшему дворянству, и титулованные особы перестали выпячивать свою геральдическую исключительность, При новом императоре гербы отмыли от пыли забвения, и все, кто только могли, опять начали именовать себя князьями и баронами, требуя полагающихся привилегий.
– Павел Петрович как говорил: «Ты аристократ, пока я тебя вижу, а как не вижу, ты никто»! – апеллировал к сомнительному авторитету убитого царя будущий народник.
– Вам доводилось видеть императора Павла? – спросил меня незначительный господин с пьяным и глупым лицом.
– Доводилось, – сознался я. – Как-то мы с ним беседовали.
– Ну и как он, что был за человек? – заинтересовались присутствующие.
– Обычный реформатор, хотел единолично всю Россию переделать, да надорвался. Знаете, как по этому поводу говорится: «хотел как лучше, получилось как всегда».
– Но он был прогрессивен?! – то ли спросил, то ли констатировал зашарпанный революционер.
Меня этот товарищ начинал раздражать тем, что на халяву пил как воду только самые дорогие иноземные напитки, брезгуя народной водкой.
– Он был такой же великий император, как вы великий революционер, – сказал я, не очень заботясь о нежных чувствах Фиолистратовича.
Последний хотел было возникнуть, но икнул и торопливо ушел из буфета.
– Он, что у вас, местный дурачок? – спросил я буфетную компанию.
– Венедикт из поповичей, – пояснил любитель гласности, – был отчислен из семинарии, занимался торговлей, а теперь разгильдяй.
– А раньше им не был? – спросил я, удивившись, что разгильдяем революционер стал только теперь.
– Был купцом второй гильдии, да за дебоши из гильдии изгнали-с. Однако, хотелось бы узнать ваше мнение о гласности?
– Ерунда все это, если на гласность смотреть, как на средство против лихоимства, – честно сказал я. – Ну, обличите вы чиновника взяточника, а он заявит, что вы его оклеветали, что для этого вас подкупили его враги. Придется создавать комиссию, чтобы она разобралась в обстоятельствах. Вот и будет ваша правда против его денег. Он купит членов комиссии, и вы же окажетесь клеветником.
– Не всех можно купить! – гордо заявил либерал.
– Конечно, есть много честных людей, но вы сами недавно говорили, что кругом взяточничество?
– Именно так-с.
– Вот вам и ответ на наш вопрос. Чтобы добиться толка, придется для надзора за каждым нечестным чиновником содержать комиссию из других чиновников, часто таких же взяточников.
Такая циничная логика была, по-моему, новой для времен «надежды и иллюзий», периодически произрастающих в нашем вечно жаждущем справедливости государстве.
– Так, по-вашему, зло неискоренимо? – сердито спросил либерал.
– Не знаю. Я торжества справедливости пока нигде не наблюдал.
– То, что вы говорите, совершенно безнравственно. Есть высокие принципы, коим следует всякий порядочный человек. Это принципы служения отечеству и государю! И таких людей в России большинство!
– Коли так, прошу меня извинить, я, вероятно, неправильно вас понял, когда вы обличали пороки общества. Ежели все так чудесно, то стоит ли из-за нескольких лихоимцев растлевать и волновать народ гласностью?
Либерал совершенно озверел от собственных противоречий и собрался обрушить на мою голову водопад своих наивных мечтаний. Однако, я вовремя уловил приближающуюся опасность и, любезно улыбнувшись, оставил за ним поле боя.
Когда я уже выходил, в буфетной заговорили все разом.
Вечеринка, между тем, перешла в заключительную фазу. Кое-кто уже уехал, другие собирались. Только игроки в вист отрешенно сидели за ломберным столиком.
Екатерина Дмитриевна выглядела утомленной, Видно было, что у нее опять сильная мигрень. Я пошел в сад подышать свежим воздухом и, спускаясь с крыльца, понял, как сильно пьян. Опьянение было, что называется мягкое. Голова вроде бы работала нормально, а вот члены совсем расслабились. Я ушел подальше от дома и сел на скамейку.
Яркое осеннее небо с мириадами звезд висело над головой. Как всегда в такие моменты, потянуло на философствования. Мир был огромен, а я никому не нужен, Мне стало грустно и одиноко. Что, в конце концов такое моя маленькая жизнь? Кому я нужен на этой большой, равнодушной земле? У меня нет ничего, даже своего времени, Я затерялся, запутался. Во всей огромной стране, во всем мире, не найдется человека, который бы меня любил!
У придурошных провинциальных «либералов» есть хотя бы иллюзии, они верят в свои придуманные истины. Во что верю я? Что есть за душой у меня, кроме позы, пижонства и суетности? Мне сделалось сначала стыдно, потом жалко себя. Я чуть не заплакал.
Пока я горевал о своей загубленной жизни, последние гости разъехались по домам. В сад вышла Марьяша и передала, что меня ждет Екатерина Дмитриевна. Я вспомнил, что у нее сильно болит голова, и на ватных ногах отправился в дом. Свет в общих комнатах был уже потушен. Привлеченная прислуга разошлась по домам.
Марьяша протяжно зевнув, пожелала мне спокойной ночи и ушла к себе. В темной гостиной никого не было. Я пошел по неосвещенным комнатам в спальню хозяйки. Дверь в ее комнату была неплотно прикрыта, через щель пробивался свет. Я без стука вошел и направился прямо к кровати. Комнату освещала одна свеча в канделябре на туалетном столике. Екатерина Дмитриевна лежала на высоко взбитых подушках, прикрытая тонким одеялом. Я споткнулся о кресло и, чтобы не упасть, грузно опустился прямо на постель.
– Сейчас я вам помогу, – пообещал я, не очень ладно ворочая языком.
Я сосредоточился и, подняв руки над ее головой, начал сеанс. Лицо женщины было скрыто тенью, и я не мог по глазам определить эффективность лечения.
– Ну, как вы себя чувствуете? – спросил я, понимая, что руки перестают мне служить.
– Спасибо, мне лучше, – шепотом ответила она.
– Вот и прекрасно. Выспитесь, и все будет хорошо.
Я собрался встать, но не удержался и опустил руки ей на голову. Пальцы утонули в теплых, пушистых волосах.
– Так я пошел, – зачем-то сказал я, понимая, что уже не смогу уйти.
Екатерина Дмитриевна ничего не ответила, и я почувствовал, что она вся дрожит. Не соображая, что делаю, я наклонился к ее лицу и припал к губам. Она никак на это не отреагировала, но это меня не остановило. Я жадно ее целовал, как будто прятался в ней от одиночества. Еще не кончился первый поцелуй, а я уже стянул с нее покрывало и потянул вверх подол ночной сорочки. Рубашка была из очень тонкой шелковистой материи и, когда я рванул сильнее, с треском разорвалась.
Екатерина Дмитриевна попыталась отстраниться, оттолкнуть меня, но я сжал ее тело и навалился всем своим весом. Каким-то чудом я одновременно сумел содрать с себя брюки и без подготовки, грубо и, наверное, больно, взял ее. Она вскрикнула, когда я ворвался в нее, и замычала сквозь сжатые зубы, мечась головой по подушкам. Я почти не понимал, что делаю, наслаждаясь грубой, примитивной страстью.
Дамы, в основном, не юного и еще более достойного возрастов, обсуждали несостоявшийся любительский спектакль.
– Как бы было, голубушка Екатерина Дмитриевна, прэлэсно для просвещения умов и улучшения нравов... – говорила женщина, одетая по моде, но с нелепыми «наворотами» на платье, отличавшими ее от других дам. – Пиэса пустяшная, но востра! Жаль, автор из плэбеев, все про купцов пишет.
– Что за пьеса? – тихонько поинтересовался я у хозяйки.
– «Утро молодого человека».
– Островского? – машинально вспомнил я.
Екатерина Дмитриевна странно на меня посмотрела. Я попытался поправиться, но не сообразил, как, и отошел от греха подальше. «Потом между делом скажу, что видел книгу в ее библиотеке», – решил я.
Гости веселились, как умели, я же чувствовал себя не в своей тарелке. На меня продолжали смотреть с любопытством, но безо всякого уважения, как на ученого медведя в цирке. Может быть, от нервического состояния или из-за меланхолии (вот как я уже научился выражаться!), мне никто из многочисленной компании не понравился. Между тем, столы, за которыми мы ужинали, прибрали, и прислуга готовила залу к танцам.
Я не нашел ничего веселее, как отправиться в буфет, куда периодически наведывалась мужская часть общества. Над бутылками и бокалами колдовал приглашенный со стороны буфетчик. Здесь оказалось самое веселое место. После третьего бокала французского шампанского я начал видеть уездных жителей совсем в ином свете. Среди них оказалось много милых людей. Постепенно сюда же стянулись спасители отечества – либералы. Пик их активности уже прошел, и язвы общества не казались такими страшными. Только плохо одетый революционер Венедикт Фиолистратович между «Лафитом» и «Клико» поругивал аристократов.
Как я понял, император Николай Павлович, после декабрьского восстания 1825 года перестал доверять высшему дворянству, и титулованные особы перестали выпячивать свою геральдическую исключительность, При новом императоре гербы отмыли от пыли забвения, и все, кто только могли, опять начали именовать себя князьями и баронами, требуя полагающихся привилегий.
– Павел Петрович как говорил: «Ты аристократ, пока я тебя вижу, а как не вижу, ты никто»! – апеллировал к сомнительному авторитету убитого царя будущий народник.
– Вам доводилось видеть императора Павла? – спросил меня незначительный господин с пьяным и глупым лицом.
– Доводилось, – сознался я. – Как-то мы с ним беседовали.
– Ну и как он, что был за человек? – заинтересовались присутствующие.
– Обычный реформатор, хотел единолично всю Россию переделать, да надорвался. Знаете, как по этому поводу говорится: «хотел как лучше, получилось как всегда».
– Но он был прогрессивен?! – то ли спросил, то ли констатировал зашарпанный революционер.
Меня этот товарищ начинал раздражать тем, что на халяву пил как воду только самые дорогие иноземные напитки, брезгуя народной водкой.
– Он был такой же великий император, как вы великий революционер, – сказал я, не очень заботясь о нежных чувствах Фиолистратовича.
Последний хотел было возникнуть, но икнул и торопливо ушел из буфета.
– Он, что у вас, местный дурачок? – спросил я буфетную компанию.
– Венедикт из поповичей, – пояснил любитель гласности, – был отчислен из семинарии, занимался торговлей, а теперь разгильдяй.
– А раньше им не был? – спросил я, удивившись, что разгильдяем революционер стал только теперь.
– Был купцом второй гильдии, да за дебоши из гильдии изгнали-с. Однако, хотелось бы узнать ваше мнение о гласности?
– Ерунда все это, если на гласность смотреть, как на средство против лихоимства, – честно сказал я. – Ну, обличите вы чиновника взяточника, а он заявит, что вы его оклеветали, что для этого вас подкупили его враги. Придется создавать комиссию, чтобы она разобралась в обстоятельствах. Вот и будет ваша правда против его денег. Он купит членов комиссии, и вы же окажетесь клеветником.
– Не всех можно купить! – гордо заявил либерал.
– Конечно, есть много честных людей, но вы сами недавно говорили, что кругом взяточничество?
– Именно так-с.
– Вот вам и ответ на наш вопрос. Чтобы добиться толка, придется для надзора за каждым нечестным чиновником содержать комиссию из других чиновников, часто таких же взяточников.
Такая циничная логика была, по-моему, новой для времен «надежды и иллюзий», периодически произрастающих в нашем вечно жаждущем справедливости государстве.
– Так, по-вашему, зло неискоренимо? – сердито спросил либерал.
– Не знаю. Я торжества справедливости пока нигде не наблюдал.
– То, что вы говорите, совершенно безнравственно. Есть высокие принципы, коим следует всякий порядочный человек. Это принципы служения отечеству и государю! И таких людей в России большинство!
– Коли так, прошу меня извинить, я, вероятно, неправильно вас понял, когда вы обличали пороки общества. Ежели все так чудесно, то стоит ли из-за нескольких лихоимцев растлевать и волновать народ гласностью?
Либерал совершенно озверел от собственных противоречий и собрался обрушить на мою голову водопад своих наивных мечтаний. Однако, я вовремя уловил приближающуюся опасность и, любезно улыбнувшись, оставил за ним поле боя.
Когда я уже выходил, в буфетной заговорили все разом.
Вечеринка, между тем, перешла в заключительную фазу. Кое-кто уже уехал, другие собирались. Только игроки в вист отрешенно сидели за ломберным столиком.
Екатерина Дмитриевна выглядела утомленной, Видно было, что у нее опять сильная мигрень. Я пошел в сад подышать свежим воздухом и, спускаясь с крыльца, понял, как сильно пьян. Опьянение было, что называется мягкое. Голова вроде бы работала нормально, а вот члены совсем расслабились. Я ушел подальше от дома и сел на скамейку.
Яркое осеннее небо с мириадами звезд висело над головой. Как всегда в такие моменты, потянуло на философствования. Мир был огромен, а я никому не нужен, Мне стало грустно и одиноко. Что, в конце концов такое моя маленькая жизнь? Кому я нужен на этой большой, равнодушной земле? У меня нет ничего, даже своего времени, Я затерялся, запутался. Во всей огромной стране, во всем мире, не найдется человека, который бы меня любил!
У придурошных провинциальных «либералов» есть хотя бы иллюзии, они верят в свои придуманные истины. Во что верю я? Что есть за душой у меня, кроме позы, пижонства и суетности? Мне сделалось сначала стыдно, потом жалко себя. Я чуть не заплакал.
Пока я горевал о своей загубленной жизни, последние гости разъехались по домам. В сад вышла Марьяша и передала, что меня ждет Екатерина Дмитриевна. Я вспомнил, что у нее сильно болит голова, и на ватных ногах отправился в дом. Свет в общих комнатах был уже потушен. Привлеченная прислуга разошлась по домам.
Марьяша протяжно зевнув, пожелала мне спокойной ночи и ушла к себе. В темной гостиной никого не было. Я пошел по неосвещенным комнатам в спальню хозяйки. Дверь в ее комнату была неплотно прикрыта, через щель пробивался свет. Я без стука вошел и направился прямо к кровати. Комнату освещала одна свеча в канделябре на туалетном столике. Екатерина Дмитриевна лежала на высоко взбитых подушках, прикрытая тонким одеялом. Я споткнулся о кресло и, чтобы не упасть, грузно опустился прямо на постель.
– Сейчас я вам помогу, – пообещал я, не очень ладно ворочая языком.
Я сосредоточился и, подняв руки над ее головой, начал сеанс. Лицо женщины было скрыто тенью, и я не мог по глазам определить эффективность лечения.
– Ну, как вы себя чувствуете? – спросил я, понимая, что руки перестают мне служить.
– Спасибо, мне лучше, – шепотом ответила она.
– Вот и прекрасно. Выспитесь, и все будет хорошо.
Я собрался встать, но не удержался и опустил руки ей на голову. Пальцы утонули в теплых, пушистых волосах.
– Так я пошел, – зачем-то сказал я, понимая, что уже не смогу уйти.
Екатерина Дмитриевна ничего не ответила, и я почувствовал, что она вся дрожит. Не соображая, что делаю, я наклонился к ее лицу и припал к губам. Она никак на это не отреагировала, но это меня не остановило. Я жадно ее целовал, как будто прятался в ней от одиночества. Еще не кончился первый поцелуй, а я уже стянул с нее покрывало и потянул вверх подол ночной сорочки. Рубашка была из очень тонкой шелковистой материи и, когда я рванул сильнее, с треском разорвалась.
Екатерина Дмитриевна попыталась отстраниться, оттолкнуть меня, но я сжал ее тело и навалился всем своим весом. Каким-то чудом я одновременно сумел содрать с себя брюки и без подготовки, грубо и, наверное, больно, взял ее. Она вскрикнула, когда я ворвался в нее, и замычала сквозь сжатые зубы, мечась головой по подушкам. Я почти не понимал, что делаю, наслаждаясь грубой, примитивной страстью.