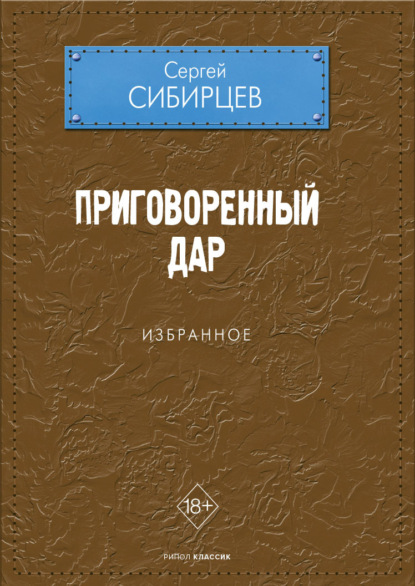По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приговоренный дар. Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До состояния «швайн» мой матерый собутыльник еще не добрался, – тренированное, закаленное в питейных застойных боях и битвах нутро не позволяло так мелко опакоститься, когда на грудь принята всего-то одна-единственная зелено-матовая французская горилка, источающая дух каких-то французских вишневых косточек вперемежку с фиалковым польским ароматцем…
– Ведь черт знает что они туда мочат! Это, батенька, вам не нашенский солнечный «Арарат»! Душистые опилки, не сойти мне с места, – а пьется как! Пьется черт знает как хорошо. Не заметил, как уговорил душечку, так. Потому что сволочи, которые в европах – любят жизнь! Они ее любят до посинения. А русская сволочь, вроде меня, любит – франки, тугрики, марки и долляры. Я как-то, Игорюша, в одном порядочном ресторане понаведался в сортир и не обнаружил там пипифакса. Голуба, я доллярами подтерся. Жамкал, жамкал, чтоб до кондиции довести, – довел-с, употребил и отправил в корзину. А потом опять по нужде завернул, глянь, – зеленки нету – сперли! А ты говоришь, чукча! Сам ты, батенька, вот! Вот этот напиток я уважаю. Мой родной, родимый до последнего прыщика напиток. Он для русского человека вместо молока и хлеба. Потому что из хлебца сотворен, из отборных колосьев. Ты, Игорюша, признайся: живьем-то пшеничку трогал? Мял ее хлебные косточки? Хрен с два, скажу за тебя. Тебе, голуба, не полагается по штату знать, как произрастают злаки. Ты, Игорюша, бумажный червь, так. И этим червячным фактом ты мне полезен. И на хлеб с маслом заработаешь. Заработаешь, голуба, у Бурлакова. У других – не знаю. На других я сморкаться хотел. Ты понравься мне, я тебя приголублю, защищу. Потому что новый русский Бурлаков знает, как с вашим вонючим организмом обращаться. Ты, Игорюша, пей и не держи сердца. Я ведь любя, так. Ах, голуба, ты вот культурно смотришь, виду не показываешь, что терпишь некультурного Бурлакова… А хочешь, голуба, я расскажу всю твою автобиографию. И сколько душ ты загубил, и как у тебя позавчера с мамзелью не вышло, не встало. А ты не будь дураком: хвать за резиновый хрен, а мамзелька – хвать тебя по мордасам, а? Я все, все-е про тебя знаю. А еще разведка донесла, что специально подселился в этот поезд. Специально подсел ко мне, а? Со спецзаданием. А дальше Бурлаков не знает. Дальше, Игорюша, ты сам мне поведаешь. Все как на духу, как у попа, так. По-мирному, голуба, по-приятельски за этой вот рюмашкой. А ты как думал, Игорюша. Бурлакова не проведешь. И вбить его по шляпку еще никакой сволочи не удавалось. Потому что молотка нет такого. Со мной, Игорюша, нужно дружить, пока я трезвый и добрый. Вот скажи, как перед попом, ты, Бурлакова, уважаешь?
Не прерывая этого полупьяного, роскошного, слегка нарочито развязного бурлаковского монолога, я между тем выкушал без закусывания пару водочных рюмок, пшеничное содержимое которых почти тотчас же разошлось по всей кровеносной периферии, снимая идиотское ненужное напряжение, которое, безусловно, проявилось бы в каких-нибудь неадекватных нервических подергиваниях и надуманных смешках, или, напротив, ошалелой замкнутости при последних известиях, доложенных мне в несколько скоморошечьих интонациях.
То есть по-настоящему меня бы все равно должно ободрать, вогнать в невообразимую краску разведданные о моей собственной сугубо личной деятельности по убиению ближних, не говоря уже о совершенно интимных моментах, о которых я никому не имел чести доложиться, так как не имел кокетливой юношеской привычки: бахвалиться о мужских победах и тем более о мелких, незначительных поражениях, которые всегда отыщутся в любой героической любовной одиссее нормального мужика.
Неужели барышня Ирина входит в штат тайных осведомителей Службы безопасности бурлаковской империи? Боже, какая гадость, оказывается, эта девочка!
Эта маменькина дочка, черт бы ее побрал!
Но откуда, из каких таких сверхсекретных источников господин Бурлаков осведомлен о моих настоящих делах, о которых ни одна живая душа не обязана знать?! Я всегда действую в совершенном элитарном одиночестве, никаких посредников-помощников-стукачей, – неужели бьет наугад, берет на испуг, а? Понтится господин Бурлаков, строит из себя всезнайку! Нет, мне этот плавающий в собственных потовых испражнениях деятель чертовски нравился. Никогда бы не догадался, что в этой глыбе сала припрятана такая бездна пикантных и ненужных для его коммерческой деятельности познаний о чужих…
– Можешь, голуба, не говорить, вижу – уважаешь Бурлакова. Это уже плюс тебе. Игорюша, ты главное не горюй. Я тебя в расход не пущу. Была бы нужда, сам понимаешь. В наше время, с нашими бурлаковскими возможностями, – все равно что два пальца обоссать. Я хочу с тобой, Игорюша, дружить. А на Иришку сердце не держи. Иришка, она наша. Ириша – обыкновенная маленькая блядь, пускай ее. Ты, голуба, лучше объясни: на какой хрен тебе Бурлаков сдался? Чем я тебе приглянулся? Совершенно рядовой капиталист. Таких сейчас на Руси, как собак нерезаных, так? Я знаю, к моим заначкам ты равнодушен. Нет в тебе, голуба, страсти накопительства. Почему нет, – это уже по ведомству Канатчивовой дачи. А может, ты тихий шизик, бог тебя разберет. У тебя, голуба, есть своя законная привычка убивать. По моим сведениям, ты, Игорюша, любитель. Но любитель ты особенный, – интеллигентный. Зато проворачиваешь свои интимные делишки, как подготовленный охотник из отряда «Дельфины», так. Что тут сказать, – талант! Что с того, что ты, голуба, не состоишь в профсоюзе киллеров, меня этот факт лично не щекотит. Ты художник-одиночка, Игорюша. Я знаю, – на собственную смерть тебе наплевать. Ты, Игорюша, вроде этого молодчика Печорина, – чему быть того не миновать, так. Ты, голуба, как истинный герой, мелкой боли трусишь. Зубы там лечить, еще какую бяку. Уколы! Тебе, голуба, легче сразу застрелиться! Знаешь, я такой же бяка – давно пора за зубы взяться, а как представлю кресло, весь потом покрываюсь, точно соплями. Отвратное ощущение, голуба. Хуже, чем похмелье посленовогоднее.
– Вы, стало быть, Петр Нилыч, неравнодушны к Михаилу Юрьевичу…
– Это ты, голуба, что ли, про городничего нашенского? Еще чего!
– Простите, я совсем о другом. Поэт Лермонтов вам близок?
– Игорюша, голуба, мне близки только задницы, которые произрастают на особах нежного сладкого мягкого пола. Они мне, голуба, всегда близки и греют сердце. А твой сочинитель Лермонтов мне не может быть близок. Он истлел черт знает когда, еще до Великой Октябрьской. Мне близки живые, ласковые, пахучие мальчики. А праху я не поклоняюсь, пускай он и гения. Мне, голуба, нет разницы. Я практический мужчина. Вот такие вот делишки, Игорюша. Я беру тебя к себе, чтоб выжил. И приносил пользу. Бурлакову, а значит, и матери России, так.
Запись третья
Прелюдия убийства существ, к которым успел привязаться, успел каким-то образом проникнуться, понять скрытую даже от них самих сущность, их душевные и сердечные тайники, которые они по дурости или по умыслу раскрыли мне, в сущности, всегда холодному стороннему наблюдателю; наблюдателю, который независимо от самого себя, помимо своей воли, своего сознания, вдруг чувствует в своей омертвелой груди некий теплый сквозняк расположения, соучастия, внимательности к субъекту, приговоренному именно своей волей к уничтожению, – и в следствии нежданной (но тайно всегда трепетно ожидаемой) расположенности и некоторой смятенности чувств, вполне искренних, невымышленных, подготовительные процедуры смертоубийства все оттягиваешь, находя какие-то объективные причины для переноса срока приговора…
В случае с господином Бурлаковым все именно совпадало с этими странными ощущениями.
Открыл, обнаружил я их несколько лет назад, совершенно случайно, неумышленно в своем довольно холодном существе, существе, впрочем, холодном и от природной конституции, и по воспитанию самим окружающим обществом, и кругом семейным, – от последнего я отошел еще в младые студенческие годы, годы, о которых я вспоминаю не без сентиментальщины.
В них самая чудесная первая чувственная встреча, в порядке малоопытности перепутанная мною с любовью, с тем именно книжным высоким тургеневским чувством отрешенности от самого себя, от своей вполне созревшей эгоцентрической сущности. Сущности, превратившей нынешние достаточно зрелые собственные лета в чувственные эстетские, мазохистские, уголовнонаказуемые. Когда, почти любя, обожая свою жертву, все-таки в конце концов спешишь исполнить свои странные, добровольно взятые на себя обязательства по очищению этого утопающего в собственных экскрементах мира, хотя бы на ничтожный миллиметр, но снизить катастрофический уровень загаженности местности под названием Россия.
Исходят праведной ненавистью или остаются равнодушными, спокойными, хладнокровными по отношению к своей намеченной жертве именно профессиональные убийцы: палачи, наемники, бандиты, дебильные хулиганы, шизоидные и психопатические личности, киллеры.
Я же ни в одну из этих по-своему симпатичных профессиональных категорий не попадаю.
Мне бы не хотелось выглядеть капризной барышней, которой якобы невозможно тесен этот жакетик, – эти достаточно ограниченные рамки палача ли, дебильного губошлепа с ледовитой пустотой в глазах и сердце, наемного ли отстрельщика за приличный гонорар.
Просто-напросто мой случай, в сущности, из другой оперы.
И выше, в предыдущих записях я попытался дать абрис моего чувственного и эстетического мироощущения, ощущения того, отчего же я еще живу, зачем занимаю место, возможно, кому-то более необходимое.
Хотя я никому никогда не собирался передоверять моего жизненного пространства на местности, которая издавна слывет столицей этой самой русской местности.
Мне доставляет удовольствие заниматься уборкой своей двухкомнатной кооперативной квартиры, расположенной в достаточно приличном доме по проспекту Мира, неподалеку от метро «Алексеевская».
Мне не прискучило еще волочиться за женщинами – давнишними приятельницами, или совсем новейшей, закадренной буквально на днях, прямо в метро на эскалаторной подрагивающей гусенице, ползущей вверх наружу.
Я представляю сейчас ее мило поощряющую, и все же извинительно настороженную улыбку, когда я обращался не к ней в частности, а сразу в мировое пространство, проговаривая какой-то только что пришедший на ум интеллигентский полузаумный вздор, на который она не без изящности изловилась, позволив проводить ее до подъезда, в котором она проживала с престарелыми родителями и братцем, возраста которого я не удосужился спросить. Сама же незнакомка имела в активе не больше двадцати и внешности вполне заурядной русоволосой писаной очаровательницы. Не обладая никакими суперменскими качествами и приспособлениями, я тем не менее каким-то образом умудрился запудрить мозги моей новоявленной уличной прельстительнице по имени Ирина…
Да, эта по-киношному очаровательная томноокая с неспешными, женственно округлыми движениями и повадками прирученной холеной кошки-пумы барышня Ирина на следующий день посетила мое холостяцкое обиталище, найдя его вполне симпатичным и даже уютным, в котором следует, конечно, кое-что переставить, поменять местами, что-то прикупить для более цельного интерьера, сменить обои, убрать ковер со стены…
Если бы я не был старым проверенным ловеласом, а всего лишь начинающим холостяком, я бы, возможно, насторожился и снисходительно ласково одернул очаровательного любителя-дизайнера. Я же все пустил на самотек, радуясь и с удовольствием мягчея сердцем, вполуха слушая девчоночью фамильярную болтовню о моей квартире, которую, оказывается, следовало бы перевернуть вверх дном: ссыпать все в кучу и только затем со всей женской тщательностью выбрать из всего мною накопленного за черт знает сколько лет несколько вещиц, среди которых: окаменелые ветвистые панты северного оленя, пара ампирных кресел, напольные мертвые часы в черном дереве, зеленый персидский ковер – содрать со стены спальни, раскромсать на три неравных куска и разбросать по комнатам под кресла…
В общем, всю милую чепухенцию, что фантазировала из чувственного напомаженного сиренью и блеском рта, я, разумеется, не собирался претворять в жизнь ни тотчас же, ни потом, на досуге. У девочки свой простительный не без очарования критический бзик на устоявшуюся холостяцкую берлогу.
Я довольно уживчивый любовник, из чего следует, что нервы мои холостяцкие никоим образом не расшатываются при общении с очередной дамой моего сердца и тела, имеющей в своем характере какие-нибудь раздражающие, малосимпатичные запятые. Мне же по моему холостяцкому рангу на обязательные всевозможного рода закорючки давно начихать. С какой такой стати мне вдруг воспитывать, давить своим мнением, своим возрастом и прочим авторитетом мою очередную эпизодическую гостью?
В космосе бытия и суеты на какой-то редкий и не всегда сладостный миг вдруг не разминулись две одиночные планетные системы, со своей атмосферой, со своими аборигенами, со своими законами бытия и быта, и слава богу, что не вошли в семейный удушающий сплин, но более-менее мирно, через какие-то дни или месяцы вернулись на свои законные одиночно блуждающие орбиты.
В свое время я со всей обстоятельностью испытал на своей шкуре именно этот самый сплин супружеского союза. И одного опыта оказалось достаточно, чтобы я более не попадался на эту закорючку-крюк, который вначале видится, представляется и чувствуется этаким неосязательным нежнейшим крючочком, с которого как бы и слезать совсем неохота, необязательно, напротив, заглатываешь еще глубже, чтоб уж наверняка, чтоб в самые кишки врезался, только бы не сорваться от этой волшебницы-удильщицы…
Расставание с законной волшебницей вспоминается мне, как одно из тяжких жизненных испытаний, прошедши которое, я с законной гордостью до сего дня несу почетное элегантное знамя свободного господина – господина своей судьбы.
И ежели какая-то очередная прелестница воображает, что ее чары позволяют ей фантазировать на тему переустройства (перестройки!) моего устоявшегося, консервативного и безвкусного убежища, – черт же с ней, пускай забавляется. Пускай забавляется в своих дерзких девчоночных мечтах, в которых наверняка она зрит меня под своим изящным модным каблучком в качестве законного мужа, или на худой конец, долговременного, говоря современным языком, спонсора.
Черта с два, девушка Ирина! Никогда не быть мне бабским угодником, даже у такой очаровательной писаной крали, как ты.
В данную секунду, не кривя душою, мое сердце принадлежит тебе, если на то пошло. Я с юношеской алчностью пожираю твои прелестные формы, твои легко угадываемые бедра под вечерней макси-юбкой с высоким сладострастным разрезом сзади. А груди, не знавшие младенческих эгоистических вечно жадных губ, их соски, наверняка вишневые, пружинят, отвердевая от моих… мечтающих и всегда же возвращающих меня в чистое трепетное безопытное прошлое…
Прошлое, в котором я, студент-девственник, отменно любительски изображаю дяденьку-ловеласа, с надуманными блудливыми приемами пресыщенного персонажа из серии домашних Казанов, удерживающего на своих мелко и позорно дрожащих коленях одну помоченную нимфетку тринадцати лет и отнюдь не девушку, а акселератную похотливую зверюшку чернявой масти, видимо, все же уловившей мою надсадную игру под полового профессионала, но не обнаружившей сего знания ни одним фривольным шевелением своих вполне созревших горячих ляжек, отдавливающих мои студенческие нервические ноги.
Каким по счету мужиком я был у этой черно-бурой сопливой двоешницы я не знаю, но лишила она меня юношеской непорочности в один из мартовских вечеров моей репетиторской практики, прямо в ее детской комнате, в которую в любой миг, безо всякого спросу мог понаведаться любой из ее моложавых номенклатурных родителей, положивших мне чрезвычайно приличный гонорар, с тем, чтобы я, студент приличного инженерного вуза, наконец-то образовал их лентяйку-дочку, подтянувши по основным точным школьным предметам.
То, что образование оказалось таким органично взаимным, – в этом можно винить исключительно мой пылкий юношеский организм, которому требовалась тогда именно подобная чувственная разрядка с подобным подпольно уголовнонаказуемым флером, который придавал нашим сладострастным предметным эмпирическим упражнениям ту живописную заграничную картину вседозволенности и истинно советского запретного разврата, которому мы доверялись, прелюбодействуя нарочно на грани фола, ожидая что в минуту, когда естества наши слившиеся в позе «бухарского хана», трепещут в последних фрикционных томительных всплесках, готовых взорваться чудесно-чудовищным ослепляющим (лично меня) органируемым симфоническим аккордом, – именно вот сейчас откроется дверь, и на пороге предстанет во всем своем домашнем мягком, искусно черно-буром, синеглазом родительском очаровании мама лентяйки-ученицы…
Мама фотогенично побледнеет, отчего по-персиански вырезанные глаза ее обратившиеся немо к нам, в дурной забывчивой истоме шевелящимся, распахнутся и чудесно превратятся в чудовищно полные пары лун…
Прокручивая десятки раз эту жутковатую картину-явление в своих воспаленных – от подпольной и в каждое мгновение наказуемой случки с похотливым запаленно сопящим младенцем, – мозгах, я всегда ждал, я надеялся, я звал скрытым молящим криком маму этой профессионально елозящей нимфетки, изучившей все мои неприличные и возможные эрогенные тактильные точки и зоны, обрабатывая которые с неутомимостью профессиональной кокотки, она вновь, раз за разом, заставляла мою уставшую, утомленную, трусившую, обмякшую плоть преображаться в нечто величественно гвардейское, бесстрашное, победное…
Я желал воскрешения в дверях живой, жутко пристывшей мамы этой трубно сопящей ученицы, забравшей в свое ротовое лоно мое мужское, послушно ученическое натренированное багровое стило.
И со всей отчетливостью представивши явление очаровательно улыбчивой ее мамы, я привычно ухватывал зубами слегка замусоленный, влажноватый (от предыдущей страстнотерпной прихватки) толстый ворот грубо вязанного свитера и тупо утробно мычал, пробуя выхватить, вынуть свое медленно испускающее дух ученическое стило…
Именно с тех студенческих лет, познав всевозможные чувственные упражнения, – познав их дьявольскую прелесть не с женщиной, а с девчонкой-школьницей, похоже, каким-то образом, тщательно изучившей запретные в те годы шедевры маркиза де Сада и порнороманистки Эмануэль – именно с тех лет, а точнее, с мартовской искристой капели я заполучил неизъяснимый психический недуг, преследующий меня на протяжении всей моей жизни. Недуг, связанный с естественным отправлением половой жажды-нужды, которая в свою очередь крепко-накрепко связалась в моем подсознании, в тех мозговых центрах, отвечающих за полноценную выдачу чувственных удовольствий в минуты близости с противоположным полом, сигналом-паролем для отмыкания этих самых тайников, ведающих оргазмом, служило всегдашнее мучительное ожидание, что вот-вот скрипнет дверь (неважно какая и где) и в проеме во всем зримом родительском карающем очаровании предстанет мама той особы, с которой я в этот божественный, низменный миг слит (в тысячно-рутинном супружеском или элементарном любовно-похотливом) в единое «сиамское» целое.
Если же я точно знал, что никто не посмеет потревожить наше любовное уединение, – а такая проза чаще всего и присутствовала, потому как к ней стремились мои партнерши, моя бывшая жена, последующие любовницы, – любовная игра превращалась в постылое будничное упражнение, сопоставимое, возможно, с чисткой ротовой полости зубной щеткой, елозя которой во всех предусмотренных гигиенической практикой направлениях, витаешь мыслями, в ожидании окончания этой заурядной процедуры, черт знает где, а прополоскавши рот, забываешь порою удостовериться, чисты ли резцы, полагая, что и так потерял времени черт знает сколько на эту привычку цивилизованного дикаря.
Если партнерша пришлась мне по душе, если я ее каким-то образом вначале лелеял, уважал, голубил (бывшая моя супруга не даст соврать), я со всей искусностью, которую с годами выпестовал, изображал сладострастие с элементами необузданности, доводя себя и партнершу до окончательной обессилености ввиду длительности заезда.
В некоторых случаях любовные инструменты, мои или партнерши, или оба, в связи с дефицитом ЛСМ (любовно смазочного материала) заполучали незначительные повреждения в виде болезненной припухлости, пунцовости, потертости и прочего чувствительного брака, в предощущении которого, приобретя некоторый жизненный опыт, удостоверившись, что голубка получила с лихвой и стенания ее осточертели, и вызывают лишь недобрую садистическую усмешку, которую я уже минут двадцать афиширую, гримасничая и скрежеща зубами (скрежеща в меру и чрезвычайно умело), я обращался к тактильным ласкам, успокаивая.
Впрочем, на отдельных особ мои ужасные актерские физиономии действуют не адекватно (или напротив, адекватно) возбуждающе, и моя спина и прочие филейные части покрываются царапинами и бороздами нежного сладострастия. Впоследствии, играя с подобными экзальтированными представительницами, я облачался в долгополую плотно прилегающую рубашку на шелковой или вискозной основе.
Оставив удовлетворенную, обезволенно распластавшуюся голубку в одиночестве, я, уже про себя, неслышно двигая челюстями, отправляюсь в ванную комнату и становлюсь под душ, с остервенением и вялостью смывая с себя пену лицедейского пота. Дверь ванной слегка приоткрыта или просто незаперта не по моей забывчивости, а с сугубо практической целью.
Не разрешившись от перевозбужденного семени, я не чувствую, что достиг нирваны или совершенства, если следовать рекомендациям восточных медитативных секс-мудрецов, утверждающих, что способность мужчины, своею волей удержавшего в себе собственное семя при половом сношении, – есть величайшая способность мужской воли, которая далеко не каждому дается в этом подлунном чувственном мире…