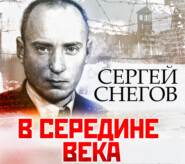По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В середине века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Осталось, как же! – зло сказал Панкратов. – Все подчистую подмели товарищи уполномоченные. И за меня, и за папу римского взыскали налоги от Адама и до самого светопреставления. Так и объяснили: на чужом горбу в рай собираемся…
Максименко сокрушенно покачал головой.
– Ай, какие идеологически невыдержанные уполномоченные в Казахстане! В рай верят! И ведь, не исключено, партийные?
Панкратов отрызнулся. Пшенная каша, похоже, легла у него комом не в желудке, а на сердце. Он гаркнул так зычно, что дежурный приоткрыл глазок: не дерутся ли в камере? Драки, истерические ссоры, дикие вопли были явлениями если и не ординарными, то и не такими уж необычными – надзирателям часто приходилось вмешиваться. Наша камера пока была на хорошем счету, народ в ней подобрался смирный: никого еще не били на допросах, никто не устраивал политических обструкций, не кидался на соседей, не пытался проломить дверь головой, не грозил в спорах доносами, не грыз в отчаянии руки. И хоть уже многие местные жители отхватили положенный срок, ни один не удостоился расстрела – мы ценили свою судьбу. «У нас глубже политического насморка не болеют, – хладнокровно разъяснял Максименко новеньким. – Так, на нормальную десяточку лагерей, а чтобы вышка – ни-ни!»
Лукьянич, не терпевший шума, сухо посоветовал Панкратову:
– Вы не орите, пожалуйста! Поберегите голос на допросы, там он вам понадобится больше.
3
Три дня Панкратов втихомолку страдал, поедая пшенную кашу, а на четвертые сутки к нам втолкнули нового арестованного.
Его именно втолкнули. Очевидно, он сопротивлялся, может – вырывался из рук охраны, и ему коленом наддали «нижнего ускорения». Он влетел в камеру, остановился, оглянулся, тяжело дыша. Он не сказал нам обязательного «Здравствуйте!», и мы его тоже не приветствовали.
– Ваша койка вот эта! – вежливо сказал корпусной, вошедший с тремя стрелками. – Ведите себя тихо. Для буйных у нас карцер и смирительная рубашка.
Арестованный не шевельнулся. Он молчал и ожесточенно дышал. Он был высок, очень худ и, видимо, силен костистой жилистой силой. На нас он по-прежнему не смотрел. Судя по всему, он был в шоке, его измученные, глубоко запавшие глаза горели – маленькие, серебряно посверкивающие точки на землистом, чем-то знакомом лице. Странно наблюдать крепких людей, ошеломленных до того, что не могут шевельнуться – ни сесть, ни лечь, ни наклониться. Они просто окостенело стоят – я уже видел раза два подобное состояние, оно не было мне внове, но все так же потрясало.
Но когда корпусной повернулся к двери, новенький очнулся. Он метнулся за корпусным, громко крикнул:
– Не смейте! Слышите, я не позволю! Немедленно соедините меня с товарищем Сталиным.
Корпусной по природе был из тех, что любят поболтать. Нам он читал нотации по любому поводу, а еще охотнее – без повода. Временами он изъяснялся почти изысканно.
– К сожалению, у меня нет прямого провода в Кремль. И уже поздно – товарищ Сталин отдыхает.
Арестованный чуть не топал ногами.
– Есть, есть – я лучше знаю!.. Сталин у себя, это обычное время его работы.
Корпусной строго поглядел на нас – не ухмыляемся ли в кулачок – и внушительно разъяснил:
– Будет товарищ Сталин беседовать со всякой мразью! Вот вызовет следователь, все жалобы изложите ему.
Он еще решительней двинулся к двери. Арестованный схватил его за руку, потянул к себе.
– Нет, вы разберитесь, очень прошу!.. Ну, хорошо, к товарищу Сталину нельзя, но к Молотову? Соедините меня с Вячеславом Михайловичем – на минутку, только на минутку! Я скажу, где я, одно это – где я!.. Чтобы знали…
– Повторяю: не успокоитесь, надену смирительную рубашку!
Между корпусным и новым заключенным встали стрелки. Глухо лязгнул засов. Максименко сел ко мне на койку.
– Деятель! – шепнул он с уважением. – И будут же его лупить на допросах! Не знаешь – кто? Вроде портреты его печатались.
Теперь я узнал арестованного. Это был видный работник Совнаркома. На торжественных приемах, важных совещаниях он выходил вместе с руководителями партии и государства, стоял около них. Нет, он не был крупной фигурой, крупную фигуру не впихнули бы в общую камеру, для них имелись одиночки, – он был лишь неизменно рядом с крупными фигурами. Его лицо встречалось на фотографиях среди других, более известных, оно примелькалось за много лет, казалось непременным элементом приемов и совещаний – вот он, сгорбившийся, растерянный, в расхристанной рубахе, с безумными глазами – бывший «он», бывший деятель, еще вчера ответственный работник, член комитетов и комиссий, завтрашняя мишень для издевательств людей, возомнивших себя охранителями революции!..
Мне стало невыразимо тяжело. Я не знал, какие преступления совершил этот человек, совершил ли их вообще. Я привык верить в таких людей – рабочих, испытавших царские плети и ссылки, выстоявших против свирепого напора контрреволюции… Что бы он ни совершил, этот человек, он был одним из творцов нового государства – как же оно могло замахнуться на него кулаком следователя? Нет, в самом деле, какое же чудовищное преступление числится за ним, если с ним так поступили? Его втолкнули к нам, ни словом, ни мыслью не провинившимся перед советской властью, но то были мы – сопляки, мелочишка, с такими, как мы, и ошибки если не простительны, то возможны. Нас просто слишком много – почти 150-миллионная масса. Но он – нет, он же другой, ошибки с ним немыслимы!
Я невесело сказал Максименко:
– Ладно: «лупить»… Не все тут сволочи – разберутся!
Максименко легко раздражался.
– Разберутся! По тюремному образцу тридцать седьмого года. Сперва снесут голову, потом будут выяснять – чья!
Во время нашего разговора проснулся Панкратов. Он спал так крепко, что не слышал, как в камеру ввели новенького. Панкратов с удивительной легкостью вмещал в себя по двадцать часов сна. Он отключался ночью и днем, перед обедом и после обеда. На допрос его еще не вызывали, он этим вволю пользовался. И надо отдать ему справедливость – среди нас, измученных, целыми днями в тоске слоняющихся по камере, ночи напролет мечущихся в бредовой бессоннице, он казался человеком из иного мира. Он не трепетал и не терзался, ожидая грозного вызова к следователю. Еда и сон занимали его куда больше, чем обвинение. О своем деле он не говорил ничего – то ли и вправду не знал, то ли искусно скрывал свое знание.
Сейчас он зевал, сидя на койке и почесывая бороду. Потом посмотрел на новенького и стал медленно меняться. Пораженный, почти напуганный его преображением, я не мог оторвать от него глаз. Панкратов выпрямился, напрягся, как-то по-особому хищно подобрался и помолодел. Затем встал и тоже другой – легкой и быстрой – походкой подошел к новичку.
– Виктор! – сказал он. – Вот так встреча, друг ситный!
Новенький дико уставился на Панкратова.
– Ты? Позволь… Как же это – я с тобой?
Панкратов закивал. Он теперь и говорил по-иному, без мужиковствующих интонаций и слов. У него, оказывается, был культурный голос – голос образованного человека.
– Я, конечно… А что странного, дорогой Виктор Семенович? Разве мы с тобой уже не сидели больше года в одной камере? История повторяется, дружок, как учит ваш духовный отец Гегель. Только он немного вроде ошибся – что-то фарсом, каким он объявил все повторные драмы, повторение не отдает Скорей хоть и вторичная, но еще одна трагедия.
Новенький кинулся к двери и забарабанил в нее кулаком. Сначала открылся волчок, потом распахнулась фортка. Разозленный корпусной – он, похоже, и не отходил от нашей камеры – закричал злым шепотом:
– Это еще что? Обструкцию устраиваете?
– Переведите меня в другую камеру! – потребовал новенький. – Я не могу сидеть с этими людьми! Куда угодно, только отсюда!
– В санатории будете выбирать соседей, ясно? Немедленно возвращайтесь на свою койку.
– Нет, послушайте! – настаивал в страшном волнении арестованный. – Этот человек – член руководящего органа партии эсеров! Я не могу, не хочу с таким контрреволюционером!..
– Все вы здесь контрики! – ответил корпусной и захлопнул фортку.
Панкратов беззвучно смеялся и в восторге бил себя по коленям, прислушиваясь к спору у двери.
4
В этот вечер мы почти не разговаривали. Лукьянич лежал на своей койке не шевелясь: может, спал, а вернее – задумался, он часто так задумывался – на часы, без движений. Максименко пробовал уговорить меня сыграть в морской бой, но расставлять карандашные крестики мне было противно, я вдруг снова – это регулярно повторялось у меня каждые две-три недели – тяжело и остро почувствовал, что крест поставлен на мне самом, на всей моей жизни. Если таких людей, как этот Виктор Семенович, арестовывают, на что могу надеяться я?
Я тоже лег, уперся взглядом в стену, о чем-то бессмысленно мечтал, кому-то бессмысленно жаловался и плакал – одной душой, без слез. Напротив меня сидел Панкратов. Он посмеивался, почесывал бороду, молчаливо ликовал, готовился к чему-то важному. Я догадывался – к чему.
А по камере метались Максименко и новенький. Максименко пробегал от двери к окну и обратно по двадцать километров в день. Он ходил часами, как заведенный, все убыстряя шаг, почти бежал, он выражал себя ходьбой, как иные жалобой или криком. Совнаркомовский деятель оказался таким же неутомимым ходоком. Они согласно поворачивали у окна и у двери, стремительно расходились в центре камеры и снова поворачивали. Они ходили, заложив руки за спину, подняв вверх головы: так легче думалось – с задранной в потолок головой. Я неоднократно проверял это сам. И они ни разу не столкнулись. Когда я бродил по камере, я ударялся о Максименко чуть ли не при каждом повороте, а эти не глядя безошибочно расходились, словно двигались не по доскам, а по рельсам. Так продолжалось до вечернего отбоя.
Когда лампочка замигала, приказывая спать, Максименко подошел ко мне:
– Сегодня находился досыта. Эх, Сережка, не знаешь ты лучшего тюремного удовольствия – лететь из угла в угол, пока ноги не отказали.