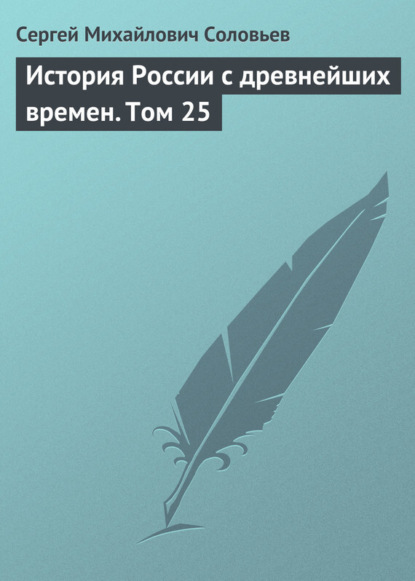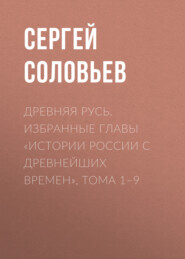По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 25
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А между тем Обрезков от 20 мая писал императору: «Принял я вольность вашему импер. величеству с рабским подтверждением всеподданнейше предложить о употреблении старания преклонить его величество короля прусского на отзыв пребывающего здесь посланника его, Рексена, и вовсе уничтожить основанное при Порте министерство его, которое дерзновение принять не что иное побудило меня, как всеподданнейшая рабская моя ревность к службе и искренняя усердность к высочайшим вашим интересам, по предусматриванию, что от продолжения при Порте прусского министерства для оных ваших интересов впредь разные неудобства быть могут, чему уже и неоспоримые доказательства являться начинают». По донесению Обрезкова, Фридрих II писал Порте, что по причине медленности ее заключением с ним союза он был принужден помириться с Россиею; несмотря на то, однако, он имеет истинное, точное и непоколебимое намерение сохранять дружбу с Портою и во всем поступать по ее советам.
Получив указ объясниться с Портою относительно диверсии ее против Австрии, Обрезков писал, что Порта не только не готова к такому предприятию, но и едва ли о том серьезно когда-нибудь думала. При этом Обрезков уведомлял, что 20 мая у министров Порты было рассуждение, заключать ли союз с прусским королем, и решено: заключить союз, но постановить, что его действие не простирается на настоящую войну, а только на будущее время; узнав же о тесном союзе Пруссии с Россиею и о посылке с русской стороны на помощь Фридриху II вспомогательного корпуса, Порта отложила заключение союза и на этом условии, приняв выжидательное положение.
Так произошла внезапная, резкая, решительная перемена в политике России. Мы видели, какое впечатление произвела эта перемена в различных государствах Европы, смотря по тому как она относилась к их интересам; теперь взглянем, какое впечатление она произвела внутри России.
После Петра Великого, после сокрушения могущества Швеции, русские люди привыкли считать себя безопасными со стороны Запада, где нечего было бояться ни от слабой Швеции, ни от слабой Польши, где союз с Австриею обеспечивал со стороны Турции, где самым главным врагом России считалась отдаленная Франция, не могшая, однако, враждовать непосредственно, могшая вредить только интригами, подкупами: борьба с Франциею ограничивалась борьбою дипломатическою. Но в конце первой половины XVIII века эта безопасность со стороны Запада исчезла: здесь вдруг выдвинулась на первый план Пруссия, игравшая до тех пор второстепенную роль; знаменитый король ее, искуснейший полководец времени, не разбирал средств для усиления своего государства захватом чужих областей; Швеция, Польша, Турция вошли в круг деятельности Фридриха II, и везде интересы его необходимо сталкивались с русскими. Россия приняла деятельное участие в союзе, составленном для сокращения сил прусского короля. Война выказала еще более эти силы, выказала вместе с тем необходимость со стороны союзников не уставать в преследовании своей цели, и Россия действовала неутомимо, несмотря на все внутренние и внешние препятствия. Цель великих усилий и пожертвований достигалась, Фридрих II доведен был до последней крайности – и в эту самую минуту вдруг все переменяется. Эта перемена не была торжеством известной стороны, которая держалась совершенно противоположных взглядов и теперь воспользовалась переменою царствующего лица для проведения этих взглядов; не было русских людей, которые сочувствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдержать его в непосредственных интересах отечества. Русские люди, бесспорно, тяготились продолжительной войною и желали мира, но мира честного, и этот честный мир был уже в руках, дожидаться его было недолго: награда за всю кровь, за все пожертвования была готова. Новый император возбудил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если бы явился вооруженным посредником в умирении Европы, если бы, признавая по примеру английского министерства необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям противников, в то же самое время умерил бы эти требования. Сам Фридрих сознавал необходимость уступок с своей стороны, что ясно видно из его инструкции Гольцу; он готов был уступить России Восточную Пруссию, заявляя желание получить вознаграждение с другой стороны (очень вероятно, что он имел в виду западную, польскую Пруссию, которая дала бы ему возможность удержать титул прусского короля, и понятно опасение, возникшее между поляками, что соглашение между Россиею и Пруссиею произойдет насчет Польши). Фридрих II хотел стать в то же положение, в какое при конце своего поприща становился Карл XII относительно Петра Великого, уступая России все ее завоевания, с тем чтоб Россия помогла ему получить еквивалент в другом месте. Но что имел право сделать Петр I, раздраженный неприязненными поступками своих союзников, на то не имел права Петр III относительно союзников России в Семилетнюю войну. На одно имел он право – в случае сильных препятствий к мирному соглашению отказаться от своей доли вознаграждения от Пруссии, ибо хотя великодушие в политике обыкновенно не приносит плодов, но было бы удовлетворено чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лишнем клочке нерусской земли. Но сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитою в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого; мир, заключенный с Пруссиею, никому не представлялся миром честным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения – Остерман, Миних, Бирон – были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили! Иностранный посланник заправляет русскою политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное. И хотя бы такою страшно дорогою ценою куплен был мир? Но одна война кончилась для того, чтоб начать другую. Какую, зачем? Затем, что русский государь не мог решиться быть только русским государем.
К чести тогдашних русских людей, стоявших наверху, надобно сказать, что они не могли помириться с новым положением дел, исключая очень немногих ничтожностей, как, например, «голубицу» Фридриха II Андрея Гудовича. Затруднительнее других было положение великого канцлера графа Мих. Лар. Воронцова, потому что при перемене внешней политики на него были обращены глаза всех, его требовали к ответу: зачем не противодействует своими советами, представлениями, зачем соглашается, подписывает свое имя под актами, возбуждающими всеобщее негодование? Воронцов все это чувствовал, ему слышались эти страшные вопросы; но, во-первых, у него недоставало твердости характера и выдающихся способностей для борьбы, затрудняло его и расстройство денежных дел, наконец, болезненное состояние, невозможность постоянно следить за делами, противодействовать чуждым влияниям. Несмотря на то, Воронцов боролся сколько мог. В записке об отношениях России к другим державам, поданной императору 23 января, Воронцов говорил: «Российский императорский двор принял в войне против короля прусского участие по двум причинам: первая состояла в том, чтоб умножившуюся чрез меру силу сего государя, которая всем соседним дворам становилась страшною, возвратить для будущей безопасности в умеренные пределы и отворить себе в европейские, а особливо имперские, дела путь и ближайшую инфлюенцию, которые по натуральному своему интересу старался король прусский затруднять явным образом, наипаче же не допустить его до новых завоеваний, следственно, при уменьшении сил соседов его и до вящего приращения; а другая (причина) происходила от принятых с венским двором общих обязательств». В заключение записки, упомянув, что едва ли Аугсбургский конгресс может теперь повести к миру, Воронцов продолжает: «Вашему импер. величеству предоставлена от всевышнего провидения слава совершить к общему благополучию сие великое дело. Россия чувствует тягость войны, но меньше других: не претерпела она во внутренних своих провинциях опустошения и не знает, каковы бывают следы неприятельского нашествия. От высочайшей вашего импер. величества воли зависит употребить к поспешествованию мира те способы, кои вы сами избрать изволите; но должности моей дело представить, что нужно весьма объявить союзным дворам о правилах, по каким ваше величество впредь систему империи вашей учредить намерены. Многажды оказывали они все, что искренне желают мира, да нельзя им оного не желать, когда последние истощаются способы к продолжению войны, но желают прочного и удовлетворительного. Не меньше надобен мир Англии и королю прусскому. Первая изнурила себя при всех своих успехах жертвованием ужасных сумм, от которых народный кредит, все богатство ее составляющий, одним ударом невозвратно потрястись может; а король прусский видит большую часть земель своих разоренными почти вконец. Трудность состоит в том, как согласовать множество толь разнствующих интересов; но нужда заставит каждого уменьшать свои требования и довольствоваться чем ни есть малым вместо того, чтоб, гонясь за мечтами, доводить себя до крайности и совершенного изнеможения».
Представления канцлера не могли быть приняты: в них указывалось на необходимость для России принять участие в Семилетней войне для сдержания прусского короля, в них советовалось принять вооруженное посредничество и склонить всех умерить свои требования, тогда как было решено заставить всех отказаться от своих требований и удовлетворить требованиям одного – короля прусского. Для достижения этой цели мешала противная елисаветинская Конференция, начавшая и поддерживавшая с таким постоянством борьбу против Фридриха II; ее члены и теперь не откажутся от своих мнений. 29 января объявлен указ о небытии Конференции и о принятии из нее дел частью в Сенат, частью в Иностранную коллегию. Воронцов счел своею обязанностью представить о рановременности этой меры, облекая это представление в самые льстивые формы: «Достойно и праведно превозносить с благоговением монаршее в. и. в. намерение, прямо великого самодержца достойное, чтоб все дела управлять собственным вашим трудом и руководствовать вашим просвещением. В сем рассуждении не настоит действительно никакой надобности продолжать Конференцию или учредить другой совет, и я крайне удален что-либо такое вашему величеству представлять, что бы противно было монаршему намерению все дела своим трудом управлять. Но, почитая главною и существительною всеподданнейшею должностью содействовать сему великодушному о пользе и славе империи вашей попечению, обязанным себя нахожу всеподданнейше представить: 1) что генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли, что систему или совсем новую принять, или же во многом переменить надобно будет. Сию новую систему составить, ни одной пользы не пропустить, а все то предусмотреть, что следствии вредного произвести могут, и все распоряжения согласно тому учредить не может ни Сенат, ни Иностранная коллегия. Паче же 2) когда пойдут дела на переписках между Сенатом и коллегиями, то секрет подвержен во. многих руках великой опасности, а дела промедлению, а притом и то легко случиться может, что между разными местами произойдут от неясности разные мнения, от того несогласия, а от несогласия разногласные в. и. в-ству доклады». Из этого канцлер выводил необходимость или продолжить Конференцию, или учредить какой-нибудь тому подобный совет с прежними или другими членами. Воронцов решился даже защитить старую Конференцию: «Я почти наперед уверить смею, что чрез краткое время конференция прилежными трудами и ревнительным исполнением монаршей вашей воли удостоится высочайшей апробации и доверенности, как я и теперь пред в. и. в. по чести и с чистою совестью справедливо засвидетельствовать могу, что управление ее по сию пору делами было всегда руководствовано истинным и усердным о пользе государственной попечением и патриотическою к в. в. верностью, да и не сделано опять здешнему двору ни от кого нарекания, но паче служило к приобретению оному у всех дворов почтения». Это патриотическое заявление о патриотической верности Конференции уничтожало действие фимиама, воскуренного в начале доклада; Конференция не была восстановлена, и совет с самым неопределенным характером был учрежден только 20 мая, а между тем новая система установлялась под руководством прусского министра Гольца.
Уже было упомянуто, что расстройство в денежных делах увеличивало печальное положение канцлера. В марте он был принужден подать императору просьбу: «Я теперь более 200000 рублей долгу на себе имею, и не остается мне другого способа, как всенижайше просить в. и. в., дабы из великодушия и особливой ко мне милости высочайше повелеть изволили дом мой со всеми уборами в казну взять с заплатою из Монетной канцелярии или Медного банка 250000 рублей (которые по истинной цене новой монеты сочиняют только 62500 рублев), а ежели неугодно будет дом мой за оную цену взять, то повелеть из Медного банка без процентов выдать мне взаймы 300000 рублев. Довольно понимаю я, всемилостивейший государь, что в настоящих обстоятельствах казна в. в. великие расходы иметь должна, но когда ныне при счастливом вашем царствовании всемогущий Бог Европе драгоценный мир ниспосылает, следовательно, и все чрезвычайные в государстве издержки прекратятся, а по возвращении армии и расточенные многие миллионы в Россию возвратиться имеют, то и полагаюсь я с совершенною надеждою на сродное в. и. в. милосердие, что сие мое всеподданнейшее прошение милостиво услышать соизволите».
Затруднительные денежные обстоятельства заставляли Воронцова держаться своего места, хотя он чувствовал, что со степени канцлера низошел на степень правителя Канцелярии иностранных дел, заготовляющего бумаги по требованиям, объявленным ему Гольцем или принцем Георгием голштинским. Воронцов видел себя принужденным подчиниться требованию Петра, чтоб не смел поперечить ему в прусских делах. Но иногда горечь положения становилась нестерпимою, и в одну из таких минут Воронцов писал Петру: «Несчастное состояние чрез продолжение долговременной моей болезни и слабости лишает меня удовольствия видеть часто дражайшие очи в. и. в. и получать монаршие ваши повеления, равно как и по званию чина и должности моей иметь счастье по делам докладывать в. в-ству. Сие несчастное для меня состояние мне крайнюю печаль приносит, что я как по верности и усердной моей ревности, так паче по преданности моей к собственной персоне в. в-ства и к службе вашей не могу надлежаще, как я желаю, должность мою исполнить и принужден чрез пересылку и чрез третьи руки в. в-ству доклады чинить, подвергаясь тем некоторому неприятному истолкованию и гневу, как и в самом деле случилось, якобы в. и. в-ству чрез господина Волкова донесено, что я предприятия ваши против Дании химерическими поставлял, когда я говорил, что рановременным походом нашей армии без заготовления довольных магазейнов в пути в Германии и без готовых в наличности великих сумм денег, без подкрепления сильного флота и без помощи короля прусского или какой-либо другой державы сей поход был бы совсем бесплоден и к невозвратному убытку и бесславию последовал, что и ныне по совести и верности моей к в. в-ству иного сказать не могу. В. и. в. повелели мне поступать согласно с мнением вашим в рассуждении склонности вашей к его в-ству королю прусскому. Мое наиглавнейшее правило было и ныне есть, да и впредь будет – исполнять во всем волю моих самодержцев, в чем я и ни малейше не преступаю. В. и. в. соизволите быть совершенно уверены, что я ни к какой державе ни малейшей предилекции не имел и ныне не имею, а что касается до мирного трактата с е. в. королем прусским, я доныне о содержании его никакого сообщения и сведения не имею и не знаю ни воли, ни намерения вашего, на каких кондициях оный постановлен и заключен быть имеет. Впрочем, я с крайнею горестию слышал отзыв ваш, якобы я к Франции предан был. Сие мне смертельную печаль наносит; ежели в. в. о верности моей к вам и отечеству сумнения иметь изволите, я, конечно, не достоин ни единого часа в звании чина моего остаться; сего ради, припадая к стопам вашим, всенижайше прошу от сего напрасного нарекания и горестной печали меня освободить и буде, по несчастью и паче чаяния моего, какое-либо сомнение, ненадежность или неугодность в продолжение моей службы в. в. иметь изволите, то всенижайше прошу пожаловать меня милостиво уволить и дать мне свободу остальное время страждущей моей жизни в тишине и покое препроводить, нелишая меня, но паче обнадежа монаршею в. в. протекциею, которую я при сохранении репутации моей внутри и вне отечества почту себе за верх благополучия моего, предпочитая всякому видимому награждению и многим сокровищам. Я не могу и не умею лицемерить и льстить, а хочу и стараюсь в. в-ству служить с честью и славою, равно как с доброю верою и правдою, и в сих сентиментах до конца жизни моей пребуду, и, ежели иногда завидующие мне и недоброжелательные какие-либо внушения против меня в. в-ству учинили, всенижайше прошу для оправдания моего мне немедленно дать знать. Что же касается до данного мне вчера повеления говорить английскому министру Кейту о присылке нынешним летом в диспозицию вашу английского флота, я при первом свидании с г. Кейтом говорить буду; токмо в. в. с английским двором союзного трактата не имеете, и что Англия, будучи ныне в двойной войне против Франции и Гишпании, не в состоянии да и без взаимных себе от вас авантажей не похочет прислать некоторое число кораблей, к тому же, сколько мне известно, Англия уже декларовала, что в имеющихся распрях между в. и. в-ством и королем датским участия принимать не будет, то сие требование может подвержено быть неприятному отказу, а о сем деле испрашиваю я дальнейшего повеления».
Подле великого канцлера видим и вице-канцлера князя Александра Мих. Голицына, перемещенного в последнее время елисаветинского царствования из Лондона; но если и канцлер не знал о важнейших делах внешней политики, то тем менее знал об них вице-канцлер. В последнее время елисаветинского царствования канцлеру помогал Ив. Ив. Шувалов, которого мы видим и участвующим в конференциях с иностранными послами. Но при Петре III Шувалов должен был потерять всякое влияние по противоположности тех начал в политике, которые он проводил в свое время, с началами, господствовавшими теперь. Ему предоставлена была скромная в то время деятельность в заведовании учебными заведениями; и тут он должен был обращаться к Волкову за советом, как ему лучше сделать императору необходимые по устройству вверенных ему учреждений представления, причем должен был выставлять важное значение этих учреждений. «Вы лучше меня знаете, – писал он Волкову, – что счастье государства состоит в том, когда все части, его образующие, направляются стройно и определенно. Я поручаю вашей благосклонности две из таковых частей, которые в образованный век составляют славу и честь народов, – именно науки и искусства. В моем заведовании находится университет и Академия (художеств), и мне нужны правила, мне нужны инструкции».
Ив. Ив. Шувалов признал необходимым для себя, для своей славы быть бескорыстным и не искать почестей; в одном из своих писем он говорит, что отказался от звания вице-канцлера и от земель, которые предлагал ему Петр III, приводит в свидетели Гудовича, как он, Шувалов, на коленях умолял императора избавить его от всех знаков милости. Но он не мог быть доволен, потерявши всякое влияние, на которое считал себя вправе по своим нравственным средствам; он не мог быть доволен, когда система, которой он так ревностно служил, была ниспровергнута, когда все пошло таким образом, что беда грозила России внутри и унижения извне. Шувалов высказал свое неудовольствие; тогда с ним перестали обращаться с прежнею благосклонностью, и Шувалов счел нужным держать себя в отдалении от двора и от особы императора. Пруссаки Гольц и Шверин произвели Шувалова в главы заговора. «Первый и самый опасный человек здесь, – писал Шверин Фридриху II, – это Ив. Ив. Шувалов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живущий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором, однако так хорошо умел уладить свои дела посредством друга своего генерала Мельгунова, любимца императора, что государь поручил ему Кадетский корпус и главный надзор за дворцом – должности, которые делают пребывание его в столице необходимым, тогда как это самый вредный и опасный человек! Этот господин не умеет притворяться и скрывать недостойные и позорные замыслы, питаемые им в сердце. Бешенство и негодование написаны на его лице, и я готов прозакладывать что угодно, что у негодяя страшные планы в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мельгунов, он, пожалуй, был бы еще опаснее первого, если бы был так же умен. Император совершенно ему доверился, а между тем этот человек вместе с господином Иваном Ивановичем и еще одним, Волковым, – самые главные его враги и ждут только первого удобного случая, чтоб лишить его престола. Я пространно говорил об этом с императором и даже назвал имена опасных лиц, но его величество отвечал, что знает о неблагонамеренности этих людей, но он дал им столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах и потому он безопасен с этой стороны. Очень прискорбно, что этот государь так поблажает этим господам, которые живут одною мыслию, как бы его погубить, а чрез удаление этих негодяев он мог бы сидеть на престоле совершенно покойно. Но, как нарочно, он готов дать им самый благоприятный случай, которым они, конечно, как можно скорее воспользуются: император решился принять лично начальство над войском, назначенным против датчан».
Итак, Ив. Ив. Шувалов – глава заговора, по уверению Гольца и Шверина, он ждет только удаления Петра из России, чтоб свергнуть его: ясно, что если Петр непременно хочет уехать, то нельзя оставлять без него Шувалова в Петербурге. Петр сам говорит Шувалову: «Прусский король мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Шувалов мог подумать, что это к нему вовсе не относится, но вслед за тем Петр чрез Мельгунова велел сказать Шувалову, чтоб он следовал за ним в армию в качестве волонтера.
Ив. Ив. Шувалов не мог быть главою заговора, потому что не был способен к этому по своей природе; но важно то, что Гольц и Шверин говорят о его сильном неудовольствии, которого он не мог скрыть, говорят о бешенстве и негодовании, написанном на его лице. Но еще важнее то, что Гольц и Шверин считают заговорщиками и Мельгунова с Волковым и этим вполне подтверждают показания Волкова относительно ненависти к нему пруссаков и принца Георгия. «Принц Георгий, – говорит Волков, – озлобился на меня столько ж, как Гольц, буде не больше, будучи наущаем и с другой стороны Хорватами и Глебовыми, и до того дошел, что 9 июня, будучи пьян, следовательно, откровенен и искренен, обвинил меня ненавистью к немцам, уграживая доказать мне, как дважды два четыре, что я тот человек, который составил проект выгнать из России всех немцев, и сему странному происшествию, а моей на весь день горести был весь двор свидетель».
Пруссаки ничего не говорят о Глебове, вероятно потому, что он не имел влияния на иностранные дела. Два главных дельца – Волков и Глебов – были в ссоре и старались вредить друг другу. Смотря по тому, что Глебов при перемене правительства остался в прежнем значении, нельзя думать, чтоб его считали очень довольным при Петре; да и трудно было кому-нибудь быть довольным при анархии, когда не было никакой силы, на которую можно было бы опереться, когда, захвативши удобную минуту, можно было провести какое-нибудь дело, но это дело разделывалось другим в следующую минуту. Таким образом, люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России.
К неудовольствию отдельных лиц присоединялось неудовольствие могущественных сословий – духовенства, войска. Резкое, крутое решение вопроса о церковных имуществах возбудило сильное негодование духовенства. Гольц доносил своему государю 25 мая: «Духовенство подало императору представление на русском и латинском языках, где жалуется на насилия и странные поступки с собою вследствие указа об отобрании церковных имуществ; таких поступков духовенство не могло ожидать и от варварского правительства, а теперь принуждено терпеть их от правительства православного, и это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага, подписанная архиепископами и многими из духовенства, составлена в чрезвычайно сильном тоне, это не просьба, а скорее протест против государя. Донесения, полученные вчера и третьего дня от воевод отдаленных областей, говорят о старании духовенства подустить народ против монарха. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры предпринять, а потому требуют наставлений от правительства». Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что причины их были другие, и потому можем не принимать второй половины Гольцева известия, но первую не принять трудно. Когда Петр был великим князем, то выражал свое нерасположение к русскому духовенству ребяческим образом – высовыванием языка священникам и дьяконам во время богослужения. Но теперь дело пошло сериознее. 26 марта был дан императором такой указ Синоду: «Уже с давнего времени к нашему неудовольствию, а к общему соблазну примечено, что приходящие в Синод на своих властей или епархиальных архиереев челобитчики по долговременной сперва здесь волоките наконец обыкновенно без всякого решения к тем же архиереям отсылаются на рассмотрение, на которых была жалоба, и потому в Синоде или не исполняется существительная оного должность, или же, и того хуже, делается одна только потачка епархиальным начальникам, так что в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных. Приложенные при сем челобитные Черниговской епархии священника Бордяковского и диакона Шаршановского суть новое и неоспоримое тому доказательство, ибо, несмотря на данные Синоду еще с 1754 года именные указы о решении их дела, не исполнены потому и доныне, а только отсылаются они на рассмотрение в ту же епархию. Мы видим, какие тому причины могут быть поводом, но оные соблазнительнее еще самого дела. Кажется, что равный равного себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего ради повелеваем Синоду чрез сие стараться крайним наблюдением правосудия соблазны истребить и не только по сим двум челобитным немедленное решение здесь сделать, но и всегда по подобным здесь же решить, нашим императорским словом чрез сие объявляя, что малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление, а сей указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в Синоде к настольным указам присовокупить». Для наблюдения, чтоб не было неправильностей в ходе дел, в Синоде был обер-прокурор; обер-прокурору нужно было сделать строгое внушение, сменить его, если он не исполнял своих обязанностей, или поддерживать его в борьбе с членами коллегии, когда он ратовал против «нарушения истины», в оскорбительных же указах не было никакой нужды.
Черное духовенство было раздражено внезапным отнятием монастырских вотчин, белое – повелением брать в военную службу священнических и дьяконских сыновей; а тут раздраженным дается средство передавать свое раздражение и другим. Упомянув о некоторых постановлениях нового царствования, возбудивших удовольствие, русский современник говорит: «Но последовавшие затем другие распоряжения императора возбудили сильный ропот и негодование в подданных, и более всего то, что он вознамерился было переменить совершенно религию нашу, к которой оказывал особенное презрение. Он призвал первенствующего архиерея (новгородского) Димитрия Сеченова и приказал ему, чтоб в церквах оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других бы не было, также чтоб священники обрили бороды и носили платье, как иностранные пасторы. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Димитрий. Этот благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такого неожиданного повеления, и усматривал ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство. Он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту». Домовые церкви были запечатаны. Писатель иностранный, сочувствующий Петру, выставляет все неблагоразумие распоряжения относительно выноса икон из церкви, прибавляя, что Димитрий Сеченов за протест против этой меры был удален, но скоро опять возвращен из страха пред народным неудовольствием.
К неудовольствию духовенства присоединялось неудовольствие войска. Одним из первых дел нового царствования было распущение елисаветинской лейб-кампании. Уничтожение этой «гвардии в гвардии», разумеется, могло возбудить только удовольствие, если бы на месте старой русской лейб-кампании не увидали тотчас же новой, только иностранного происхождения, голштинской гвардии, пользовавшейся явным предпочтением императора, что и возбуждало сильнейшее неудовольствие в русской гвардии. Первенствующее значение в войске получил иностранный принц Георг голштинский, не имевший никаких заслуг и постаравшийся тотчас же своим характером и поступками возбудить против себя ненависть. Сам Гольц должен был потом сознаться пред Фридрихом II, что принц Георгий много содействовал возбуждению сильной ненависти против немцев и ускорил падение своего государя. Опять, как во времена Бирона, стали говорить, что гвардии придет скоро конец, что ее распределят по армейским полкам; Петр, будучи еще великим князем, часто говаривал, что гвардейцы, живя в своих казармах с семействами, точно держат резиденцию в осаде и будут опасны правительству; Петр называл гвардейцев янычарами. При таких основных причинах неудовольствия все не нравилось, все возбуждало ропот: роптали на перемену формы, на частое и долгое ученье по новому, прусскому образцу. Русский современник-очевидец так говорит о неудовольствии в войске и его причинах: «Негодование во многих произвел и число недовольных собою увеличил он, Петр, и тем, что с самого того часа, как скончалась императрица, не стал уже он более скрывать той непомерной приверженности и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил портрет его на себе в перстне беспрерывно, и другой, большой, повешен был у него подле кровати. Он приказал тотчас сделать себе мундир таким покроем, как у пруссаков, и не только стал сам всегда носить оный, но восхотел и всю гвардию свою одеть таким же образом; а сверх того, носил всегда на себе и орден прусского короля, давая ему преимущество пред всеми российскими. А всем тем не удовольствуясь, восхотел переменить и мундиры во всех полках и вместо прежних одноцветных зеленых поделал разноцветные, узкие и таким покроем, каким шьются у пруссаков оные. Наконец, и самым полкам не велел более называться по-прежнему по именам городов, а именоваться уже по фамилиям своих полковников и шефов; а сверх того, введя уже во всем наистрожайшую военную дисциплину, принуждал их ежедневно экзерцироваться, несмотря, какая бы погода ни была, и всем тем не только отяготил до чрезвычайности все войска, но и, огорчив всех, навлек на себя, и особливо от гвардии, превеликое неудовольствие».
Вельможи, старики, имевшие почетное место в гвардии, должны были подчиниться новым порядкам, если не хотели навлечь на себя неудовольствия и насмешек императора. Известный Болотов, приехавший в это время в Петербург, так описывает впечатление, произведенное на него проходившим отрядом гвардии: «Шел тут строем деташемент гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры, и маршировал церемониею. Но ничто меня так не поразило, как идущий пред первым взводом низенький и толстенький старичок с своим эспантоном и в мундире, унизанном золотыми нашивками, со звездою на груди и голубою лентою под кафтаном и едва приметною. „Это что за человек?“ – спросил я. „Как! разве вы не узнали? Это князь Никита Юрьевич Трубецкой!“ – „Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью ног отягощенным стариком, что, как говорили, он затем и во дворец, и в Сенат по нескольку недель не ездил, да и дома до него не было почти никому доступа?“ „О! – отвечали мне. – Это было вовремя оно; а ныне, рече Господь, времена переменились, ныне у нас больные, и небольные, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошохонько топчут и месят грязь, как солдаты"“. Старший Разумовский, Алексей Григорьевич, избавился от подобного положения увольнением от всех должностей, но младший, гетман Кирилла, должен был держать у себя на дому молодого офицера, который давал ему уроки в новой прусской экзерциции, и все же не спасался от выговоров и насмешек Петра III, и говорили, что император находил особенное удовольствие смеяться над Разумовским, не способным по природе к военным упражнениям.
Много веселых минут доставляли императору также придворные дамы, которых он заставил переменить старый русский поклон на французское приседание; многие дамы, особенно старухи, никак не умели приловчиться к приседанию, и комическое положение их при этом доставляло Петру величайшее удовольствие: он наблюдал за ними и потом передразнивал. «Я была очень смешлива, – рассказывала потом одна знатная дама-современница, – государь, бывало, нарочно смешил меня разными гримасами. Он не похож был на государя».
Сильное неудовольствие распространялось в Петербурге; но и в местах отдаленных не могли не заметить, что в правительственной машине какое-то расстройство. В начале царствования государь велел перевести Мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург; но потом опять указ: «Хотя и повелели е. и. в. Мануфактур-коллегию из Москвы взять сюда, а там контору оставить, но как все фабрики или в Москве, или поблизости от оной и здесь так мало, что и ни в какое против того сравнение поставить нельзя, следовательно, Мануфактур-коллегия, будучи здесь, имела бы, так сказать, заочное за своею должностью смотрение, то повелеваем коллегию паки немедленно к Москве возвратить; а здесь по-прежнему контору оставить». 9 января именным указом уничтожены полицеймейстеры в городах, полиция поручена губернским провинциальным и воеводским канцеляриям, а 22 марта именным же указом полицеймейстеры восстановлены.
И в местах отдаленных видели расстройство в правительственной машине; в Петербурге видели, отчего происходит это расстройство. Вследствие детской слабости характера Петр быстро перенимал все у людей, среди которых обращался, к которым привязывался. Пристрастившись к голштинским офицерам, заключившись в их обществе, Петр перенял казарменные привычки и грубый кутеж сделал своим любимым препровождением времени. При императрице Елисавете о табаке не было слышно во дворце, потому что она терпеть его не могла, и сам Петр сначала не мог его терпеть; но как скоро увидал, что голштинцы, которых он считал образцовыми людьми, героями, курят, то и начал курить. Когда прежний наставник его Штелин изумился, увидав его в первый раз с трубкою за пивом, то Петр сказал ему: «Чему ты удивляешься, глупая голова! Разве ты видал хотя одного настоящего бравого офицера, который бы не курил?» За пивом последовало и вино. «Всеобщие негодования, – по словам современника-очевидца Болотова, – увеличились еще более, когда стали рассеиваться повсюду слухи и достигать до самого подлого народа, что государь не успел вступить на престол, как предался публично всем своим невоздержностям и совсем неприличным такому великому монарху делам, и что он не только с графиней Воронцовою, как с публичною своею любовницею, препровождал почти все свое время, но, сверх того, в самое еще то время, когда скончавшаяся императрица лежала в дворце еще во гробе, целые ночи провождал с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршествах и питье, приглашая иногда к тому таких людей, которые нимало не достойны были сообщества и дружеского собеседования с императором, как, например, италиянских театральных певиц и актрис вкупе с их толмачами; а что всего хуже, разговаривая на пиршествах таковых въявь обо всех и обо всем и даже о самых величайших таинствах и делах государственных… Голос у него был очень громкий, скоросый и неприятный, и было в нем нечто особое и такое, что отличало его так много от всех прочих голосов, что можно было его не только слышать издалека, но и отличать от всех прочих. Болотов был адъютантом главного начальника полиции генерала Корфа (Николая), ездил с ним во дворец и наблюдал издали, что там происходило за обедами и ужинами. „Мы, – говорит он, – могли всегда в растворенные двери слышать, что государь ни говорил с другими, а иногда и самого его и все деяния видеть. Но сие было для нас удовольствием только сначала, а впоследствии времени скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы таковые разговоры до нашего слуха и не достигали; ибо как редко стали уже мы заставать государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского пива, до которого он был превеликий охотник, уже опорожнившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда пред иностранными министрами, видящими и слышащими то и, бессомненно, смеющимися внутренно. Истинно, бывало, вся душа так поражается всем тем, что бежал бы неоглядкою от зрелища такового: так больно было все то видеть и слышать. Но никогда так много не поражался я досадными зрелищами таковыми, как в то время, когда случалось государю езжать обедать к кому-нибудь из любимцев и вельможей своих и куда должны были последовать все те, к которым оказывал он отменное свое благоволение, как, например, и генерал мой, и многие другие, а за ними и все их адъютанты и ординарцы. Табун, бывало, целый поскачет вслед за поехавшими, и хозяин успевай только всех угащивать и потчевать. Одни только трубки и табак приваживали мы с собою из дворца свои. Ибо как государь был охотник до курения табака и любил, чтоб и другие курили, а все тому натурально в угодность государю и подражать старались, то и приказывал государь всюду, куда ни поедет, возить с собою целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими табаками, и не успеем куда приехать, как и закурятся у нас несколько десятков трубок и в один миг вся комната наполнится густейшим дымом, а государю то было и любо, и он, ходючи по комнате, только что шутил, хвалил и хохотал. Но сие куда бы уже ни шло, если б не было ничего дальнейшего и для всех россиян постыднейшего. Но то-то и была беда наша! Не успеют, бывало, сесть за стол, как и загремят рюмки и покалы, и столь прилежно, что, вставши из-за стола, сделаются иногда все, как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладицы и несообразности сущие. А однажды, как теперь вижу, дошли до того, что, вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут, на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки; ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей. А по сему судите, каково ж нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга наземь валяющих? Хохот, крики, шум, биение в ладоши раздавались только всюду, а покалы только что гремели“.
У русских людей сердце обливалось кровью от стыда пред иностранными министрами. Эти иностранные министры в донесениях своим дворам оставили единогласные свидетельства о неприличии пирушек Петра III, возбуждавших сильное неудовольствие в народе. Об этом неудовольствии приведем слова того же очевидца: «Ропот на государя и негодование ко всем деяниям и поступкам его, которые, чем далее, тем становились хуже, не только во всех знатных с часу на час увеличивалось, но начинало делаться уже почти и всенародным, и все, будучи крайне недовольными заключенным с пруссаками перемирием и жалея о ожидаемом потерянии Пруссии, также крайне негодуя на беспредельную приверженность государя к королю прусскому, на ненависть и презрение его к закону, на крайнюю холодность, оказываемую к государыне, его супруге, на слепую его любовь к Воронцовой иначе всего на оказываемое потому более презрение ко всем русским и даваемое преимущество пред ними всем иностранцам, а особливо голштинцам, отважились публично и без всякого опасения говорить, и судить, и рядить все дела и поступки государевы. Всем нам тяжелый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно, и как со всяким днем доходили до нас о том неприятные слухи, а особливо когда известно сделалось нам, что скоро с прусским королем заключится мир и что приготовлялся уже для торжества мира огромный и великолепный фейерверк, то нередко, сошедшись на досуге, все вместе говаривали и рассуждали мы о всех тогдашних обстоятельствах и начали опасаться, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, и особливо от огорченной до крайности гвардии».
Мы видели, что посланцы Фридриха II Гольц и Шверин скоро заметили сильное неудовольствие и дали знать о нем своему государю, выставляя самыми опасными для Петра людьми Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова. Они были уверены и уверяли короля, что эти люди воспользуются отъездом Петра к армии по поводу датской войны и произведут восстание. Поэтому они стали уговаривать императора не ездить, уверяя, что его присутствие в России необходимо для блага империи; но Петр отвечал, что он изумляется их словам, которые доказывают ему только одно, что они его не любят. Тогда они обратились к Фридриху II, и Шверин писал королю 8 апреля: «Никто в мире, кроме в. в., не может отвратить императора от этого опасного путешествия. Письмо от в. в., в котором вы посоветуете ему остаться в России, заставит его переменить намерение. Он наверное последует вашему совету, потому что питает к в. в. совершенное доверие».
Гольц 2 мая писал королю о том же, выставляя необходимость для Петра прежде похода короноваться. Но 4 мая (н. ст.) Фридрих уже писал Петру: «Признаюсь, мне бы очень хотелось, чтоб в. в. уже короновались, потому что эта церемония производит сильное впечатление на народ, привыкший видеть коронование своих государей. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским. Всякий другой народ благословлял бы небо, имея государя с такими выдающимися и удивительными качествами, какие у в. в. (eminentes et admirables qualites); но эти русские, чувствуют ли они свое счастье, и проклятая продажность какого-нибудь одного ничтожного человека разве не может побудить его к составлению заговора или к поднятию восстания в пользу этих принцев Брауншвейгских? Припомните, в. и. в., что случилось в первое отсутствие императора Петра I, как его родная сестра составила против него заговор! Предположите, что какой-нибудь негодяй с беспокойной головой начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол этого Ивана, составит заговор с помощью иностранных денег, чтоб вывести Ивана из темницы, подговорить войско и других негодяев, которые и присоединятся к нему; не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома? Эта мысль привела меня в трепет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль в. и. в. Я здесь, в глубине Германии, я вовсе не знаю вашего двора, ни тех, к которым в. в. может иметь полную доверенность, ни тех, кого можете подозревать; поэтому вашему великому разуму принадлежит различить, кто предан и кто нет; я думаю одно, что если в. в. угодно принять начальство над армиею, то безопасность требует, чтоб вы прежде короновались, и потом, чтоб вы вывезли в своей свите за границу всех подозрительных людей. Таким образом, в. в., будете обеспечены; для большей безопасности надобно заставить также всех иностранных министров следовать за вами, этим вы уничтожите в России все семена возмущения и интриги, а чтоб все эти господа не были вам в тягость, вы можете всегда их отправить в Росток, или Висмар, или в какое-нибудь другое место позади армии, чтоб они не могли передавать датчанам ваших планов. Я не сомневаюсь также, что вы оставите в России верных надсмотрщиков, на которых можете положиться, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за всем наблюдать и предупреждать малейшее движение».
Что же отвечал Петр? «В. в. пишете, что, по вашему мнению, я должен короноваться прежде выступления в поход именно по отношению к народу. Ноя должен вам сказать, что так как война почти начата, то я не вижу возможности прежде короноваться точно так же по отношению к народу; коронация должна быть великолепна, по обычаю, и я не могу сделать великолепной коронации, не имея возможности ничего вскорости здесь найти. Что касается Ивана, то я держу его под крепкою стражею, и если бы русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей, предавая себя в защиту господа Бога, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет. В. в.! что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной земле? Русские, которые всегда желали одного – быть под властью государя, а не женщины; двадцать раз я сам слышал от солдат моего полка: „Дай Бог, чтоб вы скорее были нашим государем, чтоб не быть нам больше под властью женщины“. Но что всего важнее: я никогда не прощу себе этой подлой трусости, я умру с тоски от мысли, что я, будучи первым принцем моего дома, остался в бездействии, когда велась война для возвращения того, что было несправедливо отнято у его предков, и в. в. много потеряли бы из своего уважения ко мне, если бы я это сделал».
Таким образом, отъезд к армии был решен, несмотря даже на отсоветования Фридриха II. Последний главнокомандующий армиею граф Бутурлин был отозван в Петербург еще при жизни Елисаветы. Он ехал оправдываться пред государынею, которая хотя и была согласна с Конференциею насчет ошибок его, но все же он мог рассчитывать на милостивый прием, как видно из письма его к Ив. Ив. Шувалову: «Я в моей горести единое утешение имею, когда от в. п-ства милостивое письмо удостоюсь получить, как и сегодня от 17 сентября принял с моим вечным благодарением, а наипаче к сердечному моему обрадованию, что я еще в числе верных рабов у е. и. в. нахожусь и что по милости Конференции давно бы меня на свете не было. Сперва не только величали меня и ублажали паче мер моих, а ныне живого во гроб вселяют и поют: Святый Боже! Моего промедления нигде и никогда промедление не было напрасное. Вступитесь за верного раба е. в.; еще ныне получил, к обиде моей, чтобы и Ангюринова отдал графу Румянцеву, кой у меня один и есть и все секретные дела на него положены, а я остался один писарем и копиистом. Я не чаял бы такой жестокой обиды от его высокородия Волкова». Бутурлин не застал в живых Елисаветы; он на дороге получил рескрипт нового императора, в котором обнадеживался в непременной милости и благоволении. Граф Фермор 19 февраля был вовсе уволен от службы. Главное начальство над заграничною армиею поручено было графу Петру Семен. Солтыкову. Но уже при Елизавете по распоряжениям относительно Бутурлина было ясно видно, что старые главнокомандующие не будут более действовать, ибо Семилетняя (для России пятилетняя) война выказала молодые способности. Между ними первое место принадлежало покорителю Кольберга графу Петру Александр. Румянцеву. Понятно, что и Петр, замыслив датскую войну, последовал общему указанию и поручил ему кампанию. Февраль месяц Румянцев пробыл в Петербурге, вызванный туда императором, и в начале марта, заручившись дружбою первого дельца по всем частям Волкова, отправился к своему корпусу в Померанию для приготовлений к походу. 21 мая отправлены были ему наставления считать войну с Данией не только неизбежною, но и действительно объявленною и потому спешить утвердиться в Мекленбурге, прежде чем датчане туда войдут. Наставление было отправлено с большою тайною, но один приятель показал копию с него Гольцу, и тот остался очень недоволен, потому что пруссаки надеялись, что дело уладится или оттянется Берлинским конгрессом. «Излишне указывать в. в-ству, – писал Гольц королю, – на коварство составителя этого указа относительно конгресса и непоследовательность, которая обнаруживается в каждом слове; приказание устроить магазины в Ростоке и Висмаре и особенно ввести армию в Мекленбург в высшей степени странно, по моему мнению. Не надобно приписывать этого е. и. в-ству, потому что решение состоялось иначе в совете; виноват г. Волков, который осмелился дать ему такую окончательную форму. Император утаил от меня это приказание. В. в-ство усмотрите, как это мне неприятно, что при всех милостях и доверии императора ко мне противная партия может заставить его скрыть от меня самые важные дела, которые в. в-ство должны знать прежде всякого другого». Между тем принц Георг голштинский настоятельно убеждал Гольца упросить Фридриха II, чтоб тот уговорил Петра не ездить к армии. «Вам хорошо известно, – сказал ему на это Гольц, – как е. и. в-ство отвечал королю на подобные советы: он отвечал, что лучше его знает внутреннее состояние своей страны, что уверен в преданности своих подданных и что его слава требует отъезда к армии. После такого ответа я, конечно, уже не решусь просить короля, моего государя, повторить те же самые свои советы императору. Зачем так поспешили обнародовать об отъезде императора, зачем дали знать министрам иностранным, чтоб они следовали за ним? Теперь я уже не вижу, как может император остаться без потери своего достоинства после всех этих разглашений: в Европе увидят, что причиною такой перемены намерения было опасение каких-нибудь волнений в стране вследствие отсутствия государя». Принц продолжал толковать о дурном состоянии войска, назначаемого в поход, о недостатке денег и съестных припасов. «Два месяца, – отвечал Гольц, – я толкую с вами и с самим императором, что надобно принять меры против этого, если уже война казалась ему неизбежною, что нечего грозиться задавить датчан, если еще нет уверенности, что все готово; мне постоянно отвечали, что все приготовления сделаны, тогда как я хорошо знал, что нет. Видя, наконец, что мои представления ни к чему не служат и могут только навлечь на меня гнев е. и. в-ства, я замолчал; теперь, зная дурное состояние дел, надобно обречь себя на неудачную войну, которой можно было избежать переговорами».
До получения инструкции 21 мая Румянцев находился в сильном беспокойстве: его мучила мысль, что войны не будет, что ему не удастся отличиться блестящим походом. Получив инструкцию, он писал Волкову из Кольберга 8 июня: «Правда, что мое смущение немало было и на время большое, что я от вас, моего вселюбезного друга, не получал никакого ответа. Я уже отчаял вовсе быть для меня делу каковому-либо; ныне же, получа всеприятнейшее ваше письмо со обнадеживанием вашей дружеской милости продолжения и с подтверждением мне наибесценнейшей милости и благоволения, я столь больше обрадован: вы знаете, что всякий ремесленник работе рад. Дай Боже только, чтоб все обстоятельства соответствовали моему желанию и усердию, то не сумневаюсь, что я всевысочайшую волю моего великого государя исполню. В полковники и штабс-офицеры я доклад подал. Правда, что умедлил маленько, да и разбор мой велик был, я все притом соблюл, что мне только можно было для пользы службы, я тех, кои не из дворян и не офицерских детей, вовсе не произвел: случай казался мне наиспособнейший очиститься от проказы, чрез подлые поступки вся честь и почтение к чину офицерскому истребились».
Но вслед за этим письмом, выражавшим радость ремесленника, добывшего себе работу, Румянцев принужден был посылать совсем другие донесения императору; он писал, что недостаток съестных припасов приводит его в крайнее отчаяние, а, с другой стороны, пруссаки вместо помощи затрудняют его своими требованиями возвращения померанских мест. Но последние донесения Румянцева уже не застали Петра на престоле.
В июне месяце «время было шаткое и самое критическое: опасались, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, а особливо от огорченной до крайности гвардии». Но в чье же имя могло произойти восстание? Фридрих II указывал соперника Петру в человеке, который прежде Петра носил титул императора всероссийского и который теперь томился в Шлюссельбургской крепости. Петр отвечал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею. Через неделю после своего восшествия на престол, 1 января, Петр, командируя на смену известного нам Овцына капитана гвардии князя Чурмантеева «для караула некоторого важного арестанта в Шлюссельбургской крепости», дал ему указ: «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». В инструкции Чурмантееву, подписанной граф. Александром Шуваловым, говорилось: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». Вслед за тем от 11 января Чурмантеев получил секретнейший указ: «Без нашего указа того арестанта никуда не перевозить и никому не отдавать, а когда соизволение наше будет в какое другое место арестанта перевесть, тогда прислан будет наш генерал-адъютант князь Голицын или генерал же адъютант барон фон Унгерн с именным указом за подписанием собственной нашей руки, а окроме оных, хотя б кто и с именным указом за подписанием собственной руки нашей приехал и стал требовать арестанта, тому не верить и, задержав под караулом, писать для донесения нам к нашему генерал-фельдмаршалу графу Шувалову». Того же числа отправлен был секретнейший указ шлюссельбургскому коменданту Бередникову, чтоб допустил Голицына или Унгерна, и если прикажут Чурмантееву с арестантом и его командою из крепости выехать, то не воспрещать.
Приведенное предписание прямо указывает на желание императора взять на некоторое время Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и подтверждает известие, что узник действительно был привозим в Петербург, где Петр его видел. Это свидание должно было происходить 22 марта, потому что в этот день Чурмантеев получил указ: «К колоднику имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта барона Унгерна и с ним капитана Овцына, а потом и всех тех, которых барон Унгерн пропустить прикажет». Между «всеми теми» должен был находиться и сам император. 24 марта другой указ Чурмантееву: «Арестант после учиненного ему третьего дня посещения легко получить может какие-либо новые мысли и потому новые вранья делать станет. Сего ради повелеваю вам примечание ваше и находящегося с вами офицера Власьева за всеми словами арестанта умножить, и, что услышите или нового приметите, о том со всеми обстоятельствами и немедленно ко мне доносите. Петр. PS. Рапорты ваши имеете отправлять прямо на мое имя».
1 апреля Унгерн опять был допущен к Ивану. 3 апреля заведование делами шлюссельбургского арестанта было взято от гр. Александра Шувалова и поручено Нарышкину, Мельгунову и Волкову вследствие общего распоряжения, по которому все дела, ведавшиеся прежде в Тайной канцелярии, переходили к упомянутым трем лицам. Вместе с тем к узнику были приставлены новые офицеры: премьер-майор Жихарев и капитаны Уваров и Батюшков.
Петр писал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею и потому нечего опасаться; он мог убедиться теперь, что несчастный Иван не может быть опасным соперником и по состоянию своих умственных способностей. То, что прежде известно было очень немногим, сохранявшим глубочайшую тайну, то теперь вследствие свидания Петра при свидетелях должно было распространиться в кругу более обширном, и английский посланник Кейт имел возможность сообщить своему двору совершенно верные известия об Иване Антоновиче. Император, писал Кейт, видел Ивана III и нашел его физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями. Речь его была бессвязна и дика. Он говорил, между прочим, что он не тот, за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят на небо, но он хочет сохранить притязания особы, имя которой он носит.
Поэтому попытка произвести переворот во имя правнука царя Иоанна Алексеевича против внука Петра Великого могла произойти только от людей темных, не имевших соприкосновения с высшими сферами; для другого же рода людей было одно средство: не прерывая наследственной линии, заменить отца сыном – средство, с одной стороны, легкое, ибо сын, великий князь Павел Петрович, был еще ребенок, и потому не могло быть никаких столкновений с его волею, с его сыновними отношениями; но, с другой стороны, малолетство того, в чье имя должно было происходить движение, отнимало вождя у движения, отнимало у этого движения единство, силу, стройность, отнимало твердость у его последствий, ибо надобно было искать другого вождя, из подданных, и как было его найти? Надобно было иметь дело со многими, с партиями. Поэтому естественно и необходимо внимание всех обращалось на императрицу Екатерину, которая уже давно была известна и славна противоположностью своего поведения с поведением мужа, давно была известна и славна своими блестящими способностями, своим обворожительно ласковым обращением, своим вниманием ко всему достойному внимания, своим уважением к русским людям и ко всему, что им было дорого; только от ее влияния на мужа можно было ожидать хорошего, но этого влияния не было; самое близкое лицо явилось самым далеким, супруга была отвергнута, отвергнут был совет и разум; Екатерина подвергалась явным оскорблениям; она страдала вместе с русскими людьми, и крепкий союз образовался между ними и ею. Фридрих II, получавший очень неудовлетворительные известия из Петербурга, думал сначала, что Екатерина будет иметь большое влияние на дела, и только 7 марта прусский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу, что, по точнейшим сведениям, Екатерина не имеет никакого влияния и может произойти только вред, если к ней обращаться, притом она вовсе и не так благосклонна к Пруссии, как сам император. Но французский посол Бретейль еще с 31 декабря 1761 года начал писать своему двору о печальном положении Екатерины. «В день поздравления с восшествием на престол, – доносил он, – на лице императрицы была написана глубокая печаль; ясно, что она не будет иметь никакого значения, и я знаю, что она старается вооружиться философиею, но это противно ее характеру. Император удвоил внимание к графине Воронцовой. Надобно признаться, что у него странный вкус: она неумная, что же касается наружности, то трудно себе представить женщину безобразнее ее: она похожа на трактирную служанку. Императрица находится в самом жестоком положении, с нею обходятся с явным презрением. Она неравнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтоб Екатерина (я знаю ее отважность и страстность) рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но, если она потребует, они пожертвуют всем для нее. Императрица приобретает всеобщее расположение. Никто усерднее ее не выполнял обязанностей относительно покойной императрицы, обязанностей, предписываемых греческим исповеданием; духовенство и народ этим очень тронуты и благодарны ей за это. Она наблюдает с точностию праздники, посты, все, к чему император относится легкомысленно и к чему русские неравнодушны. Наконец, она не пренебрегает ничем для приобретения всеобщей любви и расположения отдельных лиц. Не в ее природе забыть угрозу императора заключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою первую жену. Все это вместе с ежедневными унижениями должно страшно волновать женщину с такою сильною природою и должно вырваться при первом удобном случае. Императрица сильно предается горю и мрачным мыслям; люди, ее видающие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет и скоро сойдет в могилу». Это последнее известие было написано в начале апреля, и в начале июня Бретейль доносил: «Императрица обнаруживает мужество: она любима и уважаема всеми в той же степени, как Петр ненавидим и презираем».
Эта хроника вскрывает нам лучше всего страшное положение Екатерины в шесть месяцев, от 25 декабря 1761 до 28 июня 1762 года; она указывает нам эти переходы от мрачных мыслей к отчаянию, разрушительно действующему на здоровье, и от отчаяния к твердости, когда надежда на избавление усиливалась и когда надобно было ободрять своих приверженцев. Екатерина говорит, что эти приверженцы со дня смерти императрицы Елисаветы внушали ей о необходимости отстранить Петра и самой стать в челе правления, но что она начала склоняться на их представления с того дня, когда Петр публично нанес ей страшное оскорбление. Во время празднования мира с Пруссиею за торжественным обедом император предложил три тоста: 1) здоровье императорской фамилии, 2) здоровье короля прусского, 3) за сохранение счастливого мира, заключение которого праздновалось. Когда Екатерина выпила за здоровье императорской фамилии, Петр велел Гудовичу, стоявшему сзади его кресел, пойти спросить императрицу, зачем она не встала, когда пили первый тост, Екатерина отвечала, что императорская фамилия состоит только из троих членов, из ее супруга, сына и ее самой, и потому она не понимает, почему нужно вставать. Когда Гудович передал этот ответ, Петр снова велел ему подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово, ибо она должна знать, что двое его дядей, принцы голштинские, принадлежат также к императорской фамилии; но, боясь, чтоб Гудович не ослабил выражения, император сам закричал Екатерине бранное слово, которое и слышала большая часть обедавших. Императрица сначала залилась слезами от такого оскорбления, но потом, желая оправиться, обратилась к стоявшему за ее креслом камергеру Александру Серг. Строганову и попросила его начать какой-нибудь забавный разговор для рассеяния, что Строганов и исполнил.
Но дело не кончилось одним оскорблением. В тот же вечер император приказал своему адъютанту князю Борятинскому арестовать Екатерину. Борятинский, испуганный этим приказанием, не торопился его выполнить и, встретив принца Георгия голштинского, рассказал ему о поручении, полученном от императора. Тот бросился к Петру и уговорил его отменить приказание. Приказание было отменено, но никто не мог поручиться, что оно не будет повторено, ибо приказания отдавались по первой вспышке, по первому внушению, сделанному в пользу или во вред известного лица, и Екатерина начинает слушать предложения своих приверженцев. Кто же были эти приверженцы?
Мы видели, что Шверин и Гольц указывали на Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова как на самых опасных людей, ждущих первого удобного случая для отнятия у Петра престола. Но Фридрих II должен был убедиться, как обманулись его министры в своих наблюдениях. «Лица, – пишет он, – на которых смотрели как на заговорщиков, всего менее были виновны в заговоре. Настоящие виновники работали молча и тщательно скрывались от публики». Было, однако, время, когда Ив. Ив. Шувалов предлагал Екатерине свои услуги. В одной из записок о событиях своего времени Екатерина рассказывает, что пред кончиною императрицы Елисаветы Ив. Ив. Шувалов обратился к Никите Ив. Панину, говоря, что «иные клонятся, отказав и выслав из России великого князя Петра с супругою, сделать правление именем сына их Павла Петровича, которому был тогда седьмой год, что другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать с сыном и что все единодушно думают, что Петр не способен. Панин ответствовал, что все сии проекты суть способы к междоусобной погибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий неможно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Панин, – продолжает Екатерина, – о сем мне тотчас дал знать, сказав мне притом, что больной императрице если б представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему благодаря Богу ее фавориты не приступили, но, оборотя все мысли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милости Петра III, в коем отчасти и предуспели».
Записка эта, написанная, разумеется, позднее события, может быть и очень поздно, требует некоторого объяснения. Выражение «благодаря Богу» очень понятно: если бы фавориты приступили к удалению Петра Федоровича от престола, то императором был бы провозглашен великий князь Павел Петрович и Екатерина не царствовала бы; кроме того, неспособность Петра не была еще так очевидна, как после шестимесячного его царствования, и удаление его могло бы повести к тому, что выставил в своем ответе Панин. «Фавориты не приступили», потому что Шувалов от Панина услышал решительный отказ в содействии великой княгини и ее приверженцев их плану. Быть может, отказ этот был и неискренний; Панин счел нужным обезопасить себя этим отказом, он мог заподозрить предложение, исходившее от неприязненных ему людей; что Панин не успокоился на своем ответе, доказательством служит то, что он имел с Екатериною разговор о предложении и внушал о возможности со стороны Елисаветы согласиться на удаление Петра. О своем ответе Панину на это внушение Екатерина нам не говорит. Может быть, положено было ждать нового предложения от «фаворитов». Но последние, получив резкий отказ, не сочли более нужным и безопасным повторять свое предложение, а может быть, не имели уже для того и времени и, отвергнутые Екатериною, должны были обратиться к Петру. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, они имели печальное удовольствие видеть, какие страдания должна была терпеть Екатерина за отвергнутые их предложения. Быть может, теперь они ждали от нее предложения. Но дело начато было без них, было и кончено без них.
Шувалов перед смертью Елисаветы обращался к Панину с предложением изменить порядок престолонаследия, и это показывает нам важное значение Панина. В царствование Елисаветы мы имели часто случай говорить о его деятельности в Швеции, где он был посланником. Носились слухи, что он был удален в Швецию вследствие придворной интриги, удален Шуваловыми, которые хотели отстранить в нем соперника Ив. Ив. Шувалову. Если это правда, то, разумеется, здесь должно было залечь основание вражды его к Шуваловым, и преимущественно к Ив. Ивановичу. Но и без этого были другие сильные причины вражды. Тесно связанный с канцлером Бестужевым, будучи, можно сказать, его воспитанником, Панин в довольно долгое пребывание свое в Стокгольме ревностно проводил бестужевскую систему, борясь дипломатически с господствовавшим в Швеции французским влиянием. Панин воспитался, окреп в этой борьбе, ненависть к Франции, необходимость борьбы с нею стали его политическим символом веры. И вдруг ему велят переменить политику, собственно говоря, велят переродиться, действовать заодно с французским посланником. Но мы знаем очень хорошо, что сделать это русскому посланнику в Стокгольме было страшно тяжко: ему нужно было бросить своих друзей и подчиниться французскому посланнику, который по своим средствам, теперь еще более усилившимся, не хотел и не мог уступить русскому посланнику равного с собою значения. Чем самостоятельнее, сильнее духовными средствами был русский посланник, тем тягостнее становилось ему его положение. Панин не вытерпел, протестовал; но мы видели, какой реприманд получил он за этот протест. Оскорбленный выговором, удрученный своим невыносимым положением, Панин приписывал все эти беды Шуваловым, их обвинял в сближении с Франциею. Скоро покровитель его, Бестужев, был свержен, что также Панин приписывал Шуваловым и Воронцову, которого и прежде считал своим врагом. Теперь Воронцов стал заведовать иностранными делами при помощи или, лучше сказать, под влиянием Ив. Ив. Шувалова; Панину не было возможности более оставаться на дипломатическом поприще, и он был отозван из Швеции. Но мы видели, что Елисавета не любила отнимать деятельность у людей, выдававшихся своими способностями и образованностью, и бывший посланник в Швеции получил важное место воспитателя великого князя Павла Петровича. Этото новое значение Панина, предполагавшее необходимо большое доверие к нему Елисаветы и в то же время приводившее его в сношения с Екатериною, которая не могла не сочувствовать ему как близкому человеку к А. П. Бестужеву, – это-то значение Панина и заставило Шувалова обратиться к нему по вопросу о возведении на престол великого князя Павла по удалении отца его из России.
Обращение не имело последствий; Петр III вступил на престол и оправдал опасения тех, которые не ждали от его правления ничего хорошего. Панину было тяжело более других. Правда, к Франции последовало сильное охлаждение; но дело шло не о французских отношениях, когда внешнею политикою России заправлял прусский посланник Гольц, а где дело делалось мимо Гольца, так это именно только там, где желания Гольца совпадали с русскими интересами, т. е. в делах датских. Кроме общих для всех русских людей причин к неудовольствию у Панина были особые причины. Он не мог поддерживать своего значения, ибо по своему образу мыслей, по своим привычкам он не мог быть в приближений у Петра III, принимать участия в его забавах; по своей флегматической, жаждущей физического спокойствия природе Панин, более чем кто-либо, не выносил капральства, введенного Петром, за что последний резко обнаруживал против него свое неудовольствие. В донесении Гольца Фридриху II от 30 марта находится любопытное известие относительно Панина: «Е. и. в. с удовольствием соглашается на желание в. в-ства включить Швецию в мирный договор. Он мне сказал по секрету, что пошлет туда Панина, воспитателя великого князя. Это человек очень способный, и потому не может быть сомнения в успехе переговоров». Итак, Панину грозила опасность отправиться в Швецию и хлопотать там, согласно с требованием Пруссии, о восстановлении самодержавия, против чего он, находясь прежде в Швеции, ратовал всеми средствами. Но делать нечего, пришлось бы отправиться и в Швецию, ибо в России он мог потерять свое значение воспитателя великого князя наследника престола: громко говорили, что Петр намерен развестись с женою, заточить ее, намерен отвергнуть и сына. От характера Петра и от следствий образа жизни, который он вел, всего можно было ожидать: раз уже велел он арестовать Екатерину, в другой раз и заступничество принца Георга не поможет. Одинаковость интересов, естественно, сближала Панина с Екатериною, которая могла рассчитывать на его согласие на перемену, могла быть уверена, что при перемене найдет в нем человека, готового служить ей добрым советом, способного помочь ей в трудных обстоятельствах, но этим все и должно было ограничиться: Панин по своему характеру и образу мыслей не мог принять непосредственного участия в движении, направленном к перемене, тем менее мог стать во главе его.
Панин не был в приближении у Петра III; но и между людьми, пользовавшимися особенным расположением императора, Екатерина знала несколько лиц, на которых могла положиться при движении, которые так или иначе заявили ей о своей преданности. Это были генерал-фельдцейхмейстер Вильбуа, генерал-прокурор Глебов, князь Михаил Никитич Волконский, племянник бывшего канцлера Бестужева, уже известный нам на дипломатическом и военном поприще, директор полиции Николай Корф. Одни из этих лиц побуждались патриотизмом, другие, видя, что при всеобщем неудовольствии дело неминуемо должно кончиться дурно для Петра, спешили заранее стать под то знамя, которому принадлежало торжество. Но из тогдашней знати Екатерина более всех должна была надеяться на гетмана графа Кирилла Разумовского, который жил тогда в Петербурге и пользовался, по-видимому, расположением императора. Но это расположение не препятствовало ему питать прежнюю преданность к Екатерине; если она так рассчитывала на эту преданность шесть лет тому назад, то имела основание рассчитывать и теперь. Приближение к Петру не могло повредить этой преданности, ибо мимо всех других побуждений никто из приближенных к этому государю не мог рассчитывать на следующую минуту, и шел слух, что Петру хочется наградить малороссийским гетманством своего любимца Гудовича. Вместе с гетманом Разумовским к услугам Екатерины был и его наставник Теплов, безнравственный, смелый, умный, ловкий, способный хорошо говорить и писать. Ревность Теплова в пользу перемены правления усиливалась еще тем, что он по приказу императора сидел уже в крепости за нескромные слова. Из официального известия об отношениях Теплова к правительству в описываемое время до нас дошел любопытный указ Петра III от 23 марта: «Всемилостивейше пожаловали мы статского советника и нашего голштинского двора камергера Григория Теплова за известную нам его к службе ревность в наши действительные статские советники, которому повелеваем быть в отставке по-прежнему».
Но понятно, что, как бы ни было много людей, желавших перемены, и как бы ни были сильны средства этих людей, они не могли тронуться, начать дело без помощи гвардии. Гвардия была недовольна; но надобно было сосредоточить и направить это неудовольствие, сделать его готовым выразиться при первом удобном случае. Екатерина нашла два орудия, способные действовать в этом смысле, и одним из этих орудий была молодая, осьмнадцатилетняя женщина княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, родная сестра фаворитки. Лишившись в младенчестве матери, графиня Екатерина Воронцова была воспитана в доме дяди своего канцлера Михаила Ларионовича. Получивши средства в изучении иностранных языков, преимущественно французского, живая и способная девочка бросилась пользоваться этими средствами, тем более что в окружавших ее не находилось людей, которые бы заняли ее чувство и ум, привлекли к себе. Не находя по себе живых людей, она со всею страстностью своей натуры предалась чтению: Бэль, Монтескье, Буало и Вольтер были прочитаны, что повело к рановременному развитию. Эта образованность и страсть к чтению сблизили Екатерину Романовну с другою образованнейшею женщиною в России, такою же усердною читательницею Бэля, Монтескье и Вольтера, – великою княгинею Екатериною Алексеевною. «Многие из друзей моего дяди, – говорит Дашкова, – описали меня великой княгине молодою девушкою, которая посвящала все свое время науке; уважение, которым она удостоила меня впоследствии, очевидно, проистекло из этого пристрастного описания; взаимно великая княгиня внушила мне энтузиазм и преданность, заставившие меня броситься в сферу деятельности, о которой я так мало тогда думала, и имели влияние на всю остальную мою жизнь. Я не побоюсь утверждать, что в то время, о котором говорю, в целой империи было только две женщины, великая княгиня и я, которые занимались серьезным чтением, и так как ее восхитительное обращение производило неотразимое влияние на тех, кому она хотела нравиться, то легко понять, как сильно было это влияние на молодое создание, как я, имевшее едва пятнадцать лет и столь способное подчиниться ему».
Легко понять также, что, насколько великая княгиня производила обаяния над молодою Екатериною Романовною, настолько великий князь отталкивал женщину, начитавшуюся Монтескье и Вольтера. Тщетно он обращался к сестре своей фаворитки с фразою, кем-нибудь ему продиктованною: «Вспомните, что гораздо лучше иметь дело с людьми грубыми, но честными, как ваша сестра и я, чем с умницами, которые высасывают сок апельсина и потом бросают корку». Екатерина Романовна не могла выносить общества и развлечений Петра Федоровича. «Любимое удовольствие великого князя, – говорит она, – состояло в том, чтоб курить табак с голштинцами. Эти офицеры были большею частью капралами и сержантами в прусской службе; это была сволочь, сыновья немецких сапожников. Вечера оканчивались балом и ужином в зале, убранной сосновыми ветками и носившей немецкое название в соответствии вкусу убранства и с фразеологиею, бывшею в моде у компании; компания эта в своих разговорах примешивала столько немецких слов, что необходимо было знание немецкого языка для избежания насмешек от нее. Иногда великий князь давал свои праздники в маленьком загородном доме недалеко от Ораниенбаума: здесь пунш, чай, табак и смешная игра campis служили развлечением. Какой поразительный контраст с духом, вкусом, здравым смыслом и приличием, царствовавшими на праздниках великой княгини!»
В то страшное время, когда все убедились, что Елисавете осталось немного дней жизни, княгиня Дашкова является ночью к Екатерине с вопросом: «Можно ли принять какие-нибудь меры предосторожности против грозящей опасности и отвратить гибель, готовую вас постигнуть? Ради Бога, положитесь на меня, я докажу, что достойна вашего доверия. Составили ли вы какой-нибудь план? Обеспечена ли ваша безопасность? Благоволите дать мне приказания и научить меня, что делать». «Я не составила никакого плана, – отвечала Екатерина, – я ничего не предприму и думаю, что мне остается одно: мужественно встретить события, какие бы они ни были. Поручаю себя всемогущему и на его покровительство полагаю всю мою надежду».
Новый император скоро усилил беспокойство Дашковой, начавши однажды говорить с нею тихо, отрывочными фразами, из которых, однако, нетрудно было понять, в чем дело; дело шло о том, чтоб удалить ее, как выражался Петр, разумея Екатерину, и на ее место возвести Романовну, как он обыкновенно называл Елизавету Воронцову. «Будьте к нам немножко повнимательнее, – говорил он Дашковой, – придет время, когда вы будете жалеть о том, что с таким пренебрежением обходились с своею сестрою; ваши интересы требуют, чтоб вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство».
У мужа Дашковой были товарищи, приятели между гвардейскими офицерами, капитаны Преображенского полка Пассек и Бредихин, майор Рославлев и брат его, капитан, оба в Измайловском полку. Все эти молодые офицеры были согласны с княгинею в необходимости произвести перемену в правительстве, и пылкая молодая женщина уже начала смотреть на себя как на главу заговора, долженствовавшего решить судьбу империи. Кроме Рославлевых она познакомилась еще с третьим офицером Измайловского полка, Ласунским, о котором ей сказали, что он имеет влияние на гетмана Разумовского: этого богача и любимца гвардии за щедрость Дашкова хотела привлечь на свою сторону, не зная, что уже опоздала. С Никит. Ив. Паниным она могла сноситься непосредственно, потому что он доводился ей дядя; она заговаривала с ним о необходимости перемены на престоле; Панин иногда соглашался с нею и прибавлял, что недурно было бы также установить правительственную форму на началах шведской монархии; но Дашкова сама признается, что ей нельзя было надеяться вдруг приобрести доверие такого благоразумного и расчетливого политика, как Панин.
Гораздо откровеннее с нею был любимый племянник Панина знаменитый впоследствии князь Николай Васил. Репнин. Однажды после пира в новом Зимнем дворце Репнин является ночью к Дашковой и с отчаянием говорит: «Все погибло, любезная кузина: ваша сестра получила Екатерининский орден, и мне предстоит опасность быть послану к королю прусскому министром, или, лучше сказать, лакеем». Мы видели, что опасения Репнина оправдались: он должен был ехать к Фридриху II.
Дашкова сознается, что когда после тревожного посещения Репнина она сериозно задумалась о своем деле, то все толки об исполнении дела, которые ей приходилось до сих пор слышать от своих соумышленников, показались ей или фантазиями, не могшими осуществиться, или замыслами без определенного принципа, без твердости и без средств к исполнению. Все были согласны в одном только, что отъезд императора к заграничной армии мог служить сигналом к движению. Видя, что оставалось еще много сделать, а решительное время приближалось, она обратилась к Панину, чтоб добиться от него наконец чего-нибудь определенного. Сцена была любопытная, потому что трудно себе представить большую противоположность, чем та, какая существовала между осторожным, медленным Паниным и его пылкою осьмнадцатилетнею племянницею. Молодая женщина начала с признания, что составлен заговор с целью произвести революцию. Панин выслушал внимательно и начал настаивать на соблюдении форм при таком событии, на необходимости участия Сената. Дашкова отвечала, что это было бы очень хорошо, да трудно сделать. Потом Панин начал настаивать, и Дашкова должна была ему уступить, чтоб не выставлять прав Екатерины на престол, а передать ей только регентство до совершеннолетия сына. Но более всего Панин выражал свое беспокойство насчет дальнейших следствий переворота, насчет возможности междоусобия. «Только начнем действовать, – возражала Дашкова, – и не найдется ни одного человека из ста, который бы не признал причиною события гибельных злоупотреблений, для уничтожения которых нет другого средства, кроме перемены царствующего лица». Наконец Дашкова объявила имена соумышленников: двое Рославлевых, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Борятинский и Орловы. Некоторых из этих соумышленников Дашкова никогда и не видывала; но Панин встревожился, как далеко она зашла без предварительных соглашений с императрицею. Дашкова отвечала, что она не могла сообщить Екатерине своих планов, потому что исход дела был еще сомнителен; такое сообщение могло поставить императрицу в затруднительное положение и подвергнуть бесполезной опасности. Из своего разговора с Паниным Дашкова заметила, что в нем не было недостатка в мужестве и в охоте присоединиться к ним, но его нерешительность происходила от незнания, как они должны были действовать.
Из рассказа Дашковой ясно видно, какого рода был этот заговор, главою которого она себя считала. Она знала о сильном всеобщем неудовольствии, сама близко видела причины этого неудовольствия, сама раздражалась и потому хорошо понимала раздражение других; говорила некоторым молодым офицерам о необходимости произвести перемены в пользу императрицы, способной, по общему убеждению, дать ручательство в лучшем будущем; молодые офицеры совершенно соглашались, называли и некоторых других молодых офицеров, которые также были согласны с ними, говорили, что надобно непременно исполнить замысел, как скоро император уедет к заграничной армии; Дашкова говорила с Паниным, и тот соглашался, что другого средства нет спасти Россию, но как сделать и какие будут последствия? Дашкова постоянно употребляет слово заговор, но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор. Дашковой очень хотелось привлечь гетмана Разумовского в единомыслие, для этого она то подговаривала офицера Ласунского, то внушала Панину, чтоб тот сблизился с Тепловым и посредством последнего действовал на гетмана; но о последствиях этих внушений она ничего не знала. Репнин уехал в Пруссию. По словам Дашковой, было известно, что новгородский архиепископ Димитрий Сеченов разделял ее мысли, хотя и не находился в числе соумышленников, чему препятствовало его высокое положение. Дядя мужа Дашковой князь Михайла Никит. Волконский рассказывал, что и в заграничной армии господствовало всеобщее неудовольствие, солдаты сердились, что их заставляют теперь сражаться против старой союзницы Марии-Терезии, в пользу короля прусского, на которого они привыкли смотреть как на заклятого врага, и для Дашковой было очевидно, что Волконский вполне готов помогать им. Мы не имеем никакого основания отвергать свидетельства Дашковой о собственной деятельности, ибо из них выходит одно, что она хотела перемены в пользу Екатерины и при удобном случае толковала о своем желании с некоторыми людьми, но этим все и ограничивалось. Ее свидетельства очень важны, ибо ей очень хочется преувеличить свою роль, выставить себя главою заговора, но из собственных ее слов выходит, что роль ее была очень невелика.
Иностранные описыватели июньских событий 1762 года преувеличили участие в них Дашковой, точно так же как преувеличили значение Одара, которого деятельность тесно связали с деятельностью Дашковой, не умея, однако, показать, в чем, собственно, состояло участие иностранца, не знавшего по-русски. Одар был родом пиемонтец; канцлер Воронцов определил его в Коммерц-коллегию, но здесь было ему служить неудобно по незнанию русского языка, и Дашкова предложила императрице взять его к себе в секретари, и у иностранных писателей он является в этом значении. Но Дашкова говорит, что Екатерина не взяла Одара в секретари, во-первых, потому, что иностранная переписка ее была очень ограниченна, а главное, потому, что, стараясь приобресть расположение русских, не хотела иметь при себе секретарем иностранца, и Одар был сделан управителем одного небольшого имения, принадлежавшего собственно императрице. Дашкова утверждает, что Одар никогда не был ее поверенным, что она редко его видала и вовсе не видала три последние недели перед переворотом. Мы не имеем никакого основания не верить словам Дашковой; но хотя сочинения иностранцев о России и русских событиях обыкновенно преисполнены ошибками, преувеличениями и смешениями всякого рода, однако нет права предполагать, что участия Одара в июньских событиях не было никакого, что оно выдумано им самим и с его хвастливых слов повторено иностранцами; по всем вероятностям, ловкий Одар был употребляем для сношения Екатерины с преданными ей лицами точно так, как в 1758 году для подобного же дела служил Екатерине итальянец-бриллиантщик Бернарди; но Дашковой было неизвестно, что императрица сносится мимо ее с своими приверженцами.
Дашковой были неизвестны непосредственные сношения Екатерины с человеком, который больше всех хлопотал в ее пользу в войске, – с Григор. Григор. Орловым. Артиллерийский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного Кадетского корпуса, участвовал в Семилетней войне и резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью; сильная молодая природа (Орлову было в описываемое время 27 лет) требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворения: и в устройстве веселостей для товарищей, и в масонской ложе, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которой грозила беда, бывшая бедой и целой России. Кроме Орлова с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии двадцатидвухлетний офицер Хитрово и семнадцатилетний унтер-офицер Потемкин «направляли все благоразумно, смело и деятельно».
К концу июня, по словам Екатерины, между соумышленниками в гвардии считалось до сорока офицеров и около 10000 рядовых. В этом числе не оказалось ни одного изменника; соумышленники разделялись на четыре группы, и вожди групп собирались для решений, настоящим же секретом владели трое братьев Орловых. Исполнение замысла отлагалось до отъезда Петра к заграничной армии; но было решено в случае открытия умысла собрать гвардию и провозгласить Екатерину царствующею императрицею.
Получив указ объясниться с Портою относительно диверсии ее против Австрии, Обрезков писал, что Порта не только не готова к такому предприятию, но и едва ли о том серьезно когда-нибудь думала. При этом Обрезков уведомлял, что 20 мая у министров Порты было рассуждение, заключать ли союз с прусским королем, и решено: заключить союз, но постановить, что его действие не простирается на настоящую войну, а только на будущее время; узнав же о тесном союзе Пруссии с Россиею и о посылке с русской стороны на помощь Фридриху II вспомогательного корпуса, Порта отложила заключение союза и на этом условии, приняв выжидательное положение.
Так произошла внезапная, резкая, решительная перемена в политике России. Мы видели, какое впечатление произвела эта перемена в различных государствах Европы, смотря по тому как она относилась к их интересам; теперь взглянем, какое впечатление она произвела внутри России.
После Петра Великого, после сокрушения могущества Швеции, русские люди привыкли считать себя безопасными со стороны Запада, где нечего было бояться ни от слабой Швеции, ни от слабой Польши, где союз с Австриею обеспечивал со стороны Турции, где самым главным врагом России считалась отдаленная Франция, не могшая, однако, враждовать непосредственно, могшая вредить только интригами, подкупами: борьба с Франциею ограничивалась борьбою дипломатическою. Но в конце первой половины XVIII века эта безопасность со стороны Запада исчезла: здесь вдруг выдвинулась на первый план Пруссия, игравшая до тех пор второстепенную роль; знаменитый король ее, искуснейший полководец времени, не разбирал средств для усиления своего государства захватом чужих областей; Швеция, Польша, Турция вошли в круг деятельности Фридриха II, и везде интересы его необходимо сталкивались с русскими. Россия приняла деятельное участие в союзе, составленном для сокращения сил прусского короля. Война выказала еще более эти силы, выказала вместе с тем необходимость со стороны союзников не уставать в преследовании своей цели, и Россия действовала неутомимо, несмотря на все внутренние и внешние препятствия. Цель великих усилий и пожертвований достигалась, Фридрих II доведен был до последней крайности – и в эту самую минуту вдруг все переменяется. Эта перемена не была торжеством известной стороны, которая держалась совершенно противоположных взглядов и теперь воспользовалась переменою царствующего лица для проведения этих взглядов; не было русских людей, которые сочувствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдержать его в непосредственных интересах отечества. Русские люди, бесспорно, тяготились продолжительной войною и желали мира, но мира честного, и этот честный мир был уже в руках, дожидаться его было недолго: награда за всю кровь, за все пожертвования была готова. Новый император возбудил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если бы явился вооруженным посредником в умирении Европы, если бы, признавая по примеру английского министерства необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям противников, в то же самое время умерил бы эти требования. Сам Фридрих сознавал необходимость уступок с своей стороны, что ясно видно из его инструкции Гольцу; он готов был уступить России Восточную Пруссию, заявляя желание получить вознаграждение с другой стороны (очень вероятно, что он имел в виду западную, польскую Пруссию, которая дала бы ему возможность удержать титул прусского короля, и понятно опасение, возникшее между поляками, что соглашение между Россиею и Пруссиею произойдет насчет Польши). Фридрих II хотел стать в то же положение, в какое при конце своего поприща становился Карл XII относительно Петра Великого, уступая России все ее завоевания, с тем чтоб Россия помогла ему получить еквивалент в другом месте. Но что имел право сделать Петр I, раздраженный неприязненными поступками своих союзников, на то не имел права Петр III относительно союзников России в Семилетнюю войну. На одно имел он право – в случае сильных препятствий к мирному соглашению отказаться от своей доли вознаграждения от Пруссии, ибо хотя великодушие в политике обыкновенно не приносит плодов, но было бы удовлетворено чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лишнем клочке нерусской земли. Но сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитою в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого; мир, заключенный с Пруссиею, никому не представлялся миром честным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения – Остерман, Миних, Бирон – были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили! Иностранный посланник заправляет русскою политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное. И хотя бы такою страшно дорогою ценою куплен был мир? Но одна война кончилась для того, чтоб начать другую. Какую, зачем? Затем, что русский государь не мог решиться быть только русским государем.
К чести тогдашних русских людей, стоявших наверху, надобно сказать, что они не могли помириться с новым положением дел, исключая очень немногих ничтожностей, как, например, «голубицу» Фридриха II Андрея Гудовича. Затруднительнее других было положение великого канцлера графа Мих. Лар. Воронцова, потому что при перемене внешней политики на него были обращены глаза всех, его требовали к ответу: зачем не противодействует своими советами, представлениями, зачем соглашается, подписывает свое имя под актами, возбуждающими всеобщее негодование? Воронцов все это чувствовал, ему слышались эти страшные вопросы; но, во-первых, у него недоставало твердости характера и выдающихся способностей для борьбы, затрудняло его и расстройство денежных дел, наконец, болезненное состояние, невозможность постоянно следить за делами, противодействовать чуждым влияниям. Несмотря на то, Воронцов боролся сколько мог. В записке об отношениях России к другим державам, поданной императору 23 января, Воронцов говорил: «Российский императорский двор принял в войне против короля прусского участие по двум причинам: первая состояла в том, чтоб умножившуюся чрез меру силу сего государя, которая всем соседним дворам становилась страшною, возвратить для будущей безопасности в умеренные пределы и отворить себе в европейские, а особливо имперские, дела путь и ближайшую инфлюенцию, которые по натуральному своему интересу старался король прусский затруднять явным образом, наипаче же не допустить его до новых завоеваний, следственно, при уменьшении сил соседов его и до вящего приращения; а другая (причина) происходила от принятых с венским двором общих обязательств». В заключение записки, упомянув, что едва ли Аугсбургский конгресс может теперь повести к миру, Воронцов продолжает: «Вашему импер. величеству предоставлена от всевышнего провидения слава совершить к общему благополучию сие великое дело. Россия чувствует тягость войны, но меньше других: не претерпела она во внутренних своих провинциях опустошения и не знает, каковы бывают следы неприятельского нашествия. От высочайшей вашего импер. величества воли зависит употребить к поспешествованию мира те способы, кои вы сами избрать изволите; но должности моей дело представить, что нужно весьма объявить союзным дворам о правилах, по каким ваше величество впредь систему империи вашей учредить намерены. Многажды оказывали они все, что искренне желают мира, да нельзя им оного не желать, когда последние истощаются способы к продолжению войны, но желают прочного и удовлетворительного. Не меньше надобен мир Англии и королю прусскому. Первая изнурила себя при всех своих успехах жертвованием ужасных сумм, от которых народный кредит, все богатство ее составляющий, одним ударом невозвратно потрястись может; а король прусский видит большую часть земель своих разоренными почти вконец. Трудность состоит в том, как согласовать множество толь разнствующих интересов; но нужда заставит каждого уменьшать свои требования и довольствоваться чем ни есть малым вместо того, чтоб, гонясь за мечтами, доводить себя до крайности и совершенного изнеможения».
Представления канцлера не могли быть приняты: в них указывалось на необходимость для России принять участие в Семилетней войне для сдержания прусского короля, в них советовалось принять вооруженное посредничество и склонить всех умерить свои требования, тогда как было решено заставить всех отказаться от своих требований и удовлетворить требованиям одного – короля прусского. Для достижения этой цели мешала противная елисаветинская Конференция, начавшая и поддерживавшая с таким постоянством борьбу против Фридриха II; ее члены и теперь не откажутся от своих мнений. 29 января объявлен указ о небытии Конференции и о принятии из нее дел частью в Сенат, частью в Иностранную коллегию. Воронцов счел своею обязанностью представить о рановременности этой меры, облекая это представление в самые льстивые формы: «Достойно и праведно превозносить с благоговением монаршее в. и. в. намерение, прямо великого самодержца достойное, чтоб все дела управлять собственным вашим трудом и руководствовать вашим просвещением. В сем рассуждении не настоит действительно никакой надобности продолжать Конференцию или учредить другой совет, и я крайне удален что-либо такое вашему величеству представлять, что бы противно было монаршему намерению все дела своим трудом управлять. Но, почитая главною и существительною всеподданнейшею должностью содействовать сему великодушному о пользе и славе империи вашей попечению, обязанным себя нахожу всеподданнейше представить: 1) что генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли, что систему или совсем новую принять, или же во многом переменить надобно будет. Сию новую систему составить, ни одной пользы не пропустить, а все то предусмотреть, что следствии вредного произвести могут, и все распоряжения согласно тому учредить не может ни Сенат, ни Иностранная коллегия. Паче же 2) когда пойдут дела на переписках между Сенатом и коллегиями, то секрет подвержен во. многих руках великой опасности, а дела промедлению, а притом и то легко случиться может, что между разными местами произойдут от неясности разные мнения, от того несогласия, а от несогласия разногласные в. и. в-ству доклады». Из этого канцлер выводил необходимость или продолжить Конференцию, или учредить какой-нибудь тому подобный совет с прежними или другими членами. Воронцов решился даже защитить старую Конференцию: «Я почти наперед уверить смею, что чрез краткое время конференция прилежными трудами и ревнительным исполнением монаршей вашей воли удостоится высочайшей апробации и доверенности, как я и теперь пред в. и. в. по чести и с чистою совестью справедливо засвидетельствовать могу, что управление ее по сию пору делами было всегда руководствовано истинным и усердным о пользе государственной попечением и патриотическою к в. в. верностью, да и не сделано опять здешнему двору ни от кого нарекания, но паче служило к приобретению оному у всех дворов почтения». Это патриотическое заявление о патриотической верности Конференции уничтожало действие фимиама, воскуренного в начале доклада; Конференция не была восстановлена, и совет с самым неопределенным характером был учрежден только 20 мая, а между тем новая система установлялась под руководством прусского министра Гольца.
Уже было упомянуто, что расстройство в денежных делах увеличивало печальное положение канцлера. В марте он был принужден подать императору просьбу: «Я теперь более 200000 рублей долгу на себе имею, и не остается мне другого способа, как всенижайше просить в. и. в., дабы из великодушия и особливой ко мне милости высочайше повелеть изволили дом мой со всеми уборами в казну взять с заплатою из Монетной канцелярии или Медного банка 250000 рублей (которые по истинной цене новой монеты сочиняют только 62500 рублев), а ежели неугодно будет дом мой за оную цену взять, то повелеть из Медного банка без процентов выдать мне взаймы 300000 рублев. Довольно понимаю я, всемилостивейший государь, что в настоящих обстоятельствах казна в. в. великие расходы иметь должна, но когда ныне при счастливом вашем царствовании всемогущий Бог Европе драгоценный мир ниспосылает, следовательно, и все чрезвычайные в государстве издержки прекратятся, а по возвращении армии и расточенные многие миллионы в Россию возвратиться имеют, то и полагаюсь я с совершенною надеждою на сродное в. и. в. милосердие, что сие мое всеподданнейшее прошение милостиво услышать соизволите».
Затруднительные денежные обстоятельства заставляли Воронцова держаться своего места, хотя он чувствовал, что со степени канцлера низошел на степень правителя Канцелярии иностранных дел, заготовляющего бумаги по требованиям, объявленным ему Гольцем или принцем Георгием голштинским. Воронцов видел себя принужденным подчиниться требованию Петра, чтоб не смел поперечить ему в прусских делах. Но иногда горечь положения становилась нестерпимою, и в одну из таких минут Воронцов писал Петру: «Несчастное состояние чрез продолжение долговременной моей болезни и слабости лишает меня удовольствия видеть часто дражайшие очи в. и. в. и получать монаршие ваши повеления, равно как и по званию чина и должности моей иметь счастье по делам докладывать в. в-ству. Сие несчастное для меня состояние мне крайнюю печаль приносит, что я как по верности и усердной моей ревности, так паче по преданности моей к собственной персоне в. в-ства и к службе вашей не могу надлежаще, как я желаю, должность мою исполнить и принужден чрез пересылку и чрез третьи руки в. в-ству доклады чинить, подвергаясь тем некоторому неприятному истолкованию и гневу, как и в самом деле случилось, якобы в. и. в-ству чрез господина Волкова донесено, что я предприятия ваши против Дании химерическими поставлял, когда я говорил, что рановременным походом нашей армии без заготовления довольных магазейнов в пути в Германии и без готовых в наличности великих сумм денег, без подкрепления сильного флота и без помощи короля прусского или какой-либо другой державы сей поход был бы совсем бесплоден и к невозвратному убытку и бесславию последовал, что и ныне по совести и верности моей к в. в-ству иного сказать не могу. В. и. в. повелели мне поступать согласно с мнением вашим в рассуждении склонности вашей к его в-ству королю прусскому. Мое наиглавнейшее правило было и ныне есть, да и впредь будет – исполнять во всем волю моих самодержцев, в чем я и ни малейше не преступаю. В. и. в. соизволите быть совершенно уверены, что я ни к какой державе ни малейшей предилекции не имел и ныне не имею, а что касается до мирного трактата с е. в. королем прусским, я доныне о содержании его никакого сообщения и сведения не имею и не знаю ни воли, ни намерения вашего, на каких кондициях оный постановлен и заключен быть имеет. Впрочем, я с крайнею горестию слышал отзыв ваш, якобы я к Франции предан был. Сие мне смертельную печаль наносит; ежели в. в. о верности моей к вам и отечеству сумнения иметь изволите, я, конечно, не достоин ни единого часа в звании чина моего остаться; сего ради, припадая к стопам вашим, всенижайше прошу от сего напрасного нарекания и горестной печали меня освободить и буде, по несчастью и паче чаяния моего, какое-либо сомнение, ненадежность или неугодность в продолжение моей службы в. в. иметь изволите, то всенижайше прошу пожаловать меня милостиво уволить и дать мне свободу остальное время страждущей моей жизни в тишине и покое препроводить, нелишая меня, но паче обнадежа монаршею в. в. протекциею, которую я при сохранении репутации моей внутри и вне отечества почту себе за верх благополучия моего, предпочитая всякому видимому награждению и многим сокровищам. Я не могу и не умею лицемерить и льстить, а хочу и стараюсь в. в-ству служить с честью и славою, равно как с доброю верою и правдою, и в сих сентиментах до конца жизни моей пребуду, и, ежели иногда завидующие мне и недоброжелательные какие-либо внушения против меня в. в-ству учинили, всенижайше прошу для оправдания моего мне немедленно дать знать. Что же касается до данного мне вчера повеления говорить английскому министру Кейту о присылке нынешним летом в диспозицию вашу английского флота, я при первом свидании с г. Кейтом говорить буду; токмо в. в. с английским двором союзного трактата не имеете, и что Англия, будучи ныне в двойной войне против Франции и Гишпании, не в состоянии да и без взаимных себе от вас авантажей не похочет прислать некоторое число кораблей, к тому же, сколько мне известно, Англия уже декларовала, что в имеющихся распрях между в. и. в-ством и королем датским участия принимать не будет, то сие требование может подвержено быть неприятному отказу, а о сем деле испрашиваю я дальнейшего повеления».
Подле великого канцлера видим и вице-канцлера князя Александра Мих. Голицына, перемещенного в последнее время елисаветинского царствования из Лондона; но если и канцлер не знал о важнейших делах внешней политики, то тем менее знал об них вице-канцлер. В последнее время елисаветинского царствования канцлеру помогал Ив. Ив. Шувалов, которого мы видим и участвующим в конференциях с иностранными послами. Но при Петре III Шувалов должен был потерять всякое влияние по противоположности тех начал в политике, которые он проводил в свое время, с началами, господствовавшими теперь. Ему предоставлена была скромная в то время деятельность в заведовании учебными заведениями; и тут он должен был обращаться к Волкову за советом, как ему лучше сделать императору необходимые по устройству вверенных ему учреждений представления, причем должен был выставлять важное значение этих учреждений. «Вы лучше меня знаете, – писал он Волкову, – что счастье государства состоит в том, когда все части, его образующие, направляются стройно и определенно. Я поручаю вашей благосклонности две из таковых частей, которые в образованный век составляют славу и честь народов, – именно науки и искусства. В моем заведовании находится университет и Академия (художеств), и мне нужны правила, мне нужны инструкции».
Ив. Ив. Шувалов признал необходимым для себя, для своей славы быть бескорыстным и не искать почестей; в одном из своих писем он говорит, что отказался от звания вице-канцлера и от земель, которые предлагал ему Петр III, приводит в свидетели Гудовича, как он, Шувалов, на коленях умолял императора избавить его от всех знаков милости. Но он не мог быть доволен, потерявши всякое влияние, на которое считал себя вправе по своим нравственным средствам; он не мог быть доволен, когда система, которой он так ревностно служил, была ниспровергнута, когда все пошло таким образом, что беда грозила России внутри и унижения извне. Шувалов высказал свое неудовольствие; тогда с ним перестали обращаться с прежнею благосклонностью, и Шувалов счел нужным держать себя в отдалении от двора и от особы императора. Пруссаки Гольц и Шверин произвели Шувалова в главы заговора. «Первый и самый опасный человек здесь, – писал Шверин Фридриху II, – это Ив. Ив. Шувалов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живущий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором, однако так хорошо умел уладить свои дела посредством друга своего генерала Мельгунова, любимца императора, что государь поручил ему Кадетский корпус и главный надзор за дворцом – должности, которые делают пребывание его в столице необходимым, тогда как это самый вредный и опасный человек! Этот господин не умеет притворяться и скрывать недостойные и позорные замыслы, питаемые им в сердце. Бешенство и негодование написаны на его лице, и я готов прозакладывать что угодно, что у негодяя страшные планы в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мельгунов, он, пожалуй, был бы еще опаснее первого, если бы был так же умен. Император совершенно ему доверился, а между тем этот человек вместе с господином Иваном Ивановичем и еще одним, Волковым, – самые главные его враги и ждут только первого удобного случая, чтоб лишить его престола. Я пространно говорил об этом с императором и даже назвал имена опасных лиц, но его величество отвечал, что знает о неблагонамеренности этих людей, но он дал им столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах и потому он безопасен с этой стороны. Очень прискорбно, что этот государь так поблажает этим господам, которые живут одною мыслию, как бы его погубить, а чрез удаление этих негодяев он мог бы сидеть на престоле совершенно покойно. Но, как нарочно, он готов дать им самый благоприятный случай, которым они, конечно, как можно скорее воспользуются: император решился принять лично начальство над войском, назначенным против датчан».
Итак, Ив. Ив. Шувалов – глава заговора, по уверению Гольца и Шверина, он ждет только удаления Петра из России, чтоб свергнуть его: ясно, что если Петр непременно хочет уехать, то нельзя оставлять без него Шувалова в Петербурге. Петр сам говорит Шувалову: «Прусский король мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Шувалов мог подумать, что это к нему вовсе не относится, но вслед за тем Петр чрез Мельгунова велел сказать Шувалову, чтоб он следовал за ним в армию в качестве волонтера.
Ив. Ив. Шувалов не мог быть главою заговора, потому что не был способен к этому по своей природе; но важно то, что Гольц и Шверин говорят о его сильном неудовольствии, которого он не мог скрыть, говорят о бешенстве и негодовании, написанном на его лице. Но еще важнее то, что Гольц и Шверин считают заговорщиками и Мельгунова с Волковым и этим вполне подтверждают показания Волкова относительно ненависти к нему пруссаков и принца Георгия. «Принц Георгий, – говорит Волков, – озлобился на меня столько ж, как Гольц, буде не больше, будучи наущаем и с другой стороны Хорватами и Глебовыми, и до того дошел, что 9 июня, будучи пьян, следовательно, откровенен и искренен, обвинил меня ненавистью к немцам, уграживая доказать мне, как дважды два четыре, что я тот человек, который составил проект выгнать из России всех немцев, и сему странному происшествию, а моей на весь день горести был весь двор свидетель».
Пруссаки ничего не говорят о Глебове, вероятно потому, что он не имел влияния на иностранные дела. Два главных дельца – Волков и Глебов – были в ссоре и старались вредить друг другу. Смотря по тому, что Глебов при перемене правительства остался в прежнем значении, нельзя думать, чтоб его считали очень довольным при Петре; да и трудно было кому-нибудь быть довольным при анархии, когда не было никакой силы, на которую можно было бы опереться, когда, захвативши удобную минуту, можно было провести какое-нибудь дело, но это дело разделывалось другим в следующую минуту. Таким образом, люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России.
К неудовольствию отдельных лиц присоединялось неудовольствие могущественных сословий – духовенства, войска. Резкое, крутое решение вопроса о церковных имуществах возбудило сильное негодование духовенства. Гольц доносил своему государю 25 мая: «Духовенство подало императору представление на русском и латинском языках, где жалуется на насилия и странные поступки с собою вследствие указа об отобрании церковных имуществ; таких поступков духовенство не могло ожидать и от варварского правительства, а теперь принуждено терпеть их от правительства православного, и это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага, подписанная архиепископами и многими из духовенства, составлена в чрезвычайно сильном тоне, это не просьба, а скорее протест против государя. Донесения, полученные вчера и третьего дня от воевод отдаленных областей, говорят о старании духовенства подустить народ против монарха. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры предпринять, а потому требуют наставлений от правительства». Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что причины их были другие, и потому можем не принимать второй половины Гольцева известия, но первую не принять трудно. Когда Петр был великим князем, то выражал свое нерасположение к русскому духовенству ребяческим образом – высовыванием языка священникам и дьяконам во время богослужения. Но теперь дело пошло сериознее. 26 марта был дан императором такой указ Синоду: «Уже с давнего времени к нашему неудовольствию, а к общему соблазну примечено, что приходящие в Синод на своих властей или епархиальных архиереев челобитчики по долговременной сперва здесь волоките наконец обыкновенно без всякого решения к тем же архиереям отсылаются на рассмотрение, на которых была жалоба, и потому в Синоде или не исполняется существительная оного должность, или же, и того хуже, делается одна только потачка епархиальным начальникам, так что в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных. Приложенные при сем челобитные Черниговской епархии священника Бордяковского и диакона Шаршановского суть новое и неоспоримое тому доказательство, ибо, несмотря на данные Синоду еще с 1754 года именные указы о решении их дела, не исполнены потому и доныне, а только отсылаются они на рассмотрение в ту же епархию. Мы видим, какие тому причины могут быть поводом, но оные соблазнительнее еще самого дела. Кажется, что равный равного себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего ради повелеваем Синоду чрез сие стараться крайним наблюдением правосудия соблазны истребить и не только по сим двум челобитным немедленное решение здесь сделать, но и всегда по подобным здесь же решить, нашим императорским словом чрез сие объявляя, что малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление, а сей указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в Синоде к настольным указам присовокупить». Для наблюдения, чтоб не было неправильностей в ходе дел, в Синоде был обер-прокурор; обер-прокурору нужно было сделать строгое внушение, сменить его, если он не исполнял своих обязанностей, или поддерживать его в борьбе с членами коллегии, когда он ратовал против «нарушения истины», в оскорбительных же указах не было никакой нужды.
Черное духовенство было раздражено внезапным отнятием монастырских вотчин, белое – повелением брать в военную службу священнических и дьяконских сыновей; а тут раздраженным дается средство передавать свое раздражение и другим. Упомянув о некоторых постановлениях нового царствования, возбудивших удовольствие, русский современник говорит: «Но последовавшие затем другие распоряжения императора возбудили сильный ропот и негодование в подданных, и более всего то, что он вознамерился было переменить совершенно религию нашу, к которой оказывал особенное презрение. Он призвал первенствующего архиерея (новгородского) Димитрия Сеченова и приказал ему, чтоб в церквах оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других бы не было, также чтоб священники обрили бороды и носили платье, как иностранные пасторы. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Димитрий. Этот благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такого неожиданного повеления, и усматривал ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство. Он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту». Домовые церкви были запечатаны. Писатель иностранный, сочувствующий Петру, выставляет все неблагоразумие распоряжения относительно выноса икон из церкви, прибавляя, что Димитрий Сеченов за протест против этой меры был удален, но скоро опять возвращен из страха пред народным неудовольствием.
К неудовольствию духовенства присоединялось неудовольствие войска. Одним из первых дел нового царствования было распущение елисаветинской лейб-кампании. Уничтожение этой «гвардии в гвардии», разумеется, могло возбудить только удовольствие, если бы на месте старой русской лейб-кампании не увидали тотчас же новой, только иностранного происхождения, голштинской гвардии, пользовавшейся явным предпочтением императора, что и возбуждало сильнейшее неудовольствие в русской гвардии. Первенствующее значение в войске получил иностранный принц Георг голштинский, не имевший никаких заслуг и постаравшийся тотчас же своим характером и поступками возбудить против себя ненависть. Сам Гольц должен был потом сознаться пред Фридрихом II, что принц Георгий много содействовал возбуждению сильной ненависти против немцев и ускорил падение своего государя. Опять, как во времена Бирона, стали говорить, что гвардии придет скоро конец, что ее распределят по армейским полкам; Петр, будучи еще великим князем, часто говаривал, что гвардейцы, живя в своих казармах с семействами, точно держат резиденцию в осаде и будут опасны правительству; Петр называл гвардейцев янычарами. При таких основных причинах неудовольствия все не нравилось, все возбуждало ропот: роптали на перемену формы, на частое и долгое ученье по новому, прусскому образцу. Русский современник-очевидец так говорит о неудовольствии в войске и его причинах: «Негодование во многих произвел и число недовольных собою увеличил он, Петр, и тем, что с самого того часа, как скончалась императрица, не стал уже он более скрывать той непомерной приверженности и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил портрет его на себе в перстне беспрерывно, и другой, большой, повешен был у него подле кровати. Он приказал тотчас сделать себе мундир таким покроем, как у пруссаков, и не только стал сам всегда носить оный, но восхотел и всю гвардию свою одеть таким же образом; а сверх того, носил всегда на себе и орден прусского короля, давая ему преимущество пред всеми российскими. А всем тем не удовольствуясь, восхотел переменить и мундиры во всех полках и вместо прежних одноцветных зеленых поделал разноцветные, узкие и таким покроем, каким шьются у пруссаков оные. Наконец, и самым полкам не велел более называться по-прежнему по именам городов, а именоваться уже по фамилиям своих полковников и шефов; а сверх того, введя уже во всем наистрожайшую военную дисциплину, принуждал их ежедневно экзерцироваться, несмотря, какая бы погода ни была, и всем тем не только отяготил до чрезвычайности все войска, но и, огорчив всех, навлек на себя, и особливо от гвардии, превеликое неудовольствие».
Вельможи, старики, имевшие почетное место в гвардии, должны были подчиниться новым порядкам, если не хотели навлечь на себя неудовольствия и насмешек императора. Известный Болотов, приехавший в это время в Петербург, так описывает впечатление, произведенное на него проходившим отрядом гвардии: «Шел тут строем деташемент гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры, и маршировал церемониею. Но ничто меня так не поразило, как идущий пред первым взводом низенький и толстенький старичок с своим эспантоном и в мундире, унизанном золотыми нашивками, со звездою на груди и голубою лентою под кафтаном и едва приметною. „Это что за человек?“ – спросил я. „Как! разве вы не узнали? Это князь Никита Юрьевич Трубецкой!“ – „Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью ног отягощенным стариком, что, как говорили, он затем и во дворец, и в Сенат по нескольку недель не ездил, да и дома до него не было почти никому доступа?“ „О! – отвечали мне. – Это было вовремя оно; а ныне, рече Господь, времена переменились, ныне у нас больные, и небольные, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошохонько топчут и месят грязь, как солдаты"“. Старший Разумовский, Алексей Григорьевич, избавился от подобного положения увольнением от всех должностей, но младший, гетман Кирилла, должен был держать у себя на дому молодого офицера, который давал ему уроки в новой прусской экзерциции, и все же не спасался от выговоров и насмешек Петра III, и говорили, что император находил особенное удовольствие смеяться над Разумовским, не способным по природе к военным упражнениям.
Много веселых минут доставляли императору также придворные дамы, которых он заставил переменить старый русский поклон на французское приседание; многие дамы, особенно старухи, никак не умели приловчиться к приседанию, и комическое положение их при этом доставляло Петру величайшее удовольствие: он наблюдал за ними и потом передразнивал. «Я была очень смешлива, – рассказывала потом одна знатная дама-современница, – государь, бывало, нарочно смешил меня разными гримасами. Он не похож был на государя».
Сильное неудовольствие распространялось в Петербурге; но и в местах отдаленных не могли не заметить, что в правительственной машине какое-то расстройство. В начале царствования государь велел перевести Мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург; но потом опять указ: «Хотя и повелели е. и. в. Мануфактур-коллегию из Москвы взять сюда, а там контору оставить, но как все фабрики или в Москве, или поблизости от оной и здесь так мало, что и ни в какое против того сравнение поставить нельзя, следовательно, Мануфактур-коллегия, будучи здесь, имела бы, так сказать, заочное за своею должностью смотрение, то повелеваем коллегию паки немедленно к Москве возвратить; а здесь по-прежнему контору оставить». 9 января именным указом уничтожены полицеймейстеры в городах, полиция поручена губернским провинциальным и воеводским канцеляриям, а 22 марта именным же указом полицеймейстеры восстановлены.
И в местах отдаленных видели расстройство в правительственной машине; в Петербурге видели, отчего происходит это расстройство. Вследствие детской слабости характера Петр быстро перенимал все у людей, среди которых обращался, к которым привязывался. Пристрастившись к голштинским офицерам, заключившись в их обществе, Петр перенял казарменные привычки и грубый кутеж сделал своим любимым препровождением времени. При императрице Елисавете о табаке не было слышно во дворце, потому что она терпеть его не могла, и сам Петр сначала не мог его терпеть; но как скоро увидал, что голштинцы, которых он считал образцовыми людьми, героями, курят, то и начал курить. Когда прежний наставник его Штелин изумился, увидав его в первый раз с трубкою за пивом, то Петр сказал ему: «Чему ты удивляешься, глупая голова! Разве ты видал хотя одного настоящего бравого офицера, который бы не курил?» За пивом последовало и вино. «Всеобщие негодования, – по словам современника-очевидца Болотова, – увеличились еще более, когда стали рассеиваться повсюду слухи и достигать до самого подлого народа, что государь не успел вступить на престол, как предался публично всем своим невоздержностям и совсем неприличным такому великому монарху делам, и что он не только с графиней Воронцовою, как с публичною своею любовницею, препровождал почти все свое время, но, сверх того, в самое еще то время, когда скончавшаяся императрица лежала в дворце еще во гробе, целые ночи провождал с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршествах и питье, приглашая иногда к тому таких людей, которые нимало не достойны были сообщества и дружеского собеседования с императором, как, например, италиянских театральных певиц и актрис вкупе с их толмачами; а что всего хуже, разговаривая на пиршествах таковых въявь обо всех и обо всем и даже о самых величайших таинствах и делах государственных… Голос у него был очень громкий, скоросый и неприятный, и было в нем нечто особое и такое, что отличало его так много от всех прочих голосов, что можно было его не только слышать издалека, но и отличать от всех прочих. Болотов был адъютантом главного начальника полиции генерала Корфа (Николая), ездил с ним во дворец и наблюдал издали, что там происходило за обедами и ужинами. „Мы, – говорит он, – могли всегда в растворенные двери слышать, что государь ни говорил с другими, а иногда и самого его и все деяния видеть. Но сие было для нас удовольствием только сначала, а впоследствии времени скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы таковые разговоры до нашего слуха и не достигали; ибо как редко стали уже мы заставать государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского пива, до которого он был превеликий охотник, уже опорожнившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда пред иностранными министрами, видящими и слышащими то и, бессомненно, смеющимися внутренно. Истинно, бывало, вся душа так поражается всем тем, что бежал бы неоглядкою от зрелища такового: так больно было все то видеть и слышать. Но никогда так много не поражался я досадными зрелищами таковыми, как в то время, когда случалось государю езжать обедать к кому-нибудь из любимцев и вельможей своих и куда должны были последовать все те, к которым оказывал он отменное свое благоволение, как, например, и генерал мой, и многие другие, а за ними и все их адъютанты и ординарцы. Табун, бывало, целый поскачет вслед за поехавшими, и хозяин успевай только всех угащивать и потчевать. Одни только трубки и табак приваживали мы с собою из дворца свои. Ибо как государь был охотник до курения табака и любил, чтоб и другие курили, а все тому натурально в угодность государю и подражать старались, то и приказывал государь всюду, куда ни поедет, возить с собою целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими табаками, и не успеем куда приехать, как и закурятся у нас несколько десятков трубок и в один миг вся комната наполнится густейшим дымом, а государю то было и любо, и он, ходючи по комнате, только что шутил, хвалил и хохотал. Но сие куда бы уже ни шло, если б не было ничего дальнейшего и для всех россиян постыднейшего. Но то-то и была беда наша! Не успеют, бывало, сесть за стол, как и загремят рюмки и покалы, и столь прилежно, что, вставши из-за стола, сделаются иногда все, как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладицы и несообразности сущие. А однажды, как теперь вижу, дошли до того, что, вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут, на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки; ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей. А по сему судите, каково ж нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга наземь валяющих? Хохот, крики, шум, биение в ладоши раздавались только всюду, а покалы только что гремели“.
У русских людей сердце обливалось кровью от стыда пред иностранными министрами. Эти иностранные министры в донесениях своим дворам оставили единогласные свидетельства о неприличии пирушек Петра III, возбуждавших сильное неудовольствие в народе. Об этом неудовольствии приведем слова того же очевидца: «Ропот на государя и негодование ко всем деяниям и поступкам его, которые, чем далее, тем становились хуже, не только во всех знатных с часу на час увеличивалось, но начинало делаться уже почти и всенародным, и все, будучи крайне недовольными заключенным с пруссаками перемирием и жалея о ожидаемом потерянии Пруссии, также крайне негодуя на беспредельную приверженность государя к королю прусскому, на ненависть и презрение его к закону, на крайнюю холодность, оказываемую к государыне, его супруге, на слепую его любовь к Воронцовой иначе всего на оказываемое потому более презрение ко всем русским и даваемое преимущество пред ними всем иностранцам, а особливо голштинцам, отважились публично и без всякого опасения говорить, и судить, и рядить все дела и поступки государевы. Всем нам тяжелый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно, и как со всяким днем доходили до нас о том неприятные слухи, а особливо когда известно сделалось нам, что скоро с прусским королем заключится мир и что приготовлялся уже для торжества мира огромный и великолепный фейерверк, то нередко, сошедшись на досуге, все вместе говаривали и рассуждали мы о всех тогдашних обстоятельствах и начали опасаться, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, и особливо от огорченной до крайности гвардии».
Мы видели, что посланцы Фридриха II Гольц и Шверин скоро заметили сильное неудовольствие и дали знать о нем своему государю, выставляя самыми опасными для Петра людьми Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова. Они были уверены и уверяли короля, что эти люди воспользуются отъездом Петра к армии по поводу датской войны и произведут восстание. Поэтому они стали уговаривать императора не ездить, уверяя, что его присутствие в России необходимо для блага империи; но Петр отвечал, что он изумляется их словам, которые доказывают ему только одно, что они его не любят. Тогда они обратились к Фридриху II, и Шверин писал королю 8 апреля: «Никто в мире, кроме в. в., не может отвратить императора от этого опасного путешествия. Письмо от в. в., в котором вы посоветуете ему остаться в России, заставит его переменить намерение. Он наверное последует вашему совету, потому что питает к в. в. совершенное доверие».
Гольц 2 мая писал королю о том же, выставляя необходимость для Петра прежде похода короноваться. Но 4 мая (н. ст.) Фридрих уже писал Петру: «Признаюсь, мне бы очень хотелось, чтоб в. в. уже короновались, потому что эта церемония производит сильное впечатление на народ, привыкший видеть коронование своих государей. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским. Всякий другой народ благословлял бы небо, имея государя с такими выдающимися и удивительными качествами, какие у в. в. (eminentes et admirables qualites); но эти русские, чувствуют ли они свое счастье, и проклятая продажность какого-нибудь одного ничтожного человека разве не может побудить его к составлению заговора или к поднятию восстания в пользу этих принцев Брауншвейгских? Припомните, в. и. в., что случилось в первое отсутствие императора Петра I, как его родная сестра составила против него заговор! Предположите, что какой-нибудь негодяй с беспокойной головой начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол этого Ивана, составит заговор с помощью иностранных денег, чтоб вывести Ивана из темницы, подговорить войско и других негодяев, которые и присоединятся к нему; не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома? Эта мысль привела меня в трепет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль в. и. в. Я здесь, в глубине Германии, я вовсе не знаю вашего двора, ни тех, к которым в. в. может иметь полную доверенность, ни тех, кого можете подозревать; поэтому вашему великому разуму принадлежит различить, кто предан и кто нет; я думаю одно, что если в. в. угодно принять начальство над армиею, то безопасность требует, чтоб вы прежде короновались, и потом, чтоб вы вывезли в своей свите за границу всех подозрительных людей. Таким образом, в. в., будете обеспечены; для большей безопасности надобно заставить также всех иностранных министров следовать за вами, этим вы уничтожите в России все семена возмущения и интриги, а чтоб все эти господа не были вам в тягость, вы можете всегда их отправить в Росток, или Висмар, или в какое-нибудь другое место позади армии, чтоб они не могли передавать датчанам ваших планов. Я не сомневаюсь также, что вы оставите в России верных надсмотрщиков, на которых можете положиться, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за всем наблюдать и предупреждать малейшее движение».
Что же отвечал Петр? «В. в. пишете, что, по вашему мнению, я должен короноваться прежде выступления в поход именно по отношению к народу. Ноя должен вам сказать, что так как война почти начата, то я не вижу возможности прежде короноваться точно так же по отношению к народу; коронация должна быть великолепна, по обычаю, и я не могу сделать великолепной коронации, не имея возможности ничего вскорости здесь найти. Что касается Ивана, то я держу его под крепкою стражею, и если бы русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей, предавая себя в защиту господа Бога, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет. В. в.! что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной земле? Русские, которые всегда желали одного – быть под властью государя, а не женщины; двадцать раз я сам слышал от солдат моего полка: „Дай Бог, чтоб вы скорее были нашим государем, чтоб не быть нам больше под властью женщины“. Но что всего важнее: я никогда не прощу себе этой подлой трусости, я умру с тоски от мысли, что я, будучи первым принцем моего дома, остался в бездействии, когда велась война для возвращения того, что было несправедливо отнято у его предков, и в. в. много потеряли бы из своего уважения ко мне, если бы я это сделал».
Таким образом, отъезд к армии был решен, несмотря даже на отсоветования Фридриха II. Последний главнокомандующий армиею граф Бутурлин был отозван в Петербург еще при жизни Елисаветы. Он ехал оправдываться пред государынею, которая хотя и была согласна с Конференциею насчет ошибок его, но все же он мог рассчитывать на милостивый прием, как видно из письма его к Ив. Ив. Шувалову: «Я в моей горести единое утешение имею, когда от в. п-ства милостивое письмо удостоюсь получить, как и сегодня от 17 сентября принял с моим вечным благодарением, а наипаче к сердечному моему обрадованию, что я еще в числе верных рабов у е. и. в. нахожусь и что по милости Конференции давно бы меня на свете не было. Сперва не только величали меня и ублажали паче мер моих, а ныне живого во гроб вселяют и поют: Святый Боже! Моего промедления нигде и никогда промедление не было напрасное. Вступитесь за верного раба е. в.; еще ныне получил, к обиде моей, чтобы и Ангюринова отдал графу Румянцеву, кой у меня один и есть и все секретные дела на него положены, а я остался один писарем и копиистом. Я не чаял бы такой жестокой обиды от его высокородия Волкова». Бутурлин не застал в живых Елисаветы; он на дороге получил рескрипт нового императора, в котором обнадеживался в непременной милости и благоволении. Граф Фермор 19 февраля был вовсе уволен от службы. Главное начальство над заграничною армиею поручено было графу Петру Семен. Солтыкову. Но уже при Елизавете по распоряжениям относительно Бутурлина было ясно видно, что старые главнокомандующие не будут более действовать, ибо Семилетняя (для России пятилетняя) война выказала молодые способности. Между ними первое место принадлежало покорителю Кольберга графу Петру Александр. Румянцеву. Понятно, что и Петр, замыслив датскую войну, последовал общему указанию и поручил ему кампанию. Февраль месяц Румянцев пробыл в Петербурге, вызванный туда императором, и в начале марта, заручившись дружбою первого дельца по всем частям Волкова, отправился к своему корпусу в Померанию для приготовлений к походу. 21 мая отправлены были ему наставления считать войну с Данией не только неизбежною, но и действительно объявленною и потому спешить утвердиться в Мекленбурге, прежде чем датчане туда войдут. Наставление было отправлено с большою тайною, но один приятель показал копию с него Гольцу, и тот остался очень недоволен, потому что пруссаки надеялись, что дело уладится или оттянется Берлинским конгрессом. «Излишне указывать в. в-ству, – писал Гольц королю, – на коварство составителя этого указа относительно конгресса и непоследовательность, которая обнаруживается в каждом слове; приказание устроить магазины в Ростоке и Висмаре и особенно ввести армию в Мекленбург в высшей степени странно, по моему мнению. Не надобно приписывать этого е. и. в-ству, потому что решение состоялось иначе в совете; виноват г. Волков, который осмелился дать ему такую окончательную форму. Император утаил от меня это приказание. В. в-ство усмотрите, как это мне неприятно, что при всех милостях и доверии императора ко мне противная партия может заставить его скрыть от меня самые важные дела, которые в. в-ство должны знать прежде всякого другого». Между тем принц Георг голштинский настоятельно убеждал Гольца упросить Фридриха II, чтоб тот уговорил Петра не ездить к армии. «Вам хорошо известно, – сказал ему на это Гольц, – как е. и. в-ство отвечал королю на подобные советы: он отвечал, что лучше его знает внутреннее состояние своей страны, что уверен в преданности своих подданных и что его слава требует отъезда к армии. После такого ответа я, конечно, уже не решусь просить короля, моего государя, повторить те же самые свои советы императору. Зачем так поспешили обнародовать об отъезде императора, зачем дали знать министрам иностранным, чтоб они следовали за ним? Теперь я уже не вижу, как может император остаться без потери своего достоинства после всех этих разглашений: в Европе увидят, что причиною такой перемены намерения было опасение каких-нибудь волнений в стране вследствие отсутствия государя». Принц продолжал толковать о дурном состоянии войска, назначаемого в поход, о недостатке денег и съестных припасов. «Два месяца, – отвечал Гольц, – я толкую с вами и с самим императором, что надобно принять меры против этого, если уже война казалась ему неизбежною, что нечего грозиться задавить датчан, если еще нет уверенности, что все готово; мне постоянно отвечали, что все приготовления сделаны, тогда как я хорошо знал, что нет. Видя, наконец, что мои представления ни к чему не служат и могут только навлечь на меня гнев е. и. в-ства, я замолчал; теперь, зная дурное состояние дел, надобно обречь себя на неудачную войну, которой можно было избежать переговорами».
До получения инструкции 21 мая Румянцев находился в сильном беспокойстве: его мучила мысль, что войны не будет, что ему не удастся отличиться блестящим походом. Получив инструкцию, он писал Волкову из Кольберга 8 июня: «Правда, что мое смущение немало было и на время большое, что я от вас, моего вселюбезного друга, не получал никакого ответа. Я уже отчаял вовсе быть для меня делу каковому-либо; ныне же, получа всеприятнейшее ваше письмо со обнадеживанием вашей дружеской милости продолжения и с подтверждением мне наибесценнейшей милости и благоволения, я столь больше обрадован: вы знаете, что всякий ремесленник работе рад. Дай Боже только, чтоб все обстоятельства соответствовали моему желанию и усердию, то не сумневаюсь, что я всевысочайшую волю моего великого государя исполню. В полковники и штабс-офицеры я доклад подал. Правда, что умедлил маленько, да и разбор мой велик был, я все притом соблюл, что мне только можно было для пользы службы, я тех, кои не из дворян и не офицерских детей, вовсе не произвел: случай казался мне наиспособнейший очиститься от проказы, чрез подлые поступки вся честь и почтение к чину офицерскому истребились».
Но вслед за этим письмом, выражавшим радость ремесленника, добывшего себе работу, Румянцев принужден был посылать совсем другие донесения императору; он писал, что недостаток съестных припасов приводит его в крайнее отчаяние, а, с другой стороны, пруссаки вместо помощи затрудняют его своими требованиями возвращения померанских мест. Но последние донесения Румянцева уже не застали Петра на престоле.
В июне месяце «время было шаткое и самое критическое: опасались, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, а особливо от огорченной до крайности гвардии». Но в чье же имя могло произойти восстание? Фридрих II указывал соперника Петру в человеке, который прежде Петра носил титул императора всероссийского и который теперь томился в Шлюссельбургской крепости. Петр отвечал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею. Через неделю после своего восшествия на престол, 1 января, Петр, командируя на смену известного нам Овцына капитана гвардии князя Чурмантеева «для караула некоторого важного арестанта в Шлюссельбургской крепости», дал ему указ: «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». В инструкции Чурмантееву, подписанной граф. Александром Шуваловым, говорилось: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». Вслед за тем от 11 января Чурмантеев получил секретнейший указ: «Без нашего указа того арестанта никуда не перевозить и никому не отдавать, а когда соизволение наше будет в какое другое место арестанта перевесть, тогда прислан будет наш генерал-адъютант князь Голицын или генерал же адъютант барон фон Унгерн с именным указом за подписанием собственной нашей руки, а окроме оных, хотя б кто и с именным указом за подписанием собственной руки нашей приехал и стал требовать арестанта, тому не верить и, задержав под караулом, писать для донесения нам к нашему генерал-фельдмаршалу графу Шувалову». Того же числа отправлен был секретнейший указ шлюссельбургскому коменданту Бередникову, чтоб допустил Голицына или Унгерна, и если прикажут Чурмантееву с арестантом и его командою из крепости выехать, то не воспрещать.
Приведенное предписание прямо указывает на желание императора взять на некоторое время Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и подтверждает известие, что узник действительно был привозим в Петербург, где Петр его видел. Это свидание должно было происходить 22 марта, потому что в этот день Чурмантеев получил указ: «К колоднику имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта барона Унгерна и с ним капитана Овцына, а потом и всех тех, которых барон Унгерн пропустить прикажет». Между «всеми теми» должен был находиться и сам император. 24 марта другой указ Чурмантееву: «Арестант после учиненного ему третьего дня посещения легко получить может какие-либо новые мысли и потому новые вранья делать станет. Сего ради повелеваю вам примечание ваше и находящегося с вами офицера Власьева за всеми словами арестанта умножить, и, что услышите или нового приметите, о том со всеми обстоятельствами и немедленно ко мне доносите. Петр. PS. Рапорты ваши имеете отправлять прямо на мое имя».
1 апреля Унгерн опять был допущен к Ивану. 3 апреля заведование делами шлюссельбургского арестанта было взято от гр. Александра Шувалова и поручено Нарышкину, Мельгунову и Волкову вследствие общего распоряжения, по которому все дела, ведавшиеся прежде в Тайной канцелярии, переходили к упомянутым трем лицам. Вместе с тем к узнику были приставлены новые офицеры: премьер-майор Жихарев и капитаны Уваров и Батюшков.
Петр писал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею и потому нечего опасаться; он мог убедиться теперь, что несчастный Иван не может быть опасным соперником и по состоянию своих умственных способностей. То, что прежде известно было очень немногим, сохранявшим глубочайшую тайну, то теперь вследствие свидания Петра при свидетелях должно было распространиться в кругу более обширном, и английский посланник Кейт имел возможность сообщить своему двору совершенно верные известия об Иване Антоновиче. Император, писал Кейт, видел Ивана III и нашел его физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями. Речь его была бессвязна и дика. Он говорил, между прочим, что он не тот, за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят на небо, но он хочет сохранить притязания особы, имя которой он носит.
Поэтому попытка произвести переворот во имя правнука царя Иоанна Алексеевича против внука Петра Великого могла произойти только от людей темных, не имевших соприкосновения с высшими сферами; для другого же рода людей было одно средство: не прерывая наследственной линии, заменить отца сыном – средство, с одной стороны, легкое, ибо сын, великий князь Павел Петрович, был еще ребенок, и потому не могло быть никаких столкновений с его волею, с его сыновними отношениями; но, с другой стороны, малолетство того, в чье имя должно было происходить движение, отнимало вождя у движения, отнимало у этого движения единство, силу, стройность, отнимало твердость у его последствий, ибо надобно было искать другого вождя, из подданных, и как было его найти? Надобно было иметь дело со многими, с партиями. Поэтому естественно и необходимо внимание всех обращалось на императрицу Екатерину, которая уже давно была известна и славна противоположностью своего поведения с поведением мужа, давно была известна и славна своими блестящими способностями, своим обворожительно ласковым обращением, своим вниманием ко всему достойному внимания, своим уважением к русским людям и ко всему, что им было дорого; только от ее влияния на мужа можно было ожидать хорошего, но этого влияния не было; самое близкое лицо явилось самым далеким, супруга была отвергнута, отвергнут был совет и разум; Екатерина подвергалась явным оскорблениям; она страдала вместе с русскими людьми, и крепкий союз образовался между ними и ею. Фридрих II, получавший очень неудовлетворительные известия из Петербурга, думал сначала, что Екатерина будет иметь большое влияние на дела, и только 7 марта прусский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу, что, по точнейшим сведениям, Екатерина не имеет никакого влияния и может произойти только вред, если к ней обращаться, притом она вовсе и не так благосклонна к Пруссии, как сам император. Но французский посол Бретейль еще с 31 декабря 1761 года начал писать своему двору о печальном положении Екатерины. «В день поздравления с восшествием на престол, – доносил он, – на лице императрицы была написана глубокая печаль; ясно, что она не будет иметь никакого значения, и я знаю, что она старается вооружиться философиею, но это противно ее характеру. Император удвоил внимание к графине Воронцовой. Надобно признаться, что у него странный вкус: она неумная, что же касается наружности, то трудно себе представить женщину безобразнее ее: она похожа на трактирную служанку. Императрица находится в самом жестоком положении, с нею обходятся с явным презрением. Она неравнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтоб Екатерина (я знаю ее отважность и страстность) рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но, если она потребует, они пожертвуют всем для нее. Императрица приобретает всеобщее расположение. Никто усерднее ее не выполнял обязанностей относительно покойной императрицы, обязанностей, предписываемых греческим исповеданием; духовенство и народ этим очень тронуты и благодарны ей за это. Она наблюдает с точностию праздники, посты, все, к чему император относится легкомысленно и к чему русские неравнодушны. Наконец, она не пренебрегает ничем для приобретения всеобщей любви и расположения отдельных лиц. Не в ее природе забыть угрозу императора заключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою первую жену. Все это вместе с ежедневными унижениями должно страшно волновать женщину с такою сильною природою и должно вырваться при первом удобном случае. Императрица сильно предается горю и мрачным мыслям; люди, ее видающие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет и скоро сойдет в могилу». Это последнее известие было написано в начале апреля, и в начале июня Бретейль доносил: «Императрица обнаруживает мужество: она любима и уважаема всеми в той же степени, как Петр ненавидим и презираем».
Эта хроника вскрывает нам лучше всего страшное положение Екатерины в шесть месяцев, от 25 декабря 1761 до 28 июня 1762 года; она указывает нам эти переходы от мрачных мыслей к отчаянию, разрушительно действующему на здоровье, и от отчаяния к твердости, когда надежда на избавление усиливалась и когда надобно было ободрять своих приверженцев. Екатерина говорит, что эти приверженцы со дня смерти императрицы Елисаветы внушали ей о необходимости отстранить Петра и самой стать в челе правления, но что она начала склоняться на их представления с того дня, когда Петр публично нанес ей страшное оскорбление. Во время празднования мира с Пруссиею за торжественным обедом император предложил три тоста: 1) здоровье императорской фамилии, 2) здоровье короля прусского, 3) за сохранение счастливого мира, заключение которого праздновалось. Когда Екатерина выпила за здоровье императорской фамилии, Петр велел Гудовичу, стоявшему сзади его кресел, пойти спросить императрицу, зачем она не встала, когда пили первый тост, Екатерина отвечала, что императорская фамилия состоит только из троих членов, из ее супруга, сына и ее самой, и потому она не понимает, почему нужно вставать. Когда Гудович передал этот ответ, Петр снова велел ему подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово, ибо она должна знать, что двое его дядей, принцы голштинские, принадлежат также к императорской фамилии; но, боясь, чтоб Гудович не ослабил выражения, император сам закричал Екатерине бранное слово, которое и слышала большая часть обедавших. Императрица сначала залилась слезами от такого оскорбления, но потом, желая оправиться, обратилась к стоявшему за ее креслом камергеру Александру Серг. Строганову и попросила его начать какой-нибудь забавный разговор для рассеяния, что Строганов и исполнил.
Но дело не кончилось одним оскорблением. В тот же вечер император приказал своему адъютанту князю Борятинскому арестовать Екатерину. Борятинский, испуганный этим приказанием, не торопился его выполнить и, встретив принца Георгия голштинского, рассказал ему о поручении, полученном от императора. Тот бросился к Петру и уговорил его отменить приказание. Приказание было отменено, но никто не мог поручиться, что оно не будет повторено, ибо приказания отдавались по первой вспышке, по первому внушению, сделанному в пользу или во вред известного лица, и Екатерина начинает слушать предложения своих приверженцев. Кто же были эти приверженцы?
Мы видели, что Шверин и Гольц указывали на Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова как на самых опасных людей, ждущих первого удобного случая для отнятия у Петра престола. Но Фридрих II должен был убедиться, как обманулись его министры в своих наблюдениях. «Лица, – пишет он, – на которых смотрели как на заговорщиков, всего менее были виновны в заговоре. Настоящие виновники работали молча и тщательно скрывались от публики». Было, однако, время, когда Ив. Ив. Шувалов предлагал Екатерине свои услуги. В одной из записок о событиях своего времени Екатерина рассказывает, что пред кончиною императрицы Елисаветы Ив. Ив. Шувалов обратился к Никите Ив. Панину, говоря, что «иные клонятся, отказав и выслав из России великого князя Петра с супругою, сделать правление именем сына их Павла Петровича, которому был тогда седьмой год, что другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать с сыном и что все единодушно думают, что Петр не способен. Панин ответствовал, что все сии проекты суть способы к междоусобной погибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий неможно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Панин, – продолжает Екатерина, – о сем мне тотчас дал знать, сказав мне притом, что больной императрице если б представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему благодаря Богу ее фавориты не приступили, но, оборотя все мысли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милости Петра III, в коем отчасти и предуспели».
Записка эта, написанная, разумеется, позднее события, может быть и очень поздно, требует некоторого объяснения. Выражение «благодаря Богу» очень понятно: если бы фавориты приступили к удалению Петра Федоровича от престола, то императором был бы провозглашен великий князь Павел Петрович и Екатерина не царствовала бы; кроме того, неспособность Петра не была еще так очевидна, как после шестимесячного его царствования, и удаление его могло бы повести к тому, что выставил в своем ответе Панин. «Фавориты не приступили», потому что Шувалов от Панина услышал решительный отказ в содействии великой княгини и ее приверженцев их плану. Быть может, отказ этот был и неискренний; Панин счел нужным обезопасить себя этим отказом, он мог заподозрить предложение, исходившее от неприязненных ему людей; что Панин не успокоился на своем ответе, доказательством служит то, что он имел с Екатериною разговор о предложении и внушал о возможности со стороны Елисаветы согласиться на удаление Петра. О своем ответе Панину на это внушение Екатерина нам не говорит. Может быть, положено было ждать нового предложения от «фаворитов». Но последние, получив резкий отказ, не сочли более нужным и безопасным повторять свое предложение, а может быть, не имели уже для того и времени и, отвергнутые Екатериною, должны были обратиться к Петру. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, они имели печальное удовольствие видеть, какие страдания должна была терпеть Екатерина за отвергнутые их предложения. Быть может, теперь они ждали от нее предложения. Но дело начато было без них, было и кончено без них.
Шувалов перед смертью Елисаветы обращался к Панину с предложением изменить порядок престолонаследия, и это показывает нам важное значение Панина. В царствование Елисаветы мы имели часто случай говорить о его деятельности в Швеции, где он был посланником. Носились слухи, что он был удален в Швецию вследствие придворной интриги, удален Шуваловыми, которые хотели отстранить в нем соперника Ив. Ив. Шувалову. Если это правда, то, разумеется, здесь должно было залечь основание вражды его к Шуваловым, и преимущественно к Ив. Ивановичу. Но и без этого были другие сильные причины вражды. Тесно связанный с канцлером Бестужевым, будучи, можно сказать, его воспитанником, Панин в довольно долгое пребывание свое в Стокгольме ревностно проводил бестужевскую систему, борясь дипломатически с господствовавшим в Швеции французским влиянием. Панин воспитался, окреп в этой борьбе, ненависть к Франции, необходимость борьбы с нею стали его политическим символом веры. И вдруг ему велят переменить политику, собственно говоря, велят переродиться, действовать заодно с французским посланником. Но мы знаем очень хорошо, что сделать это русскому посланнику в Стокгольме было страшно тяжко: ему нужно было бросить своих друзей и подчиниться французскому посланнику, который по своим средствам, теперь еще более усилившимся, не хотел и не мог уступить русскому посланнику равного с собою значения. Чем самостоятельнее, сильнее духовными средствами был русский посланник, тем тягостнее становилось ему его положение. Панин не вытерпел, протестовал; но мы видели, какой реприманд получил он за этот протест. Оскорбленный выговором, удрученный своим невыносимым положением, Панин приписывал все эти беды Шуваловым, их обвинял в сближении с Франциею. Скоро покровитель его, Бестужев, был свержен, что также Панин приписывал Шуваловым и Воронцову, которого и прежде считал своим врагом. Теперь Воронцов стал заведовать иностранными делами при помощи или, лучше сказать, под влиянием Ив. Ив. Шувалова; Панину не было возможности более оставаться на дипломатическом поприще, и он был отозван из Швеции. Но мы видели, что Елисавета не любила отнимать деятельность у людей, выдававшихся своими способностями и образованностью, и бывший посланник в Швеции получил важное место воспитателя великого князя Павла Петровича. Этото новое значение Панина, предполагавшее необходимо большое доверие к нему Елисаветы и в то же время приводившее его в сношения с Екатериною, которая не могла не сочувствовать ему как близкому человеку к А. П. Бестужеву, – это-то значение Панина и заставило Шувалова обратиться к нему по вопросу о возведении на престол великого князя Павла по удалении отца его из России.
Обращение не имело последствий; Петр III вступил на престол и оправдал опасения тех, которые не ждали от его правления ничего хорошего. Панину было тяжело более других. Правда, к Франции последовало сильное охлаждение; но дело шло не о французских отношениях, когда внешнею политикою России заправлял прусский посланник Гольц, а где дело делалось мимо Гольца, так это именно только там, где желания Гольца совпадали с русскими интересами, т. е. в делах датских. Кроме общих для всех русских людей причин к неудовольствию у Панина были особые причины. Он не мог поддерживать своего значения, ибо по своему образу мыслей, по своим привычкам он не мог быть в приближений у Петра III, принимать участия в его забавах; по своей флегматической, жаждущей физического спокойствия природе Панин, более чем кто-либо, не выносил капральства, введенного Петром, за что последний резко обнаруживал против него свое неудовольствие. В донесении Гольца Фридриху II от 30 марта находится любопытное известие относительно Панина: «Е. и. в. с удовольствием соглашается на желание в. в-ства включить Швецию в мирный договор. Он мне сказал по секрету, что пошлет туда Панина, воспитателя великого князя. Это человек очень способный, и потому не может быть сомнения в успехе переговоров». Итак, Панину грозила опасность отправиться в Швецию и хлопотать там, согласно с требованием Пруссии, о восстановлении самодержавия, против чего он, находясь прежде в Швеции, ратовал всеми средствами. Но делать нечего, пришлось бы отправиться и в Швецию, ибо в России он мог потерять свое значение воспитателя великого князя наследника престола: громко говорили, что Петр намерен развестись с женою, заточить ее, намерен отвергнуть и сына. От характера Петра и от следствий образа жизни, который он вел, всего можно было ожидать: раз уже велел он арестовать Екатерину, в другой раз и заступничество принца Георга не поможет. Одинаковость интересов, естественно, сближала Панина с Екатериною, которая могла рассчитывать на его согласие на перемену, могла быть уверена, что при перемене найдет в нем человека, готового служить ей добрым советом, способного помочь ей в трудных обстоятельствах, но этим все и должно было ограничиться: Панин по своему характеру и образу мыслей не мог принять непосредственного участия в движении, направленном к перемене, тем менее мог стать во главе его.
Панин не был в приближении у Петра III; но и между людьми, пользовавшимися особенным расположением императора, Екатерина знала несколько лиц, на которых могла положиться при движении, которые так или иначе заявили ей о своей преданности. Это были генерал-фельдцейхмейстер Вильбуа, генерал-прокурор Глебов, князь Михаил Никитич Волконский, племянник бывшего канцлера Бестужева, уже известный нам на дипломатическом и военном поприще, директор полиции Николай Корф. Одни из этих лиц побуждались патриотизмом, другие, видя, что при всеобщем неудовольствии дело неминуемо должно кончиться дурно для Петра, спешили заранее стать под то знамя, которому принадлежало торжество. Но из тогдашней знати Екатерина более всех должна была надеяться на гетмана графа Кирилла Разумовского, который жил тогда в Петербурге и пользовался, по-видимому, расположением императора. Но это расположение не препятствовало ему питать прежнюю преданность к Екатерине; если она так рассчитывала на эту преданность шесть лет тому назад, то имела основание рассчитывать и теперь. Приближение к Петру не могло повредить этой преданности, ибо мимо всех других побуждений никто из приближенных к этому государю не мог рассчитывать на следующую минуту, и шел слух, что Петру хочется наградить малороссийским гетманством своего любимца Гудовича. Вместе с гетманом Разумовским к услугам Екатерины был и его наставник Теплов, безнравственный, смелый, умный, ловкий, способный хорошо говорить и писать. Ревность Теплова в пользу перемены правления усиливалась еще тем, что он по приказу императора сидел уже в крепости за нескромные слова. Из официального известия об отношениях Теплова к правительству в описываемое время до нас дошел любопытный указ Петра III от 23 марта: «Всемилостивейше пожаловали мы статского советника и нашего голштинского двора камергера Григория Теплова за известную нам его к службе ревность в наши действительные статские советники, которому повелеваем быть в отставке по-прежнему».
Но понятно, что, как бы ни было много людей, желавших перемены, и как бы ни были сильны средства этих людей, они не могли тронуться, начать дело без помощи гвардии. Гвардия была недовольна; но надобно было сосредоточить и направить это неудовольствие, сделать его готовым выразиться при первом удобном случае. Екатерина нашла два орудия, способные действовать в этом смысле, и одним из этих орудий была молодая, осьмнадцатилетняя женщина княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, родная сестра фаворитки. Лишившись в младенчестве матери, графиня Екатерина Воронцова была воспитана в доме дяди своего канцлера Михаила Ларионовича. Получивши средства в изучении иностранных языков, преимущественно французского, живая и способная девочка бросилась пользоваться этими средствами, тем более что в окружавших ее не находилось людей, которые бы заняли ее чувство и ум, привлекли к себе. Не находя по себе живых людей, она со всею страстностью своей натуры предалась чтению: Бэль, Монтескье, Буало и Вольтер были прочитаны, что повело к рановременному развитию. Эта образованность и страсть к чтению сблизили Екатерину Романовну с другою образованнейшею женщиною в России, такою же усердною читательницею Бэля, Монтескье и Вольтера, – великою княгинею Екатериною Алексеевною. «Многие из друзей моего дяди, – говорит Дашкова, – описали меня великой княгине молодою девушкою, которая посвящала все свое время науке; уважение, которым она удостоила меня впоследствии, очевидно, проистекло из этого пристрастного описания; взаимно великая княгиня внушила мне энтузиазм и преданность, заставившие меня броситься в сферу деятельности, о которой я так мало тогда думала, и имели влияние на всю остальную мою жизнь. Я не побоюсь утверждать, что в то время, о котором говорю, в целой империи было только две женщины, великая княгиня и я, которые занимались серьезным чтением, и так как ее восхитительное обращение производило неотразимое влияние на тех, кому она хотела нравиться, то легко понять, как сильно было это влияние на молодое создание, как я, имевшее едва пятнадцать лет и столь способное подчиниться ему».
Легко понять также, что, насколько великая княгиня производила обаяния над молодою Екатериною Романовною, настолько великий князь отталкивал женщину, начитавшуюся Монтескье и Вольтера. Тщетно он обращался к сестре своей фаворитки с фразою, кем-нибудь ему продиктованною: «Вспомните, что гораздо лучше иметь дело с людьми грубыми, но честными, как ваша сестра и я, чем с умницами, которые высасывают сок апельсина и потом бросают корку». Екатерина Романовна не могла выносить общества и развлечений Петра Федоровича. «Любимое удовольствие великого князя, – говорит она, – состояло в том, чтоб курить табак с голштинцами. Эти офицеры были большею частью капралами и сержантами в прусской службе; это была сволочь, сыновья немецких сапожников. Вечера оканчивались балом и ужином в зале, убранной сосновыми ветками и носившей немецкое название в соответствии вкусу убранства и с фразеологиею, бывшею в моде у компании; компания эта в своих разговорах примешивала столько немецких слов, что необходимо было знание немецкого языка для избежания насмешек от нее. Иногда великий князь давал свои праздники в маленьком загородном доме недалеко от Ораниенбаума: здесь пунш, чай, табак и смешная игра campis служили развлечением. Какой поразительный контраст с духом, вкусом, здравым смыслом и приличием, царствовавшими на праздниках великой княгини!»
В то страшное время, когда все убедились, что Елисавете осталось немного дней жизни, княгиня Дашкова является ночью к Екатерине с вопросом: «Можно ли принять какие-нибудь меры предосторожности против грозящей опасности и отвратить гибель, готовую вас постигнуть? Ради Бога, положитесь на меня, я докажу, что достойна вашего доверия. Составили ли вы какой-нибудь план? Обеспечена ли ваша безопасность? Благоволите дать мне приказания и научить меня, что делать». «Я не составила никакого плана, – отвечала Екатерина, – я ничего не предприму и думаю, что мне остается одно: мужественно встретить события, какие бы они ни были. Поручаю себя всемогущему и на его покровительство полагаю всю мою надежду».
Новый император скоро усилил беспокойство Дашковой, начавши однажды говорить с нею тихо, отрывочными фразами, из которых, однако, нетрудно было понять, в чем дело; дело шло о том, чтоб удалить ее, как выражался Петр, разумея Екатерину, и на ее место возвести Романовну, как он обыкновенно называл Елизавету Воронцову. «Будьте к нам немножко повнимательнее, – говорил он Дашковой, – придет время, когда вы будете жалеть о том, что с таким пренебрежением обходились с своею сестрою; ваши интересы требуют, чтоб вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство».
У мужа Дашковой были товарищи, приятели между гвардейскими офицерами, капитаны Преображенского полка Пассек и Бредихин, майор Рославлев и брат его, капитан, оба в Измайловском полку. Все эти молодые офицеры были согласны с княгинею в необходимости произвести перемену в правительстве, и пылкая молодая женщина уже начала смотреть на себя как на главу заговора, долженствовавшего решить судьбу империи. Кроме Рославлевых она познакомилась еще с третьим офицером Измайловского полка, Ласунским, о котором ей сказали, что он имеет влияние на гетмана Разумовского: этого богача и любимца гвардии за щедрость Дашкова хотела привлечь на свою сторону, не зная, что уже опоздала. С Никит. Ив. Паниным она могла сноситься непосредственно, потому что он доводился ей дядя; она заговаривала с ним о необходимости перемены на престоле; Панин иногда соглашался с нею и прибавлял, что недурно было бы также установить правительственную форму на началах шведской монархии; но Дашкова сама признается, что ей нельзя было надеяться вдруг приобрести доверие такого благоразумного и расчетливого политика, как Панин.
Гораздо откровеннее с нею был любимый племянник Панина знаменитый впоследствии князь Николай Васил. Репнин. Однажды после пира в новом Зимнем дворце Репнин является ночью к Дашковой и с отчаянием говорит: «Все погибло, любезная кузина: ваша сестра получила Екатерининский орден, и мне предстоит опасность быть послану к королю прусскому министром, или, лучше сказать, лакеем». Мы видели, что опасения Репнина оправдались: он должен был ехать к Фридриху II.
Дашкова сознается, что когда после тревожного посещения Репнина она сериозно задумалась о своем деле, то все толки об исполнении дела, которые ей приходилось до сих пор слышать от своих соумышленников, показались ей или фантазиями, не могшими осуществиться, или замыслами без определенного принципа, без твердости и без средств к исполнению. Все были согласны в одном только, что отъезд императора к заграничной армии мог служить сигналом к движению. Видя, что оставалось еще много сделать, а решительное время приближалось, она обратилась к Панину, чтоб добиться от него наконец чего-нибудь определенного. Сцена была любопытная, потому что трудно себе представить большую противоположность, чем та, какая существовала между осторожным, медленным Паниным и его пылкою осьмнадцатилетнею племянницею. Молодая женщина начала с признания, что составлен заговор с целью произвести революцию. Панин выслушал внимательно и начал настаивать на соблюдении форм при таком событии, на необходимости участия Сената. Дашкова отвечала, что это было бы очень хорошо, да трудно сделать. Потом Панин начал настаивать, и Дашкова должна была ему уступить, чтоб не выставлять прав Екатерины на престол, а передать ей только регентство до совершеннолетия сына. Но более всего Панин выражал свое беспокойство насчет дальнейших следствий переворота, насчет возможности междоусобия. «Только начнем действовать, – возражала Дашкова, – и не найдется ни одного человека из ста, который бы не признал причиною события гибельных злоупотреблений, для уничтожения которых нет другого средства, кроме перемены царствующего лица». Наконец Дашкова объявила имена соумышленников: двое Рославлевых, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Борятинский и Орловы. Некоторых из этих соумышленников Дашкова никогда и не видывала; но Панин встревожился, как далеко она зашла без предварительных соглашений с императрицею. Дашкова отвечала, что она не могла сообщить Екатерине своих планов, потому что исход дела был еще сомнителен; такое сообщение могло поставить императрицу в затруднительное положение и подвергнуть бесполезной опасности. Из своего разговора с Паниным Дашкова заметила, что в нем не было недостатка в мужестве и в охоте присоединиться к ним, но его нерешительность происходила от незнания, как они должны были действовать.
Из рассказа Дашковой ясно видно, какого рода был этот заговор, главою которого она себя считала. Она знала о сильном всеобщем неудовольствии, сама близко видела причины этого неудовольствия, сама раздражалась и потому хорошо понимала раздражение других; говорила некоторым молодым офицерам о необходимости произвести перемены в пользу императрицы, способной, по общему убеждению, дать ручательство в лучшем будущем; молодые офицеры совершенно соглашались, называли и некоторых других молодых офицеров, которые также были согласны с ними, говорили, что надобно непременно исполнить замысел, как скоро император уедет к заграничной армии; Дашкова говорила с Паниным, и тот соглашался, что другого средства нет спасти Россию, но как сделать и какие будут последствия? Дашкова постоянно употребляет слово заговор, но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор. Дашковой очень хотелось привлечь гетмана Разумовского в единомыслие, для этого она то подговаривала офицера Ласунского, то внушала Панину, чтоб тот сблизился с Тепловым и посредством последнего действовал на гетмана; но о последствиях этих внушений она ничего не знала. Репнин уехал в Пруссию. По словам Дашковой, было известно, что новгородский архиепископ Димитрий Сеченов разделял ее мысли, хотя и не находился в числе соумышленников, чему препятствовало его высокое положение. Дядя мужа Дашковой князь Михайла Никит. Волконский рассказывал, что и в заграничной армии господствовало всеобщее неудовольствие, солдаты сердились, что их заставляют теперь сражаться против старой союзницы Марии-Терезии, в пользу короля прусского, на которого они привыкли смотреть как на заклятого врага, и для Дашковой было очевидно, что Волконский вполне готов помогать им. Мы не имеем никакого основания отвергать свидетельства Дашковой о собственной деятельности, ибо из них выходит одно, что она хотела перемены в пользу Екатерины и при удобном случае толковала о своем желании с некоторыми людьми, но этим все и ограничивалось. Ее свидетельства очень важны, ибо ей очень хочется преувеличить свою роль, выставить себя главою заговора, но из собственных ее слов выходит, что роль ее была очень невелика.
Иностранные описыватели июньских событий 1762 года преувеличили участие в них Дашковой, точно так же как преувеличили значение Одара, которого деятельность тесно связали с деятельностью Дашковой, не умея, однако, показать, в чем, собственно, состояло участие иностранца, не знавшего по-русски. Одар был родом пиемонтец; канцлер Воронцов определил его в Коммерц-коллегию, но здесь было ему служить неудобно по незнанию русского языка, и Дашкова предложила императрице взять его к себе в секретари, и у иностранных писателей он является в этом значении. Но Дашкова говорит, что Екатерина не взяла Одара в секретари, во-первых, потому, что иностранная переписка ее была очень ограниченна, а главное, потому, что, стараясь приобресть расположение русских, не хотела иметь при себе секретарем иностранца, и Одар был сделан управителем одного небольшого имения, принадлежавшего собственно императрице. Дашкова утверждает, что Одар никогда не был ее поверенным, что она редко его видала и вовсе не видала три последние недели перед переворотом. Мы не имеем никакого основания не верить словам Дашковой; но хотя сочинения иностранцев о России и русских событиях обыкновенно преисполнены ошибками, преувеличениями и смешениями всякого рода, однако нет права предполагать, что участия Одара в июньских событиях не было никакого, что оно выдумано им самим и с его хвастливых слов повторено иностранцами; по всем вероятностям, ловкий Одар был употребляем для сношения Екатерины с преданными ей лицами точно так, как в 1758 году для подобного же дела служил Екатерине итальянец-бриллиантщик Бернарди; но Дашковой было неизвестно, что императрица сносится мимо ее с своими приверженцами.
Дашковой были неизвестны непосредственные сношения Екатерины с человеком, который больше всех хлопотал в ее пользу в войске, – с Григор. Григор. Орловым. Артиллерийский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного Кадетского корпуса, участвовал в Семилетней войне и резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью; сильная молодая природа (Орлову было в описываемое время 27 лет) требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворения: и в устройстве веселостей для товарищей, и в масонской ложе, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которой грозила беда, бывшая бедой и целой России. Кроме Орлова с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии двадцатидвухлетний офицер Хитрово и семнадцатилетний унтер-офицер Потемкин «направляли все благоразумно, смело и деятельно».
К концу июня, по словам Екатерины, между соумышленниками в гвардии считалось до сорока офицеров и около 10000 рядовых. В этом числе не оказалось ни одного изменника; соумышленники разделялись на четыре группы, и вожди групп собирались для решений, настоящим же секретом владели трое братьев Орловых. Исполнение замысла отлагалось до отъезда Петра к заграничной армии; но было решено в случае открытия умысла собрать гвардию и провозгласить Екатерину царствующею императрицею.