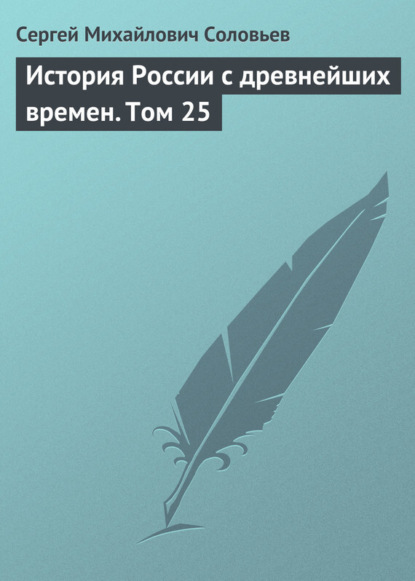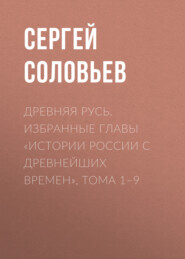По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 25
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Екатерина говорила Бретейлю: «Обо мне нельзя судить до истечения нескольких лет; мне надобно по крайней мере пять лет для восстановления порядка, а между тем со всеми государями Европы я веду себя, как искусная кокетка». Екатерина хотела мира, не хотела вступать ни с кем в союзные обязательства, которые могли иногда и против воли заставить воевать, и, когда все государи заискивали ее расположения, ее союза, она хотела отделываться, как искусная кокетка, не отказывать, не лишать надежды и не давать решительных обещаний. Она хотела, говорим, вести себя так, но это было трудно.
Россия выходила из войны и отказывалась от союзов; но при таком положении державе трудно сохранить важное значение. Для поддержания своего влияния Екатерина хотела быть посредницею мира, но воюющие державы не хотели принимать ее посредничества, ибо не видали в этом никакой пользы для себя; притом Пруссия была недовольна переменою русской политики и угрозами, которыми Екатерина понуждала ее к миру; Австрия была еще недовольнее тем, что Екатерина своим выходом из войны принуждала ее отказаться от Силезии, разрушала все ее надежды. Со стороны петербургского Кабинета было заявлено, что Россия относительно Польши и других держав будет держаться Пруссии, но что это не помешает ей относительно Турции держаться Австрии, иметь с нею одинакие интересы; в Вене не хотели признавать такой двойственности и, сердясь на Россию за союз с Пруссиею, тем теснее соединялись с Франциею и вместе с нею действовали против России в Константинополе. Точно так же Россия должна была выдерживать сильную борьбу с Франциею в Стокгольме. Наконец, Россия не могла долго сохранить свободное положение. Фридрих II соглашался содействовать России по делам польским, но он не хотел делать этого даром. Боясь вражды Австрии и Франции, находясь в разладе с Англиею, Фридрих нуждался в союзе с Россиею, в формальном оборонительном союзе, которым бы он мог стращать своих врагов: Семилетняя война доказала, как опасно бороться с державою, на стороне которой Россия. Напрасно петербургский Кабинет медлил, уклонялся от вступления в нежеланные обязательства: Фридрих II настаивал, и, чтоб иметь помощь его в делах польских, должны были заключить с ним союз.
Обратимся к подробностям.
Известие о событии 28 июня поразило Фридриха II как громом, по его собственному признанию; хотя донесения Гольца и возбуждали сильные опасения в самом Фридрихе и министрах его, однако все же не ожидали такой скорой развязки. Министр Финкенштейн писал Гольцу: «Я желаю одного – чтоб этот государь (Петр III), которого мы имеем столько причин любить и который, кажется, рожден для счастия Пруссии, жил и держался на русском престоле». Тяжело было лишиться могущественного государя, который, по словам Фридриха, служил Пруссии, как ее министр. Но делать нечего, надобно было покориться обстоятельствам. Чернышев первый объявил королю о восшествии на престол Екатерины и о приказании ему отделиться от прусской армии. Король стал упрашивать его подождать три дня, и Чернышев позволил себе согласиться; этими тремя днями Фридрих воспользовался для того, чтоб начать наступательное движение против австрийцев; он не мог рассчитывать на успех, если б отступление Чернышева ободрило австрийцев; расчет был верен, движение пруссаков увенчалось полным успехом. Швейдниц опять перешел в их руки. Вслед за тем начали приходить успокоительные для короля известия, что Екатерина не намерена разрывать с ним мира, и хотя удаление Чернышева было для него очень чувствительно, но он мог утешаться тем, что не будет обязан отделять части своих войск на помощь русским в датской войне. Против одних австрийцев можно было с успехом вести войну и между тем наблюдать, что делалось в Петербурге. 29 июня подписан был Екатериною рескрипт к князю Репнину в Берлин: «Каким образом мы по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению всероссийский императорский престол восприять, и тем государство и империум наш от всяких беспокойств и разорений освободить, и прежнее благополучие и порядок в оном восстановить за благо и потребно рассудили, оное усмотрите вы из приложенного при сем манифеста. Мы умедлить не хотим о сем Божеским справедливым и непостижимым руковождением и благословением воспоследованном важном происшествии чрез сие вам знать дать со всемилостивейшим повелением, чтоб вы предварительно тамошнему двору чрез министерство о том сообщили, обнадеживая о непременном нашем намерении сохранять добрую дружбу». К рескрипту приложена была также нота ко всем иностранным министрам в Петербурге от 28 июня; в этой ноте императрица уверяла их, что она имеет непременное намерение сохранять добрую дружбу с их государями. 1 июля написан был Репнину другой рескрипт: «Не может вам быть безызвестно, что во время последнего правления корпус генерала графа Чернышева в диспозицию королю прусскому послан был без всякого, однако, соглашения ни о времени его при сем государе пребывания, ни о взаимных, напротив того, с прусской стороны выгодах. Хотя и не имеем мы еще точного известия, соединился ли тот корпус с королем или нет, однако, где бы оный ни был, повелели графу Чернышеву не только от прусской армии отделиться, но и прямо в Россию назад идти. Нет, однако, намерения нашего разрушать нововосстановленный с сим государем мир и согласие, но паче, пока не подаст он с своей стороны явных к разрыву причин, склонны мы сохранять заключенный в 24-й день минувшего апреля месяца трактат. Уведомляя вас о сей нашей резолюции, повелеваем мы вам не таить оной в вашем месте, но паче при всяком случае именно изъяснять, что по человеколюбию ничего мы столько не желаем, как видеть и поспешествовать скорейшему прекращению военного пламени, от которого народы толико уже пострадали». 4 июля передана была Гольцу нота, что императрица не считает нужным Берлинский конгресс для улажения голштинских дел, а следовательно, становится ненужным и посредничество короля прусского.
В первой депеше своей новой императрице, от 12 июля из лагеря при Бегендорфе, Репнин описывал, как он известил Фридриха II о событии 28 июня, когда король еще не знал, что распоряжения Солтыкова не одобрены в Петербурге. Во все продолжение разговора король, по словам Репнина, «весьма был смутен, опасаясь чрезвычайно, чтоб не разрушилось как настоящее согласие между им и императрицею». Вечером король опять призвал к себе Репнина и расспрашивал, не может ли он дознаться, что подало повод сделанным в Пруссии объявлениям (по поводу обратного движения русских войск), не сомнение ли какое, чтоб он по прежним обязательствам хотел каким-нибудь образом препятствовать царствованию императрицы; при этом Фридрих уверял, что так как бывший император сам письменно отрекся от престола, то против такого обнародованного доказательства никому идти нельзя и что он хотя б и хотел, но собственные его дела к тому бы его не допустили; наконец, он тотчас и признал Екатерину царствующею императрицею. Фридрих требовал также, чтоб Репнин доложил императрице, угодно ли будет, чтоб барон Гольц остался министром при ее дворе.
Гольц не мог оставаться в России. 10 июля он писал королю: «Императрица питает ко мне отвращение за мою тесную связь с покойным (Петром III), предполагая, хотя и очень несправедливо, что я одобрял поведение покойного относительно ее. При моем виде она невольно должна припоминать дурное обращение, какое Петр позволял себе с нею в моем присутствии. Я и секретарь мой Дитель имеем против себя и двор, и народ. Стоит нам поговорить с кем-нибудь из русских, чтоб сделать его подозрительным в глазах других». Но еще Гольц мог уведомить короля, что в будущем представляется возможность союза между ним и преемницею Петра III. В Петербурге в это время находился граф Кейзерлинг, назначенный при Петре III послом в Варшаву. Кейзерлинг, приятель Бестужева (Алексея), подобно Корфу и Панину, был заклятым врагом Франции и сильно охладел к Австрии, когда та сама вошла в союз с Франциею и ввела в него Россию; в последнее время пребывания Кейзерлинга в Вене охлаждение превратилось во вражду, ибо он потерял прежнее значение, когда важнейшие дела во время Семилетней войны производились австрийскими послами в Петербурге и когда приятелям падшего канцлера Бестужева не оказывалось большого доверия. Екатерина, наслышавшись от Бестужева о способностях Кейзерлинга, была рада приезду последнего в Петербург, желая посоветоваться с ним вообще о внешних делах, и особенно о польских. Кейзерлинг, считая необходимым для России союз с Германиею против Франции и не желая теперь видеть представительницу Германии в Австрии, явился в Петербург с мыслию о необходимости прусского союза, особенно по отношениям к польским делам, ведение которых поручалось ему. Он объявил Гольцу: «Хотя теперь и не в интересах русского двора заключать оборонительные союзы с соседними державами, ибо эти союзы могут впутать его в чуждые ему распри безо всякой прибыли, так как Россия не имеет притязаний на какие-либо части соседних владений, однако я не думаю, чтоб императрица была далека от вступления с вашим государем в связи более тесные, чем в каких они теперь, а именно может быть заключен союзный договор, в котором можно постановить меры относительно Польши».
Но пока будущие союзники вели не очень дружественные переговоры.
Репнин опять писал, что Фридрих все еще не доверяет миролюбивым намерениям императрицы и когда он, Репнин, старался его успокоить, то король потребовал, чтоб он изложил свои уверения на бумаге, которую можно показать иностранным министрам, но Репнин на это не решился. Скоро, впрочем, успокоило короля письмо Екатерины (от 24 июля), где императрица уведомляла его о посылке своего указа исправить в Пруссии следствия недоразумений, возникших от «излишней ревности», разумея ревность Солтыкова. После этого Фридрих начал толковать, что начинается несогласие между Австриею и Турциею и дело идет к разрыву, но Репнин писал, что не совсем верит словам короля. В августе Репнин имел с Фридрихом разговор. Король начал говорить, что между французским и английским дворами начатые переговоры, как ему кажется, успеха не имеют и это ему удивительно, ибо он уверен, что обеим сторонам война сильно наскучила. «Я думаю, – сказал Репнин, – что и всем воюющим державам война в тягость». Когда король с этим согласился, то Репнин продолжал: «Граф Чернышев доносил уже императрице о миролюбивых склонностях вашего величества, которые сходны с желаниями императрицы, и ее величество не отречется употребить и посредничество свое для достижения мира». «Я этому очень рад, – отвечал король, – но без согласия своих союзников не могу приступить к такому важному делу, впрочем, от них препятствий не предвижу; опасаюсь венского двора, который, видя возвращение ваших войск, не так будет согласен на русскую медиацию». «Видя двоякость его мысли», Репнин отвечал, что русская армия находится еще так близко, что может «содействовать к сокращению безрассудных препятствий к спокойствию света». «Вышед из войны, – возразил король, – неприятно опять в нее вступать, а между тем войска могут быть нужны и в отечестве». «Россия, – сказал на это Репнин, – не имеет, кажется, причины чего-нибудь бояться, а хотя бы и была причина беспокойства, то войско ее величества так многочисленно, что часть его может возвратиться для умиротворения Европы, а другая остаться для безопасности отечества». Король не отвечал ничего.
В конце июля Екатерина дала своим советникам 8 собственноручно написанных пунктов: 1) Что мне надлежит делать в теперешние конъюнктуры, клонящиеся во всей Европе к миру, по сообщениям аглинского министра Кейта? 2) Послать ли в Аугсбург на конгресс министров и с какими инструкциями? 3) Надлежит ли сообщать другим державам про позиции о медиации, которую король прусский мне чрез генерала Чернышева оферировал? 4) Надлежит ли нашим войскам в Россию повернуться по теперешним обстоятельствам? 5) Имеем ли мы причины, дав слово о содержании мира с королем прусским, оный мир за полезный почитать и в противном случае оный по-своему переделать, к чему нам может ли служить сепаратный артикул оного мира? 6) Надлежит ли возобновительный трактат союзный с венским двором содержать в своей силе или что в нем поправить? 7) Надлежит ли ныне королю прусскому представить, чтоб разоренную Саксонию от войск своих очистил и возвратил в прежнее владение? 8) Не подается ли повод к непринятию здешней медиации тем, что войска в Россию возвращены быть имеют, и не ослабеют ли такие же здешние негоциации на конгрессе?
10 августа старик Бестужев представил свои ответы при следующем письме: «По данным от в. и. в. собственноручно писанным осьми пунктам, сколько я мог, не будучи у дел чрез полпята года, также при настоящей старости и от понесенных печалей слабости и короткой памяти в рассуждение взять и примыслить, о том всеподданнейше приношу при сем же мое слабейшее мнение и, понеже оное не столь обширно сделано, как я за 17 лет тому назад, а именно в 1745 году, будучи тогда непрестанно при делах и в лучшей памяти, обстоятельное свое мнение имел честь поднести ее в-ству блаженной памяти любезной тетке вашей г. и. Елисавете Петровне, того ради дерзаю толь пространным приложением оного в. и. в. утруждать по причине, что в. в. изволили ко мне отзываться, что той ли я был системы, дабы короля прусского ослабить в его силах. И в. в. из оного усмотреть изволите, что я подлинно таким был, да и ныне при той же системе пребываю неотменно, предоставляя, впрочем, высочайшему и просвещенному в. в. рассуждению и повинуясь всегда к раболепному исполнению монарших ваших повелений».
На первый пункт Бестужев отвечал, что Россия должна побуждать воюющие державы к миру. На второй: надобно стараться, чтоб русские министры были приглашены на конгресс, хотя и трудно теперь этого достигнуть вследствие заключения отдельного мира России с Пруссиею; когда русские министры приглашены будут на конгресс, то им должно дать инструкцию, чтоб прежние русские союзники получили, сколько возможно, умеренное вознаграждение за их убытки и разорения и чтоб тем отчасти сокращены были многие силы короля прусского, как весьма опасного для соседственных держав на будущие времена, а особливо дабы не в состоянии он был за нынешнюю войну отомстить России, и чтоб присутствием на конгрессе русских министров императрица получила не только славу, но и могла быть ручательницею договора, не допуская ничего противного русским интересам. На третий: сообщить другим державам прусское предложение о посредничестве неприлично, ибо король упомянул об нем графу Чернышеву только в разговоре, и хотя повторил то же и князю Репнину, но такие предложения обыкновенно делаются на письме. На четвертый: полезнее было бы всей русской армии остаться еще в завоеванных у Пруссии землях; но когда уже дано повеление армии возвратиться, то надобно до 30000 войска оставить в Польше по реке Висле и, сверх того, на границах содержать до 50000 войска и тем заставить желать русского посредничества и заставить уважать его. На пятый: когда государственная казна истощена, то и худой мир надобен; но так как мир с Пруссиею заключен в ущерб славе и чести русского двора и без ведома союзников, то полезным считаться не может, и лучше было бы его переделать, как только будет к тому справедливая причина. На шестой: так как прежний договор с венским двором ослаблен миром с Пруссиею, то надобно его возобновить как с естественным союзником по отношению к Турции и прочим соседям. На седьмой: надобно требовать от Пруссии и Австрии, чтоб вывели свои войска из Саксонии. На осьмой: если все русские войска возвратятся внутрь России, то, разумеется, у воюющих держав не будет побуждения требовать русского посредничества.
Неплюев утверждал, наоборот, что содержать русскую армию в Польше на Висле, в местах, уже опустошенных, будет страшно дорого и потом этим возбудится подозрение в соседних державах, ибо чем объяснить такую остановку войска? Наконец, поляки станут волноваться.
Князь Волконский подал мнение, почти буквально сходное с мнением дяди своего Бестужева.
Вице-канцлер князь Голицын подал мнение, что когда русские министры будут приглашены к конгрессу, то должны домогаться, чтоб умножившуюся чрез меру силу короля прусского привести в умеренные пределы удовлетворениями в пользу прежних русских союзников для будущей безопасности его соседей и для германского равновесия. Это тем полезнее для России, что уменьшится сила единственного теперь опасного для России соседа; а сила эта должна увеличиться Барейтскою и Аншпахскою областями, которые отойдут к бранденбургскому дому вследствие бездетной кончины их маркграфов. Не возвращать хотя часть войск из прусских областей до общего мира для сдерживания этим смелого и предприимчивого нрава короля прусского. По словам графа Мерси, венский двор с радостию стал бы продолжать субсидию, если б только русские войска остались на Висле. Нужно возобновить оборонительный договор с венским двором как с естественным союзником.
Воронцов также полагал, что хорошо бы оставить корпус русских войск в Пруссии и Польше; но «должно в рассуждение принять, что для благосостояния империи нужно сохранить мир, каков он ни есть, ибо и счастливые успехи воинские изнуряют довольно силы государства, умалчивая о несчастных приключениях всякого рода. Мир с королем прусским не может быть почтен полезным, но не остается почти способа переделать его».
Решено было сохранять мир и выводить войска из прусских областей, а между тем понуждать прусского короля к миру с Австриею и Саксониею, но, разумеется, последнего трудно было достигнуть при первом.
К Репнину был отправлен такой рескрипт: «Из реляции вашей усматриваем мы, к сожалению нашему, что король прусский по мере удаления войск наших из земель его стал все больше открывать пред вами свое отвращение к миру. Не так удивителен, как неприятен нам его поступок, ибо из него не без основания можно заключить, что он намерен продолжать войну, может быть, в той надежде, что мы, оставя раз войну, не захотим скоро опять ее начать; с другой стороны, взятие Швейдница приводит его в состояние действовать наступательно против австрийского дома и принудить императрицу-королеву силою оружия к такому миру, которым бы он мог на будущее время сохранить и утвердить перевес свой и бранденбургского дома в Германии. Так как наше желание и старание совсем другие, а именно чтоб скорым окончанием войны установить в Германии столь нужное для интересов нашей империи равенство сил и для того способствовать императрице-королеве в удержании того, что ею уже действительно завоевано, то не можем мы теперь оставаться спокойны, пока не узнаем прямо и точно мысли его прусского величества, дабы, применяясь к ним, располагать и собственные наши меры. Вы поэтому должны сыскать удобный случай внушить королю в разговоре будто от себя, что приметная его склонность к продолжению войны отнюдь не может нам быть приятна по миролюбию нашему и принятым правилам и потому вы опасаетесь, чтоб она не удержала нас от вступления с ним в большую дружбу и короткость, хотя и есть между обоими дворами некоторые общие интересы. Когда речи и поступки короля прусского и впредь будут обнаруживать упорство его в продолжении войны, то вы должны выказывать нашу склонность и доброжелательство к венскому двору; по требованию обстоятельств вы должны отзываться, что по естественным интересам обоих императорских дворов мы не можем оставить вовсе императрицу-королеву. Если бы король прусский был убит в каком-нибудь сражении, что на войне случиться может, то повелеваем вам преемнику его формально и немедленно предложить нашу медиацию с обещанием несомненного чрез посредство наше мира».
Репнин увеличивал беспокойство императрицы, донося, что Фридрих имеет намерение овладеть Саксониею и что когда он, Репнин, стал представлять ему об очищении этой страны, то он стал обходиться с ним холодно, так что Репнин просил у императрицы позволения уехать из лагеря в Берлин, чтоб не подвергнуть неучтивости свой посольский характер. Когда Репнин представил Фридриху о миролюбии венского двора и о согласии его вступить в мирные переговоры и заключить перемирие, то король отвечал, что он не отрекается от выгодного мира, но на невыгодный никогда не согласится и прежде постановления прелиминарных пунктов перемирие заключено быть не может; венский двор, если желает, может сделать предложение, но он с своей стороны не имеет сделать никаких предложений и на конгресс никогда не согласится; военные заботы не оставляют ему времени для мирных переговоров, тем более что министерства своего при себе не имеет. Репнин заметил: «Зима приближается и дает вашему величеству свободное время; о месте и способе переговоров нечего говорить, лишь бы было желание мира». «На конгресс никак не соглашусь, – отвечал Фридрих, – предложений никаких делать не имею и оставляю на волю венского двора их сделать». «Ваше императ. величество, – доносил Репнин, – изволит усмотреть, что негоциациями способу нет короля к миру склонить, разве ему оставить все те же владения, которые прежде войны имел, и никакой индемнизации никому не требовать; ежели же венский двор какие-либо ни есть авантажи получить желает, то оные инако достать не может как твердостию своего оружия. Кампания нынешнего года совсем в пользу короля обратилась, чем еще более его мысли возвысились, и если сверх того какие авантажи еще получит, то боюсь, чтоб сам не задумал хотеть индемнизацию за убытки сей войны».
Екатерина настаивала, чтоб прежде всего Фридрих вывел свои войска из Саксонии и дал ее курфюрсту, королю польскому, вознаграждение за разорение его земли. «Мы предусматриваем, – говорилось в рескрипте императрицы Репнину, – что сия материя неприятна будет королю, но справедливость тем не меньше требует, чтоб обидчик сделал обиженному удовольствие, и для того надобно вам при всяком случае пристойно напоминать, что без удовлетворения королю польскому как саксонскому курфюрсту мир прочно установлен быть не может». «Король, – писал Репнин, – когда я чуть коснусь этой материи или восстановления мира, прерывает разговор и с неудовольствием от меня уходит. Так, получа известие, что австрийцы покушались напасть на принца Генриха, сказал мне: „Я вижу, как они намерены оставить Саксонию; они только стараются всячески меня оттуда выбить“. Я заметил ему, что австрийцы без его согласия не могут оставить Саксонию, но сами они вполне на это готовы, лишь бы он показал такую же готовность. „Я уже давно знаю, чему верить и чему не верить“, – отвечал король». Репнин писал, и, конечно, слова его должны были произвести неприятное впечатление, показывая вред, происшедший от изменения елисаветинской системы относительно Фридриха II: «При восшествии вашего величества на престол граф Чернышев и я доносили, что король не прочь от мира. Но обстоятельства с тех пор совсем переменились: страх оружия вашего величества миновался с возвращением русских войск в отечество; Швейдниц взят, австрийцев захвачено в плен до 15000 человек, а у них только от 2000 до 3000 прусских пленных. Помянутые преимущества возвысили здесь желания и совершенно переменили мнения, и, сверх того, и природный нрав короля много участия в том имеет».
Екатерина собственноручно написала Иностранной коллегии для передачи Репнину: «При пристойном случае князю Николаю Репнину в разговоре внушить королю прусскому будто бы от себя, что видимая его склонность к войне может удержать меня от вящей дружбы с ним, королем, хотя и некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику подавать виды склонности к венскому двору; а когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае крайнее мое желание видеть мир и тишину. Еще секретнейшее наставление князю Репнину дать: если король в его, князя, бытность убит бы был, чтоб он тогда формально наследнику медиацию нашу офрировал с обещанием неизменного мира». Наконец, Репнин должен был внушить Фридриху, что в случае продолжения войны Россия принуждена будет всеми способами помогать венскому двору. «Сомневаюсь, – отвечал Репнин, – чтоб можно было склонить короля к какой-нибудь уступке, разве сделать это силою оружия, а иначе невозможно». Представления посланника подкреплялись письмом самой государыни. «Я, была бы очень рада, – писала Екатерина Фридриху, – устранить все то, что может вредить доброму согласию между нами, но я не вижу к тому средства, если в. в. не выйдете из настоящей войны. Я вам скажу просто: нет ли возможности заключить мир? Я бы могла действовать иначе, у меня были средства в руках и теперь еще есть. Я пожертвовала существенными выгодами войны любви к миру; надобно надеяться, что другие последуют этому примеру, тем более что до сих пор они могут иметь в виду выгоды еще идеальные только. Вся трудность состоит в вознаграждении саксонскому двору: можно устроить какое-нибудь помещение для одного из принцев этого дома». Письмо оканчивается угрозою: «Я знаю, что венский двор склонен к миру. Я могла бы сообщить вам его предложения, если бы со стороны в. в-ства могла ожидать того же; но, к несчастию, вы отказались от этого, и я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не исполнятся и я буду принуждена принять меры, противные моим желаниям, склонностям и чувству дружбы».
26 ноября Репнин имел разговор с министром иностранных дел графом Финкенштейном. Репнин представил решительно о необходимости очищения Саксонии и вознаграждения ей, без чего прочный мир невозможен. Финкенштейн отвечал: «Правда, Саксония страдает, но гнев королевский на нее происходит от уверенности, что она была причиною войны, на что есть и письменные доказательства. Прежде с русской стороны упоминалось только об очищении Саксонии, а теперь пошло дело уже и о вознаграждении». «Секреты кабинетов остаются в тайне между государями, – сказал Репнин, – и я об них ничего не знаю, а известно мне и всему свету, что король прусский первый вошел в Саксонию и с тех пор какие страдания она терпит. Вознаграждение же Саксонии справедливо следует по натуральному праву: обиженный должен получить удовлетворение от обидчика. Удаление его величества от очищения Саксонии и от мира приводит меня в страх, чтоб от этого упорства не последовала холодность между ним и ее императ. величеством; боюсь, чтоб ее величество не была принуждена совершенно обратиться к венскому двору». «Холодности с нашей стороны никогда не будет, – отвечал Финкенштейн, – король твердо намерен сохранять дружбу с императрицею». Во все время разговора, доносил Репнин, Финкенштейн был в великой торопости, говорил он дрожащим голосом и сам дрожал.
21 декабря Финкенштейн объявил Репнину именем королевским под крайним секретом, что венский двор сделал мирные предложения чрез посредство саксонского двора и король отвечал, что он не удален от мира, лишь бы условия были разумные, вследствие чего с обеих сторон назначены поверенные в делах. Венский двор требовал, чтоб дело велось тайно, но король, будучи обязан истинною дружбою с русскою императрицею, признавая с благодарностию человеколюбивое желание ее относительно восстановления общей тишины, также и в доказательство, что он от мира не удаляется, не хотел этого скрыть. Репнин отвечал, что императрица, конечно, с удовольствием услышит об этом начале к прекращению бедствий человечества и по возможности будет способствовать к отвращению всяких тому препятствий, если только король откровенно и точно изъяснится. Финкенштейн отвечал королевским именем, что король немедленно отправит прямо к императрице свои мирные условия.
А между тем преемник Гольца граф Сольмс, приехавши 18 декабря к канцлеру на вечер, вступил с ним под видом разговора в подробные рассуждения о делах. Король, его государь, удивляется, начал Сольмс, как сильно ее величество изволит интересоваться саксонским двором, когда тот поступками своими не только не заслуживает заступления ее величества, но более достоин мести за радость, оказанную им при известии о заговоре (хрущовском) против ее величества; он, граф Сольмс, может уверить, что при этом случае дрезденский двор везде разглашал в Польше, что хотя первое покушение было и неудачно, однако новое покушение, которое последует в ноябре, непременно произведет перемену в правлении. Если бы король в угодность императрице захотел очистить Саксонию, то как бы он мог увериться, что не подвергнется нападению в сердце своих владений, имея столько опытов вражды и ненависти дворов венского и дрезденского, которые до войны думали уже о раздроблении областей его. Король готов заключить мир с австрийским домом, если только тот отстанет от своих требований и захочет удовольствоваться тем, чем каждый владел до войны. Так как великобританский двор при заключении мира с Франциею в противность торжественных обнадеживаний вовсе пренебрег интересами его прусского величества и вообще начал оказывать к нему большую холодность, то король опасается, чтоб лондонский двор, скрывая несправедливость своего поступка, не захотел распространить своих вредных для короля внушений и при здешнем дворе, тогда как король, напротив, употребляет всевозможное старание сохранить дружбу с ее величеством. Канцлер отвечал, что ее величество заступается за польского короля по дружбе к нему, по его усильным домогательствам и особенно по принятому однажды навсегда правилу – стараться по возможности о скорейшем прекращении народных бедствий. Ее величество не без причины ожидала со стороны прусского короля большей податливости и снисхождения к ее заступлению, тем более что Саксония и без того уже почти вконец разорена. Опасение австрийского нападения чрез Саксонию на прусские земли не может служить отговоркою, ибо в русском предложении точно обозначено, что Саксония будет немедленно занята войском своего курфюрста, который во всю войну будет соблюдать строжайший нейтралитет. Внушение о странной радости, будто б оказанной польским двором по поводу заговора, тем удивительнее, что об этом не было извещения ни от русского министра в Польше, ни от кого другого; наконец, мнимый раздел прусских земель, в котором обвиняются теперь дворы венский и дрезденский, никогда не был доказан, хотя с прусской стороны весь саксонский архив силою взят и многие бумаги из него изданы. На это Сольмс заметил, что у короля в руках находятся явные доказательства замысла о разделе его владений.
Фридрих не думал, чтоб Екатерина при тогдашних обстоятельствах решилась начать войну, и особенно войну с ним из-за Австрии и Саксонии. В декабре он писал Финкенштейну: «При настоящих обстоятельствах надобно выигрывать время и идти потихоньку (a pas mesures). До сих пор я не знаю, в каких отношениях мы с Россиею; я имею важные причины думать, что там не захотят разорвать с нами; императрица уводит свои войска внутрь страны, и я не думаю, чтоб Австрия имела большое влияние в Петербурге».
Какую печаль произвело событие 28 июня в Пруссии, такую же радость возбудило оно в Дании.
29 июня уже был отправлен к Корфу рескрипт, что если он находится на дороге в Берлин, то пусть возвращается туда, где находится датский король, и удостоверит его в искреннем желании императрицы ненарушимо сохранять и продолжать союзническую дружбу; внушить, что императрица с сожалением видела, как доходили до крайности несогласия с Даниею по голштинским делам, и все предприятия против Дании признавала за несходные с интересом своего государства, благополучие которого предпочитала всем посторонним видам. Теперь императрица желает оставить все на прежнем основании, полагая за правило, что голштинские дела не могут служить поводом к нарушению доброго согласия России с датским двором.
Корф был уже в Берлине, когда получил этот рескрипт; он немедленно отправился в Копенгаген и оттуда в загородный королевский замок Фриденбург, где его ожидали с нетерпением и приняли с великою радостию. Король не находил слов для выражения своей благодарности императрице за ее уверения в дружбе и распространился о своем уважении к русскому народу. «Вы свидетель, – говорил он Корфу, – как я всегда почитал русский народ, это почтение усилилось вследствие храбрых действий русских войск в настоящей войне, мне было жаль вступить в кровопролитную борьбу с народом, которого я ничем не оскорбил». «Не только двор, – писал Корф, – но и все жители датских провинций, чрез которые я проезжал, до последнего крестьянина обнаруживали радость вследствие нечаянной перемены в их судьбе; да исполнит Всевышний все то, чего эти бедные люди желали вашему величеству. Совершенно другое обнаружилось в Берлине и бранденбургских землях, когда там узнали о вступлении на престол вашего величества: ужас был так велик, что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург».
Но в Дании слишком много рассчитывали на равнодушие Екатерины к Голштинии. Датский король объявил, что по договору между ним и шведским королем как принцем голштинского дома последний отказался в его пользу от опекунства в случае малолетства герцога голштинского. Теперь, по мнению датского короля, этот случай настал по малолетству великого князя Павла Петровича, и он, король датский, должен вступить в опекунство, следовательно, и управление герцогством. Но Екатерина собственноручно написала Иностранной коллегии: «Тем наипаче, что при вступлении моем на всероссийский престол всем державам объявлено, сколько я желаю мир и тишину, ныне удивления достоин поступок короля датского, который объявил мне, будто он права имеет обще со мной опекунство сына моего в Голштинии на себя взять. Я оные права признать не могу. В Римской империи младший принц без ведома старшего своего дома не может в повреждение того заключить трактат. Бывший император не ведал и никогда не апробовал трактат короля шведского, младшего принца голштинского дома, с королем датским в предосуждение своих братьев и наследника Петра III. Мать по всем Римской империи правам имеет опекунство сына своего, и король датский сам подкреплял в саксен-веймарском доме недавно случившийся случай. Сколько наиболее при всего умного света (т. е. по признанию всех умных людей) права самодержавной императрицы подкрепляет поверенность целого обширного народа – всякому на рассуждение отдается. С королем датским же в негоциацию отнюдь вступать не буду до тех пор, что все его войска из Голштинии не выведены». Екатерина назначила администратором известного принца Георгия в награду за его родственное заступничество за нее при Петре III. Разумеется, Дания должна была уступить, и министр иностранных дел барон Бернсторф объявил Корфу, что намерение короля в этом деле было самое невинное: «Он хотел только с своей стороны действительно доказать участие в интересе, в приращении германских владений великого князя, следовательно, получить более случаев к изъявлению его высочеству опытов своей искренности, дабы приобресть будущую этого государя дружбу, которая королю и землям его очень нужна; но, усмотря, что императрица относительно соопекунства и администрации голштинских земель не одного мнения с королем, последний не преминет отказаться от своего права для показания высокопочитания и самой искренней дружбы своей, какую только ее величество вообразить себе изволит».
Событие 28 июня, возвратившее Корфа из Берлина в Копенгаген, удержало Остермана в Стокгольме. 29 июня отправлен был к нему рескрипт с извещением о восшествии на престол Екатерины и с приказанием уверить короля в намерении новой императрицы непременно содержать добрую дружбу с шведским двором. Король велел отвечать, что хотя не мог без сожаления услышать по ближнему родству с бывшим императором Петром III o наведенном им самим на себя приключении, однако, приняв в уважение важные причины, принудившие императрицу предаться материнскому попечению о благе Российской империи, и еще ближайшее родство с нею, с наичувствительнейшим удовольствием услышал о счастливом ее восшествии на престол и о намерении сохранять дружбу со Швециею; король с своей стороны не преминет утверждать эту дружбу всеми силами. Это Адольф-Фридрих доказал немедленно совершенным отстранением своим от участия в деле по претензиям датского короля на голштинскую администрацию.
Относительно новой инструкции графу Остерману канцлер Воронцов подал императрице доклад: «Графу Остерману в начале еще последнего правления дан был указ шведского короля и королеву, также и партию их подкреплять везде и при всяком случае, но так как это беспредельное повеление может касаться и ниспровержения установленной в Швеции формы правления, то не соизволено ль будет его отменить?» Екатерина отвечала собственноручно: «Ограничивая форму правления, подкреплять партию, противную господствующей».
В сентябре Остерману удалось добыть и переслать в Петербург донесение шведского посланника при русском дворе Поссе о состоянии Российской империи. Поссе начинает ближайшим к себе делом – отношениями России к Швеции, о которых пишет, что было бы желательно, если бы они навсегда остались такими, как теперь. Затем Поссе переходит к военной силе России: регулярное войско простиралось до 304953 человек, нерегулярное – до 32000; но из этого числа в поле не может быть выведено более 100000 человек; полки никогда в комплекте не находятся: так, в пехотном полку следует быть 2637 человекам, но в нем постоянно недостает от 600 до 700 человек, ибо Военная коллегия старается иметь сколько возможно порожних мест, чтоб остающимся жалованьем обогащать свою казну. Кроме того, от беспрестанных переходов армейских полков по такому обширному государству из одной провинции в другую много людей пропадает; сюда же должно присоединить природную ненависть русских к военной службе и трудность в наборе и пересылке рекрут. В счет людей в полках входят офицеры, унтер-офицеры, капралы, лекаря, попы, писаря, музыканты, плотники, кузнецы, денщики, погонщики, что составляет от 600 до 700 человек в каждом полку. Русский солдат питается дурною пищею, находится постоянно в тяжелой работе, лишен хороших лекарей и лекарств; по этим причинам четвертая доля полка лежит в госпитале, а больного солдата можно почитать пропадшим по дурному за ним уходу, так что в каждом полку остается только от 800 до 900 человек. Русские к солдатству не способны и не имеют искусных генералов, исключая некоторых иностранцев. Во время настоящей войны находившиеся в русской службе чужестранцы и лифляндцы обойдены и пренебрежны, и в последние годы несколько тысяч способных и искусных иностранных офицеров принуждены были просить увольнения и получили его без всякого затруднения. Сухопутный и Морской кадетский корпуса могут почитаться плодовитым садом, доставляющим способных офицеров. Флот состоит из 31 линейного корабля, а с судами других названий число военных кораблей – 42, галер – 99. Старшие корабли в плохом состоянии и так гнилы, что едва можно их починить; вообще флот в дурном состоянии, потому что корабли строят неискусно: 99-пушечный корабль «Елисавета», построенный в 1745 году, не мог быть употребляем на море, потому что на бок валится; казанский дубовый и архангельский сосновый лес, употребляемые для кораблестроения, мягки и неплотны; Кронштадтская гавань не имеет соленой воды; семимесячное в году окружение корабля снегом и льдом очень много вредит им. Русский флот будет всегда в посредственном состоянии по недостатку искусных матросов; этот недостаток будет существовать до тех пор, пока Россия не будет употреблять для своей торговли собственных морских судов.
«Если бы Россия умела пользоваться выгодами, которыми так богато одарила ее природа, то она могла бы довести свою торговлю до высшей степени процветания; но у русских нет для этого ни достаточной вольности, ни достаточного знания и кредита, ни достаточного количества денег; их знатнейшие купцы суть только комиссионеры купцов иностранных, преимущественно английских. В Россию ввозится иностранных товаров на три миллиона 2715 рублей, а вывозится – на четыре миллиона 700000 рублей; но для избежания тяжкой пошлины привозимые товары по меньшей мере объявляются третью ниже истинной цены, а сверх того, мимо таможен тайным образом провозится множество товаров, так что большой разницы между вывозом и ввозом быть не может. Торговля сильно страдает от высоких таможенных пошлин: можно положить, что все товары платят по 40 процентов пошлины. Немало способствовало уменьшению русской торговли на несколько лет, а может быть и навсегда, запрещение отпуска из государства некоторых произведений. Пока лифляндские закромы были отворены, Швеция ежегодно брала оттуда по нескольку тысяч ластов хлеба, но когда вывоз хлеба из России был запрещен, то Швеция нашла внутри себя средство помочь этой беде: запрещено было безрассудное винокурение и введена лучшая система в земледелии. Монополии принадлежат к числу важнейших причин, умаляющих торговлю; сюда же должно отнести проволочку времени, обиды, бесконечные хлопоты и взятки, берущиеся во всех таможнях. Когда таможни были у короны, то купцы платили пошлины в конце года оптом и капитал был у них свободен целый год, но когда таможни были отданы на откуп, то купцы принуждены очищать таможенную пошлину тотчас по выходе товара из таможни. Таможенные откупщики обязались платить в год 3000000 рублей, но так как вследствие повышения пошлин торговля уменьшилась, то они оказались несостоятельными.
О фабриках правительство не заботится надлежащим образом, а частные люди не имеют достаточно денег и кредита, и потому фабрики или совершенно упадают, или не совершенствуются; русские ремесленники не в состоянии добыть себе лучших инструментов и материалов и потому работают дурно, хотя работа их и дешево продается, но по доброте никак не может сравняться с иностранною».
Остерман с своей стороны доносил императрице о печальном состоянии Швеции, недостатке денег, страшной дороговизне, всеобщем ропоте на правительство, о мысли созвать чрезвычайный сейм. Остерман писал, что вследствие всеобщего неудовольствия может быть восстановлено самодержавие, ибо никогда еще не слыхал он таких ожесточенных выходок против настоящей формы правления. Противники придворной партии утверждали, что она имеет целию восстановление самодержавия, указывая на то, что ею управляет королева и самый влиятельный член партии, полковник Синклер, вполне предан королеве. Остерман при случае завел с Синклером речь о его намерениях: тот отперся от намерения ввести самодержавие, объяснил, что единственная его цель – уничтожение известных беспорядков, а это не может быть сделано без пересмотра существующей формы правления, без отстранения заключающихся в ней противоречий, установления фундаментального закона, которого нельзя было бы переменять при каждом сейме, и без точного определения границ королевской и сенатской власти. На вопрос Остермана, каким способом он может этого достигнуть при такой силе французской партии, которая до этого не допустит, Синклер отвечал, что без денег что-либо сделать трудно и если бы он мог получить только третью часть того, что издерживает французский двор в Швеции, то мог бы достигнуть больших результатов. На вопрос, а если он этих денег не получит, что предпримет в таком случае, Синклер отвечал, что в таком случае надобно потерпеть до времени, пока народ не откроет наконец глаз и сам не подумает о своем спасении. Последний сейм, писал Остерман, кончился без решительного перевеса ни придворной, ни французской партии.
Важнее были польские дела. Мы видели, что при Петре III вместо Воейкова русским послом в Варшаву был назначен граф Кейзерлинг; Екатерина не переменила этого назначения, но оставила Кейзерлинга на несколько времени в Петербурге для совещаний, и делами посольства в Варшаве управлял резидент Ржичевский. Мы видели, что королевский двор, повергнутый в отчаяние переменою русской политики и тесным союзом Петра III с Фридрихом II, утешался слухами, что в Петербурге произойдет скоро переворот. В депеше от 16 июня прусский министр Бенуа доносил своему королю, что приезжие из Петербурга рассказывают, как императрица любима русским народом. Слухи оказались справедливыми, в России произошла перемена, но польско-саксонский двор ничего от нее не выиграл, выиграла враждебная ему партия Чарторыйских. Ржичевский не умел или не хотел отстать от старых елисаветинских инструкций, по которым русские министры в Польше должны были держать себя беспристрастно относительно тамошних партий и не раздражать двора из-за Чарторыйских; притом же Ржичевский теперь мог бояться Бестужева, известного приверженца польско-саксонского двора, а послом в Польшу был назначен Кейзерлинг, приятель Бестужева. Но Чарторыйские послали жалобу на Ржичевского, который вследствие этого получил выговор от канцлера: «Из полученных мною от вашего высокоблагородия писем, также из отправленных вами к высочайшему двору реляций с неприятностию усмотрено здесь о невоспоследовавшем, согласно здешним видам, успехе в порученных вам делах. Вам точно предписано, чтоб вы в рассуждении сеймовых дел в Польше с князьями Чарторыйскими яко благонамеренными в крайней конфиденции о здешних намерениях изъяснились и до приезда господина посла графа Кейзерлинга в сем пункте по присоветованиям их поступки ваши учредили, також чтоб вы со стороны высочайшего нашего двора у его польского величества домогались, дабы на прошение канцлера князя Чарторыйского пожалованием обоих литовских писарей в порожние чины воеводы виленского и гетмана литовского снизойти соизволил и что король сам себе обяжет такую фамилию, которая прежде много усердия и преданности к интересам его величества оказывала и только обстоятельствами от продолжения оных отведена была, и напоследок чтоб вы уведомили оного канцлера и обоих кандидатов о здешнем заступлении, требуя взаимно при всяком случае содействования их для поспешествования здешних интересов, кои толь тесно соединены с благосостоянием их отечества. Но содержание сих рескриптов вы весьма худо поняли и совсем противное здешним намерениям исполнение сделали, ибо вы, вместо того чтоб согласное и откровенное сношение с фамилиею князей Чарторыйских иметь, совсем другое им, как о том здесь уведомлено, внушали, хотя всего больше надлежало вам стараться, чтоб по довольно известным тамошних разных партий распрям и интригам графа Бриля и прочих ссоры их до крайности не доводить, преклоняя их к умеренным поступкам и прекращению вражды, тем более что ее императорского величества намерения отнюдь нет, чтоб чрез здешнюю протекцию фамилий князей Чарторыйских малейшее огорчение королю польскому учинить. А когда вы принуждены были для разрыва сейма подкупить посла Цехановского, то не должно было ему дозволить внести в манифестацию укорительные для России дела. Впрочем, имею еще приметить, чтоб вы воздержались по внушениям других писать неправильно в предосуждение дознанной здесь благонамеренности фамилии князей Чарторыйских, но впредь по точному содержанию отправляемых к вам отсюда наставлений поступали и вообще в поступках ваших наблюдали здешние виды и сопряженные с оными интересы высочайшего нашего двора».
Ржичевский оправдывался в письме к канцлеру: «Упомянутое мною злоупотребление князьями Чарторыйскими высочайшего покровительства состоит в том, что когда я их об этом покровительстве уведомил, то они советовали мне ехать к примасу, коронному гетману и прочим, дать им знать о новых отношениях русского двора к ним, Чарторыйским, склоняя упомянутых вельмож войти с ними в соглашение и держаться их, и, прежде чем я успел переговорить с примасом и гетманом, Чарторыйские уже разгласили об императорском покровительстве, ибо некоторые сенаторы и министры на другой же день спрашивали меня, правда ли, что императрица готова одобрить все сделанное Чарторыйскими и во всем их подкреплять. На мой вопрос, откуда они это взяли, я получил ответ, что сами Чарторыйские хвастаются получением такого объявления от русского двора через меня. Тогда я принужден был объявить, что подобной декларации Чарторыйским не делал, а объявил им только желание императрицы доставить им своим ходатайством у короля те чины, которых им хотелось. Правда, князья Чарторыйские – люди великие, только не составляют же здесь большую часть республики, много еще есть сильных и к России расположенных домов, которые также за честь себе почитают получить высочайшую благосклонность, хотя бы с князьями Чарторыйскими и находились в несогласии; следовательно, поступаю я так, как за лучшее рассуждаю, т. е. чтоб не только князей Чарторыйских подкреплять, но и других не раздражать. Князья Чарторыйские сами жалеют теперь о своей поспешности, которая им никакой чести не приносит и по которой они с графом Брилем так рассорились, что нет никакого средства их примирить. Они предъявляли мне, что у шляхетства имеют кредит, но тотчас оказалось, что он был на другой стороне: под изданным ими манифестом подписались гораздо менее, чем под манифестом графа Бриля. Как старых друзей их нельзя покинуть, чтоб и другие имели на Россию добрую надежду, но действовать против графа Бриля и двора, особенно в нынешнем деле, было бы предосудительно».
Оправдание не помогло, что видно из собственноручной заметки Екатерины: «Тесная голова Ржичевского не могла понять, что если ему приказано было у двора рекомендовать к произвождениям те персоны, о которых Чарторыйские просили, он мог их также рекомендовать и у примаса и прочих; лучше всего видится, дабы вперед там не думали, что мы двоякую роль играем, приказать ему по наставленьям Кейзерлинга; я, сверх того, вижу, что Ржичевский весьма влюблен в графа Бриля, а я желаю, чтоб не по собственным страстям, но по моим приказаниям поступлено было. В силе сего, однако ж, без выговора и умеря слова, наставление ему дать надлежит для переду».
Самое тяжелое поручение, которое должен был выполнить Ржичевский, состояло в подаче польскому министерству грамоты, извещавшей о решении Екатерины восстановить на курляндском престоле Бирона. Ржичевский должен был внушить, что так как исчезли причины, по которым нельзя было герцога Бирона выпустить из России, то нет никаких затруднений восстановить его в герцогском достоинстве, на которое он уже раз навсегда получил инвеституру; справедливость требует возвратить ему все имения, подаренные ему императрицею Анною и купленные им самим на собственные деньги. «Натурально думать, – говорилось в рескрипте Ржичевскому, – что, хотя король, как великодушный государь, с одной стороны, и признает наше правосудие относительно пострадавшей фамилии, которая никогда ни в чем не погрешила ни перед нами, ни перед его короною, с другой стороны, как отец, не может он не почувствовать горести. Желая сколько возможно утешить короля в печали и притом доказать, что мы дружески заботимся о благосостоянии его и всего его дома, повелеваем вам подать обнадеживание, что так как есть надежда на скорое прекращение военных бедствий, то мы будем содействовать не только справедливому удовлетворению Саксонии за претерпенные ею разорения, но содействовать также и вознаграждению принца Карла за потерю Курляндии посредством секуляризации каких-либо епископств или доставлением других выгод, например, можно было бы доставить ему епископство Минстерское или город Ерфурт, за который маинцкий епископ получит еквивалент: прусский король в секретных мирных предложениях 1757 года выражал свою склонность к этому».
Август III потребовал, чтоб Бирон представил прямо ему свои требования. На это Ржичевский получил рескрипт: «Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет такое желание его величества и обязан ли герцог Эрнест-Иоганн просить о том, чего у него никто и ни по каким правам отнять не мог. Мы обращаем ваше внимание на одно, что королевская ответная грамота написана в саксонской канцелярии, которая по делам Польши, а следовательно, и Курляндии никакого участия иметь не может, и потому впредь по курляндским и польским делам вы не должны принимать никаких бумаг из саксонской канцелярии».
От 14 августа Ржичевский дал знать, что он еще не приметил, чтоб кто-нибудь из польских вельмож вступался за герцога Бирона, но все говорят, что так как король и республика так долго не могли допроситься освобождения герцога Бирона и получили от императрицы Елисаветы декларацию, что Бирон с своим семейством никогда освобожден не будет, то был бы нанесен большой ущерб власти короля и республики, если б теперь король лишил сына своего принца Карла княжества Курляндского, ибо он дал ему это княжество вследствие деклараций русского двора и по усильным прошениям курляндцев. Обстоятельство, что ответная королевская грамота императрице была написана в саксонской канцелярии, Ржичевский объяснял тем, что так как поляки не дают русским государям императорского титула и в коронной канцелярии поэтому грамота была бы написана без этого титула, то боялись, что Ржичевский не возьмет ее, и потому решились написать в саксонской канцелярии. «Не могу утаить, – писал Ржичевский, – что король находится в большом горе, боится, чтоб сын не потерял герцогства Курляндского в пользу Бирона, и весь двор опасается, чтоб здоровье короля не пострадало от этой печали; говорят, потерпев великое разорение в Саксонии, король возлагал всю свою надежду на великодушие русской императрицы, а теперь и с русской стороны терпит притеснения по курляндскому делу».
Между тем Кейзерлинг в Петербурге вместе с Бестужевым занимался разными делами по поручению императрицы. Относительно курляндского дела существует любопытная записка Бестужева от 29 августа: «Присланная реляция Ржичевского для сочинения по курляндским делам ответов за неимением графу Кейзерлингу времени прежде окончаемы быть не могли как сегодня в седьмом часу пополудни (ибо он упражнен был голштинскими делами), которые (т. е. ответы) при сем и с тою реляциею прилагаются на всевысочайшую апробацию. Что же принадлежит до письма принца Карла к ее императ. величеству, которое граф Кейзерлинг ему, Бестужеву-Рюмину, сообщил, то он, припамятуя ему, что по примеру, как нынешний король прусский в 1746 году своеручное письмо императрице Елисавете Петровне (без предварительной прежде копии) писал, и по повелению ее величества, чтоб на то письмо отмстительный ответ сочинить, представлено было ее величеству по русской пословице: „Доброе молчание ни о чем ответ“, а по-немецки: „Keine Antwort ist auch eine Antwort“, что ее величество в тогдашнее время и апробовать соизволила, на чем граф Кейзерлинг и согласился, чтоб, не вступая с ним в переписки, без ответа оставить». Бестужев достигал наконец исполнения давнего и сильного желания своего – восстановить своего благодетеля, Бирона, на курляндском престоле, чего, как мы видели, он напрасно добивался при Елисавете, будучи великим канцлером. Но с другой стороны, тот же Бестужев был предан саксонскому дому: чтоб не изменить и этой своей преданности, Бестужев настаивал на требовании от Пруссии, чтоб саксонский дом при заключении общего мира был вознагражден в Германии посредством секуляризации.
Но вознаграждение в Германии – дело неверное; Россия, отказавшаяся от войны, теряла право предписывать условия мира, а между тем эта самая Россия отнимала Курляндию у саксонского дома.
Несчастный Август III хотел удержать своего сына в Курляндии посредством польского сейма, но сейм, как мы видели, был разорван вследствие предписания Екатерины от 28 августа: «Писать к Ржичевскому, дабы он всевозможное старанье приложил разорвать ныне собираемый сейм, и отнюдь не допустил бы до выбиранья маршала во что оное бы ни стало, и, об оном сообщась с фамилиею Чарториских и посоветовався с ними, поступал по сему еще до приезда гр. Кейзерлинга». Тогда король потребовал, чтоб Сенат и министерство озаботились о принце Карле: 7 октября (н. с.) примас созвал к себе до сорока сенаторов на конференцию и королевским именем предложил, чтоб они советовались о средствах не допустить Бирона на герцогство Курляндское, освободить Курляндию как польскую область от русских войск, представить жалобу на русского министра в Митаве Симолина, будто он поступал в Курляндии самовольно, и отправить в Митаву двоих сенаторов на помощь принцу Карлу. Но некоторые сенаторы, выслушав предложение примаса, начали говорить, что такая конференция должна происходить в присутствии короля, которому они прямо будут открывать свои мысли. Во время этих рассуждений некоторые сенаторы сидели, другие ходили по комнате, и наконец между ними произошли великие ссоры, «которыми без всякого совета оная конференция и счастливо кончилась», – писал Ржичевский.
Австрийский посол в Варшаве граф Штернберг приезжал к Ржичевскому и сильно заступался за принца Карла, говоря, что никакой двор не может быть надежен в своих решениях, когда государи ниспровергают то, что предки их обещали. Граф Бриль неоднократно давал знать Ржичевскому, что при будущем конгрессе все союзные дворы, без сомнения, вступятся за принца Карла. Все это было передаваемо Ржичевским в Петербург и не производило там никакого впечатления. Не произвело действия и письмо, которое король писал Бестужеву, по известным нам причинам. Впрочем, по польским делам Бестужев должен был разойтись с своим прежним приятелем Кейзерлингом: мы видели, что последний вошел совершенно в виды Екатерины возвести на престол Пяста, и именно Понятовского, причем предвиделась необходимость в прусском союзе; Панин держался того же мнения, чем и пролагал себе дорогу к будущему значению главного советника Екатерины по всем делам, хотя временно и было между ними охлаждение вследствие настаивания на учреждении Императорского совета. Бестужев, несмотря на все его забегания и каждения, проигрывал тем, что упорно держался своих прежних взглядов, постоянно твердил о необходимости удержать саксонскую династию на польском престоле. Отсюда толки, что бывший канцлер устарел, потерял способности; с другой стороны, толки, что он упрям, никак не может сообразоваться с новыми обстоятельствами. На это обвинение в упрямстве и на столкновение между двумя старыми приятелями, Бестужевым и Кейзерлингом, указывает письмо Бестужева к Екатерине от 29 августа: «Всемилостивейшая государыня! Позвольте мне припамятовать о тайном советнике Гросе, что я, как уже одною ногою в гробе стою, не похлебствуя ему да из всеглубочайшего моего усердия к в. в-ству, что он весьма при существующем здесь случае был бы вам потребен, на всех трех языках – на российском, французском и немецком равномерно, а притом на латинском, наипаче же римско-имперские права не меньше графа Кейзерлинга знающ, и притом действительно искусный министр, буде же кто его оклеветал упрямым, то и я таким бывал у государыни в бозе почившей императрицы в том, что я прекословил, что французский двор домогался между Россиею и Швециею в последней войне быть медиатором, да меня в тогдашнее время оправдали российского при французском дворе посла князя Кантемира реляции, находящиеся в коллегии Иностранных дел, которые тому свидетельство подадут, что французский двор, дружескую медиацию к примирению с шведами представляя, в то же время турков возбуждал противу России войну объявить, я же потом и при многих случаях называем был упрямым, что я не привык жить по пословице: „Не говори правды, не теряй дружбы“, так и ныне, при моей глубокой старости, до последнего моего издыхания в. в-ству верным рабом и сыном отечества пребуду».
Кейзерлинг поехал в Варшаву с полною милостию императрицы. «Прошу вас подавать мне советы издалека, как вы мне подавали их вблизи», – писала к нему Екатерина. К Понятовскому она писала: «Я не могу отпустить к вам Волконского, у вас будет Кейзерлинг, который вам будет отлично служить». По известию, сообщенному английскому двору послом его в Петербурге Бекингамом, Екатерина тотчас после своего восшествия на престол послала сказать Понятовскому, чтоб он не приезжал в Петербург, но что дружба ее к нему неизменна и в случае королевских выборов в Польше она постарается доставить престол ему, а в случае невозможности – одному из членов фамилии Чарторыйских.
Неприятности между дворами усиливались. 10 декабря Екатерина писала Воронцову: «Велите внушить графу Брилю, что если по курляндским делам он единого противного моей воле шага сделает, я велю покинуть все мои старания у короля прусского об Саксонии, а в Польше сутенировать всем, чем только вздумать он может, все те, которые ему злодеи, и до тех пор не перестану, покамест его из Польши не выгоню. Сие внушение г. канцлер разговором, с которым из здесь резидующих министрам чужестранным он за способного к тому выберет иметь, а мне кажется, датский или шведский способнее, и то начинав индеферентно и разговориться с великим уничтожением о мнимом старанье графа Бриля по курляндским делам, и что он хотел выбрать польских двух сенаторов и посылать в Митаву, и что такой и всякой иной его, Бриля, поступок меня доведет сутенировать все те, которые стараются о его погибели, и то всем тем, чем силу имею, и так стараться, чтоб сие до Прасса дошло, дабы знали мои намерения, а граф Бриль блудлив, как кошка, а труслив, как заяц».
В конце ноября приехал в Варшаву Кейзерлинг и начал «отлично служить». Уведомив императрицу о страшных раздорах между придворною партиею и «нашими друзьями», Кейзерлинг ставил вопрос: «Намерена ли Россия друзей и сообщников своих в Польше оставить в упадке или нет? Если их не оставлять в упадке, как этого требует честь и польза России, то надобно заблаговременно предупредить все, что может привесть их в бессилие, ибо что утратят русские друзья, то утратит Россия. Если и впредь исполняем будет план, чтобы наших друзей в важные чины не допускать, а определять в них или неприятелей России, или людей, не имеющих никаких заслуг, кроме малого разума и большого богатства да склонности к насилиям; тогда число наших друзей мало-помалу будет уменьшаться, и совсем они исчезнут, и в случае нужды нам некем будет приняться. Для отвращения таких неприятных последствий не рассудите ли, ваше императ. величество, прислать мне рескрипт следующего содержания для показания всем, именно что ваше величество ничего столько не желаете, как непременного продолжения дружбы и прежнего доброго согласия с королем польским, только требуете, чтоб дела в Польше также приведены были в прежнее состояние; а прежде друзья России никогда не были отличены от друзей двора, и тех и других всегда почитали за одну партию, за общих друзей; ваше величество надеетесь, что король Чарторыйских, Понятовских и друзей их изволит признать за достойных его милости при раздаче чинов; что они верные слуги своему королю, что стараются они о пользе и благополучии своего отечества, что из усердия к отечеству они друзья России, зная, что ваше величество по примеру предков своих намерены охранять благополучие республики, ее вольность и права; что ваше величество никогда не были намерены рекомендовать королю никого другого, кроме людей, ему верных и полезных; что ваше величество будете всегда следовать сему правилу, всегда будете поддерживать в Польше патриотов, не допуская их до притеснения». Императрица на этой реляции подписала: «Быть по сему». Кроме того, она писала Воронцову: «Графу Кейзерлингу наставленье дать, дабы, не переписавшись сюда, он при ваканциях рекомендовал у польского двора всех тех, которых он за российских партизанов признает, дабы не утратить иногда в таких ваканциях время чрез переписку по причине великого расстоянья Варшавы от здешних мест. Также граф Кейзерлинг имеет сказать графу Брилю, что я с великим удивленьем вижу, что моим друзьям все чины и милости отказываются, тогда когда я вседневно о Саксонии и прочих удовлетворениях его королю стараюся, и что чрез такой неприятельский (и много иных) поступок меня принудит он иных мер брать».
Кейзерлинг переслал императрице две промемории, поданные ему обоими братьями Чарторыйскими 3 и 4 декабря. В первой говорилось о необходимости составить конфедерацию, потому что обыкновенных средств недостаточно для уничтожения зла, которым страдает Польша. Многие молодые люди владеют важными местами и ведут себя на них так, что считаются бичами народа, а король не имеет права отнимать места, раз данные. Страшное искажение монеты требует ее перелития, что может быть определено только сеймом. Так как на успех сейма надеяться нельзя, то необходимо прибегнуть к конфедерации, чтоб заместить важные места людьми достойными, отстранить потери денежные и торговые, чтоб дать лучшую форму национальным совещаниям (conseils de la nation), чтоб дать всероссийской императрице титул, достойный ее могущества и личных качеств, чтоб установить навсегда доброе согласие между обоими государствами. Но для конфедерации нужны деньги и огнестрельное оружие. Помощь, какую русский императорский двор окажет вождям благонамеренных, должна соответствовать их намерениям. Они не могут ни за что приняться до тех пор, пока не будут с точностию уведомлены и удостоверены на этот счет. Непродолжительная революция есть наименее бедственная для страны; чем сильнее она, тем менее нуждается в продолжительном времени для достижения своей цели, но она не будет сильна, если существенные средства будут слишком урезаны вначале и потом доставляемы медленно.
Во второй промемории говорилось: «Если желательно, чтоб русская партия усилила свое значение в стране, то важнее всего не ошибиться в выборе средств для этого. Одно из главных средств, без сомнения, состоит во влиянии на раздачу должностей и милостей. Но это средство не должно быть никогда куплено на счет общественного уважения. Мы потеряем это уважение, если торжественно помиримся с графом Брюлем. Вот причины. Всякое примирение по своей натуре предполагает забвение и прекращение обид; но так как предметы наших взаимных жалоб не должны и не могут кончиться, то не может быть и примирения. Они не могут окончиться с нашей стороны, потому что честные люди не берут назад того, что они предъявили публично на основаниях твердых и законных и могут доказать. Они не могут кончиться со стороны графа Брюля, потому что его прошедшие ошибки заставили его продолжать маневры, которые мы всегда будем порицать и опровергать. Все эти маневры Брюля имеют целию сохранение своего положения, а главное средство, для этого употребляемое, – деньги. Ему постоянно нужно много денег: 1) Для подкупа мелких людей, окружающих короля, и для содержания шпионов во всех частных домах, чтобы король ни с какой стороны не доведался о настоящих причинах своих несчастий. 2) Для удовлетворения своей безграничной роскоши, которая удовлетворяет не одной собственной его наклонности, но и желанию королевскому: Августу III нравится представительность фаворита, которую считает знаком собственного величия. 3) Для доставления королю средств к любимым удовольствиям Брюль продает милости с аукциона и портит монету с громадною для себя прибылью. Но так как скандал этих злоупотреблений заставляет его бояться общего неудовольствия, то он старается приобресть себе защитников, наполняя все места низкими и корыстолюбивыми душами, какими всякая страна наполнена во всякое время. Отсюда происходит порча Сената, который представляет не иное что, как орган ласкательства и невежества. Отсюда судебные места продажные, составленные насилием, готовые притеснять всякого, кто осмелится восстать против беззаконий Брюля или главных его потворщиков. Отсюда, наконец, эти сеймы, на которых невозможно провести ничего хорошего, ибо требуемое единогласие постоянно прерывается кем-нибудь, которого подкупил Брюль. Вот связь между ошибками и потребностями графа Брюля. Если он перестанет им удовлетворять, то потеряет фавор, следовательно, он не исправится, и потому мы не можем сделаться его друзьями. Сдержать алчность Брюля может один страх пред юридическими доказательствами, что он не польский шляхтич и, следовательно, не по праву пользуется имениями и почестями в Польше. Нападение на Брюля с этой стороны, хотя чрезвычайно опасное для нас, если бы мы не были уверены в поддержке России, с поддержкою России доставит нам столько же явных сторонников, сколько уже сделало тайных друзей. Но так как надобно испоместить и обогатить этих сторонников, то должно держаться середины. Не беря назад того, что уже мы предъявили против прав Брюля на польское шляхетство, без примирения с ним мы можем приостановить процесс против Брюля относительно польского шляхетства; Брюль будет находиться между страхом и надеждою и будет раздавать милости, как нам надобно, если только русский двор и его посланник станут употреблять тон, приличный с таким министром, настаивая сухо, чтоб каждая милость давалась нам и нашим».
Чарторыйские высказались. Они потребовали от Екатерины, чтоб она или дипломатическим путем заставила Августа III и Брюля отдаться им во власть, дать им возможность составить себе могущественную партию, в челе которой они могли отважиться на все, или послать им деньги и оружие для вооруженного восстания. Цель в том и другом случае одна – преобразования для усиления Польши, прежде всего преобразование сейма, уничтожение liberum veto. Россия должна употребить все средства, чтоб помочь Польше усилиться, а в награду Екатерина получит императорский титул, и водворится согласие между Россиею и Польшею! С первого раза поражает дерзость подобных предложений, но изумление пред поступком Чарторыйских исчезает, когда узнаем, что Кейзерлинг не только переслал императрице их промемории, но и прямо был за конфедерацию, предлагаемую ими: для чего же после того Чарторыйским было церемониться?
Россия выходила из войны и отказывалась от союзов; но при таком положении державе трудно сохранить важное значение. Для поддержания своего влияния Екатерина хотела быть посредницею мира, но воюющие державы не хотели принимать ее посредничества, ибо не видали в этом никакой пользы для себя; притом Пруссия была недовольна переменою русской политики и угрозами, которыми Екатерина понуждала ее к миру; Австрия была еще недовольнее тем, что Екатерина своим выходом из войны принуждала ее отказаться от Силезии, разрушала все ее надежды. Со стороны петербургского Кабинета было заявлено, что Россия относительно Польши и других держав будет держаться Пруссии, но что это не помешает ей относительно Турции держаться Австрии, иметь с нею одинакие интересы; в Вене не хотели признавать такой двойственности и, сердясь на Россию за союз с Пруссиею, тем теснее соединялись с Франциею и вместе с нею действовали против России в Константинополе. Точно так же Россия должна была выдерживать сильную борьбу с Франциею в Стокгольме. Наконец, Россия не могла долго сохранить свободное положение. Фридрих II соглашался содействовать России по делам польским, но он не хотел делать этого даром. Боясь вражды Австрии и Франции, находясь в разладе с Англиею, Фридрих нуждался в союзе с Россиею, в формальном оборонительном союзе, которым бы он мог стращать своих врагов: Семилетняя война доказала, как опасно бороться с державою, на стороне которой Россия. Напрасно петербургский Кабинет медлил, уклонялся от вступления в нежеланные обязательства: Фридрих II настаивал, и, чтоб иметь помощь его в делах польских, должны были заключить с ним союз.
Обратимся к подробностям.
Известие о событии 28 июня поразило Фридриха II как громом, по его собственному признанию; хотя донесения Гольца и возбуждали сильные опасения в самом Фридрихе и министрах его, однако все же не ожидали такой скорой развязки. Министр Финкенштейн писал Гольцу: «Я желаю одного – чтоб этот государь (Петр III), которого мы имеем столько причин любить и который, кажется, рожден для счастия Пруссии, жил и держался на русском престоле». Тяжело было лишиться могущественного государя, который, по словам Фридриха, служил Пруссии, как ее министр. Но делать нечего, надобно было покориться обстоятельствам. Чернышев первый объявил королю о восшествии на престол Екатерины и о приказании ему отделиться от прусской армии. Король стал упрашивать его подождать три дня, и Чернышев позволил себе согласиться; этими тремя днями Фридрих воспользовался для того, чтоб начать наступательное движение против австрийцев; он не мог рассчитывать на успех, если б отступление Чернышева ободрило австрийцев; расчет был верен, движение пруссаков увенчалось полным успехом. Швейдниц опять перешел в их руки. Вслед за тем начали приходить успокоительные для короля известия, что Екатерина не намерена разрывать с ним мира, и хотя удаление Чернышева было для него очень чувствительно, но он мог утешаться тем, что не будет обязан отделять части своих войск на помощь русским в датской войне. Против одних австрийцев можно было с успехом вести войну и между тем наблюдать, что делалось в Петербурге. 29 июня подписан был Екатериною рескрипт к князю Репнину в Берлин: «Каким образом мы по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению всероссийский императорский престол восприять, и тем государство и империум наш от всяких беспокойств и разорений освободить, и прежнее благополучие и порядок в оном восстановить за благо и потребно рассудили, оное усмотрите вы из приложенного при сем манифеста. Мы умедлить не хотим о сем Божеским справедливым и непостижимым руковождением и благословением воспоследованном важном происшествии чрез сие вам знать дать со всемилостивейшим повелением, чтоб вы предварительно тамошнему двору чрез министерство о том сообщили, обнадеживая о непременном нашем намерении сохранять добрую дружбу». К рескрипту приложена была также нота ко всем иностранным министрам в Петербурге от 28 июня; в этой ноте императрица уверяла их, что она имеет непременное намерение сохранять добрую дружбу с их государями. 1 июля написан был Репнину другой рескрипт: «Не может вам быть безызвестно, что во время последнего правления корпус генерала графа Чернышева в диспозицию королю прусскому послан был без всякого, однако, соглашения ни о времени его при сем государе пребывания, ни о взаимных, напротив того, с прусской стороны выгодах. Хотя и не имеем мы еще точного известия, соединился ли тот корпус с королем или нет, однако, где бы оный ни был, повелели графу Чернышеву не только от прусской армии отделиться, но и прямо в Россию назад идти. Нет, однако, намерения нашего разрушать нововосстановленный с сим государем мир и согласие, но паче, пока не подаст он с своей стороны явных к разрыву причин, склонны мы сохранять заключенный в 24-й день минувшего апреля месяца трактат. Уведомляя вас о сей нашей резолюции, повелеваем мы вам не таить оной в вашем месте, но паче при всяком случае именно изъяснять, что по человеколюбию ничего мы столько не желаем, как видеть и поспешествовать скорейшему прекращению военного пламени, от которого народы толико уже пострадали». 4 июля передана была Гольцу нота, что императрица не считает нужным Берлинский конгресс для улажения голштинских дел, а следовательно, становится ненужным и посредничество короля прусского.
В первой депеше своей новой императрице, от 12 июля из лагеря при Бегендорфе, Репнин описывал, как он известил Фридриха II о событии 28 июня, когда король еще не знал, что распоряжения Солтыкова не одобрены в Петербурге. Во все продолжение разговора король, по словам Репнина, «весьма был смутен, опасаясь чрезвычайно, чтоб не разрушилось как настоящее согласие между им и императрицею». Вечером король опять призвал к себе Репнина и расспрашивал, не может ли он дознаться, что подало повод сделанным в Пруссии объявлениям (по поводу обратного движения русских войск), не сомнение ли какое, чтоб он по прежним обязательствам хотел каким-нибудь образом препятствовать царствованию императрицы; при этом Фридрих уверял, что так как бывший император сам письменно отрекся от престола, то против такого обнародованного доказательства никому идти нельзя и что он хотя б и хотел, но собственные его дела к тому бы его не допустили; наконец, он тотчас и признал Екатерину царствующею императрицею. Фридрих требовал также, чтоб Репнин доложил императрице, угодно ли будет, чтоб барон Гольц остался министром при ее дворе.
Гольц не мог оставаться в России. 10 июля он писал королю: «Императрица питает ко мне отвращение за мою тесную связь с покойным (Петром III), предполагая, хотя и очень несправедливо, что я одобрял поведение покойного относительно ее. При моем виде она невольно должна припоминать дурное обращение, какое Петр позволял себе с нею в моем присутствии. Я и секретарь мой Дитель имеем против себя и двор, и народ. Стоит нам поговорить с кем-нибудь из русских, чтоб сделать его подозрительным в глазах других». Но еще Гольц мог уведомить короля, что в будущем представляется возможность союза между ним и преемницею Петра III. В Петербурге в это время находился граф Кейзерлинг, назначенный при Петре III послом в Варшаву. Кейзерлинг, приятель Бестужева (Алексея), подобно Корфу и Панину, был заклятым врагом Франции и сильно охладел к Австрии, когда та сама вошла в союз с Франциею и ввела в него Россию; в последнее время пребывания Кейзерлинга в Вене охлаждение превратилось во вражду, ибо он потерял прежнее значение, когда важнейшие дела во время Семилетней войны производились австрийскими послами в Петербурге и когда приятелям падшего канцлера Бестужева не оказывалось большого доверия. Екатерина, наслышавшись от Бестужева о способностях Кейзерлинга, была рада приезду последнего в Петербург, желая посоветоваться с ним вообще о внешних делах, и особенно о польских. Кейзерлинг, считая необходимым для России союз с Германиею против Франции и не желая теперь видеть представительницу Германии в Австрии, явился в Петербург с мыслию о необходимости прусского союза, особенно по отношениям к польским делам, ведение которых поручалось ему. Он объявил Гольцу: «Хотя теперь и не в интересах русского двора заключать оборонительные союзы с соседними державами, ибо эти союзы могут впутать его в чуждые ему распри безо всякой прибыли, так как Россия не имеет притязаний на какие-либо части соседних владений, однако я не думаю, чтоб императрица была далека от вступления с вашим государем в связи более тесные, чем в каких они теперь, а именно может быть заключен союзный договор, в котором можно постановить меры относительно Польши».
Но пока будущие союзники вели не очень дружественные переговоры.
Репнин опять писал, что Фридрих все еще не доверяет миролюбивым намерениям императрицы и когда он, Репнин, старался его успокоить, то король потребовал, чтоб он изложил свои уверения на бумаге, которую можно показать иностранным министрам, но Репнин на это не решился. Скоро, впрочем, успокоило короля письмо Екатерины (от 24 июля), где императрица уведомляла его о посылке своего указа исправить в Пруссии следствия недоразумений, возникших от «излишней ревности», разумея ревность Солтыкова. После этого Фридрих начал толковать, что начинается несогласие между Австриею и Турциею и дело идет к разрыву, но Репнин писал, что не совсем верит словам короля. В августе Репнин имел с Фридрихом разговор. Король начал говорить, что между французским и английским дворами начатые переговоры, как ему кажется, успеха не имеют и это ему удивительно, ибо он уверен, что обеим сторонам война сильно наскучила. «Я думаю, – сказал Репнин, – что и всем воюющим державам война в тягость». Когда король с этим согласился, то Репнин продолжал: «Граф Чернышев доносил уже императрице о миролюбивых склонностях вашего величества, которые сходны с желаниями императрицы, и ее величество не отречется употребить и посредничество свое для достижения мира». «Я этому очень рад, – отвечал король, – но без согласия своих союзников не могу приступить к такому важному делу, впрочем, от них препятствий не предвижу; опасаюсь венского двора, который, видя возвращение ваших войск, не так будет согласен на русскую медиацию». «Видя двоякость его мысли», Репнин отвечал, что русская армия находится еще так близко, что может «содействовать к сокращению безрассудных препятствий к спокойствию света». «Вышед из войны, – возразил король, – неприятно опять в нее вступать, а между тем войска могут быть нужны и в отечестве». «Россия, – сказал на это Репнин, – не имеет, кажется, причины чего-нибудь бояться, а хотя бы и была причина беспокойства, то войско ее величества так многочисленно, что часть его может возвратиться для умиротворения Европы, а другая остаться для безопасности отечества». Король не отвечал ничего.
В конце июля Екатерина дала своим советникам 8 собственноручно написанных пунктов: 1) Что мне надлежит делать в теперешние конъюнктуры, клонящиеся во всей Европе к миру, по сообщениям аглинского министра Кейта? 2) Послать ли в Аугсбург на конгресс министров и с какими инструкциями? 3) Надлежит ли сообщать другим державам про позиции о медиации, которую король прусский мне чрез генерала Чернышева оферировал? 4) Надлежит ли нашим войскам в Россию повернуться по теперешним обстоятельствам? 5) Имеем ли мы причины, дав слово о содержании мира с королем прусским, оный мир за полезный почитать и в противном случае оный по-своему переделать, к чему нам может ли служить сепаратный артикул оного мира? 6) Надлежит ли возобновительный трактат союзный с венским двором содержать в своей силе или что в нем поправить? 7) Надлежит ли ныне королю прусскому представить, чтоб разоренную Саксонию от войск своих очистил и возвратил в прежнее владение? 8) Не подается ли повод к непринятию здешней медиации тем, что войска в Россию возвращены быть имеют, и не ослабеют ли такие же здешние негоциации на конгрессе?
10 августа старик Бестужев представил свои ответы при следующем письме: «По данным от в. и. в. собственноручно писанным осьми пунктам, сколько я мог, не будучи у дел чрез полпята года, также при настоящей старости и от понесенных печалей слабости и короткой памяти в рассуждение взять и примыслить, о том всеподданнейше приношу при сем же мое слабейшее мнение и, понеже оное не столь обширно сделано, как я за 17 лет тому назад, а именно в 1745 году, будучи тогда непрестанно при делах и в лучшей памяти, обстоятельное свое мнение имел честь поднести ее в-ству блаженной памяти любезной тетке вашей г. и. Елисавете Петровне, того ради дерзаю толь пространным приложением оного в. и. в. утруждать по причине, что в. в. изволили ко мне отзываться, что той ли я был системы, дабы короля прусского ослабить в его силах. И в. в. из оного усмотреть изволите, что я подлинно таким был, да и ныне при той же системе пребываю неотменно, предоставляя, впрочем, высочайшему и просвещенному в. в. рассуждению и повинуясь всегда к раболепному исполнению монарших ваших повелений».
На первый пункт Бестужев отвечал, что Россия должна побуждать воюющие державы к миру. На второй: надобно стараться, чтоб русские министры были приглашены на конгресс, хотя и трудно теперь этого достигнуть вследствие заключения отдельного мира России с Пруссиею; когда русские министры приглашены будут на конгресс, то им должно дать инструкцию, чтоб прежние русские союзники получили, сколько возможно, умеренное вознаграждение за их убытки и разорения и чтоб тем отчасти сокращены были многие силы короля прусского, как весьма опасного для соседственных держав на будущие времена, а особливо дабы не в состоянии он был за нынешнюю войну отомстить России, и чтоб присутствием на конгрессе русских министров императрица получила не только славу, но и могла быть ручательницею договора, не допуская ничего противного русским интересам. На третий: сообщить другим державам прусское предложение о посредничестве неприлично, ибо король упомянул об нем графу Чернышеву только в разговоре, и хотя повторил то же и князю Репнину, но такие предложения обыкновенно делаются на письме. На четвертый: полезнее было бы всей русской армии остаться еще в завоеванных у Пруссии землях; но когда уже дано повеление армии возвратиться, то надобно до 30000 войска оставить в Польше по реке Висле и, сверх того, на границах содержать до 50000 войска и тем заставить желать русского посредничества и заставить уважать его. На пятый: когда государственная казна истощена, то и худой мир надобен; но так как мир с Пруссиею заключен в ущерб славе и чести русского двора и без ведома союзников, то полезным считаться не может, и лучше было бы его переделать, как только будет к тому справедливая причина. На шестой: так как прежний договор с венским двором ослаблен миром с Пруссиею, то надобно его возобновить как с естественным союзником по отношению к Турции и прочим соседям. На седьмой: надобно требовать от Пруссии и Австрии, чтоб вывели свои войска из Саксонии. На осьмой: если все русские войска возвратятся внутрь России, то, разумеется, у воюющих держав не будет побуждения требовать русского посредничества.
Неплюев утверждал, наоборот, что содержать русскую армию в Польше на Висле, в местах, уже опустошенных, будет страшно дорого и потом этим возбудится подозрение в соседних державах, ибо чем объяснить такую остановку войска? Наконец, поляки станут волноваться.
Князь Волконский подал мнение, почти буквально сходное с мнением дяди своего Бестужева.
Вице-канцлер князь Голицын подал мнение, что когда русские министры будут приглашены к конгрессу, то должны домогаться, чтоб умножившуюся чрез меру силу короля прусского привести в умеренные пределы удовлетворениями в пользу прежних русских союзников для будущей безопасности его соседей и для германского равновесия. Это тем полезнее для России, что уменьшится сила единственного теперь опасного для России соседа; а сила эта должна увеличиться Барейтскою и Аншпахскою областями, которые отойдут к бранденбургскому дому вследствие бездетной кончины их маркграфов. Не возвращать хотя часть войск из прусских областей до общего мира для сдерживания этим смелого и предприимчивого нрава короля прусского. По словам графа Мерси, венский двор с радостию стал бы продолжать субсидию, если б только русские войска остались на Висле. Нужно возобновить оборонительный договор с венским двором как с естественным союзником.
Воронцов также полагал, что хорошо бы оставить корпус русских войск в Пруссии и Польше; но «должно в рассуждение принять, что для благосостояния империи нужно сохранить мир, каков он ни есть, ибо и счастливые успехи воинские изнуряют довольно силы государства, умалчивая о несчастных приключениях всякого рода. Мир с королем прусским не может быть почтен полезным, но не остается почти способа переделать его».
Решено было сохранять мир и выводить войска из прусских областей, а между тем понуждать прусского короля к миру с Австриею и Саксониею, но, разумеется, последнего трудно было достигнуть при первом.
К Репнину был отправлен такой рескрипт: «Из реляции вашей усматриваем мы, к сожалению нашему, что король прусский по мере удаления войск наших из земель его стал все больше открывать пред вами свое отвращение к миру. Не так удивителен, как неприятен нам его поступок, ибо из него не без основания можно заключить, что он намерен продолжать войну, может быть, в той надежде, что мы, оставя раз войну, не захотим скоро опять ее начать; с другой стороны, взятие Швейдница приводит его в состояние действовать наступательно против австрийского дома и принудить императрицу-королеву силою оружия к такому миру, которым бы он мог на будущее время сохранить и утвердить перевес свой и бранденбургского дома в Германии. Так как наше желание и старание совсем другие, а именно чтоб скорым окончанием войны установить в Германии столь нужное для интересов нашей империи равенство сил и для того способствовать императрице-королеве в удержании того, что ею уже действительно завоевано, то не можем мы теперь оставаться спокойны, пока не узнаем прямо и точно мысли его прусского величества, дабы, применяясь к ним, располагать и собственные наши меры. Вы поэтому должны сыскать удобный случай внушить королю в разговоре будто от себя, что приметная его склонность к продолжению войны отнюдь не может нам быть приятна по миролюбию нашему и принятым правилам и потому вы опасаетесь, чтоб она не удержала нас от вступления с ним в большую дружбу и короткость, хотя и есть между обоими дворами некоторые общие интересы. Когда речи и поступки короля прусского и впредь будут обнаруживать упорство его в продолжении войны, то вы должны выказывать нашу склонность и доброжелательство к венскому двору; по требованию обстоятельств вы должны отзываться, что по естественным интересам обоих императорских дворов мы не можем оставить вовсе императрицу-королеву. Если бы король прусский был убит в каком-нибудь сражении, что на войне случиться может, то повелеваем вам преемнику его формально и немедленно предложить нашу медиацию с обещанием несомненного чрез посредство наше мира».
Репнин увеличивал беспокойство императрицы, донося, что Фридрих имеет намерение овладеть Саксониею и что когда он, Репнин, стал представлять ему об очищении этой страны, то он стал обходиться с ним холодно, так что Репнин просил у императрицы позволения уехать из лагеря в Берлин, чтоб не подвергнуть неучтивости свой посольский характер. Когда Репнин представил Фридриху о миролюбии венского двора и о согласии его вступить в мирные переговоры и заключить перемирие, то король отвечал, что он не отрекается от выгодного мира, но на невыгодный никогда не согласится и прежде постановления прелиминарных пунктов перемирие заключено быть не может; венский двор, если желает, может сделать предложение, но он с своей стороны не имеет сделать никаких предложений и на конгресс никогда не согласится; военные заботы не оставляют ему времени для мирных переговоров, тем более что министерства своего при себе не имеет. Репнин заметил: «Зима приближается и дает вашему величеству свободное время; о месте и способе переговоров нечего говорить, лишь бы было желание мира». «На конгресс никак не соглашусь, – отвечал Фридрих, – предложений никаких делать не имею и оставляю на волю венского двора их сделать». «Ваше императ. величество, – доносил Репнин, – изволит усмотреть, что негоциациями способу нет короля к миру склонить, разве ему оставить все те же владения, которые прежде войны имел, и никакой индемнизации никому не требовать; ежели же венский двор какие-либо ни есть авантажи получить желает, то оные инако достать не может как твердостию своего оружия. Кампания нынешнего года совсем в пользу короля обратилась, чем еще более его мысли возвысились, и если сверх того какие авантажи еще получит, то боюсь, чтоб сам не задумал хотеть индемнизацию за убытки сей войны».
Екатерина настаивала, чтоб прежде всего Фридрих вывел свои войска из Саксонии и дал ее курфюрсту, королю польскому, вознаграждение за разорение его земли. «Мы предусматриваем, – говорилось в рескрипте императрицы Репнину, – что сия материя неприятна будет королю, но справедливость тем не меньше требует, чтоб обидчик сделал обиженному удовольствие, и для того надобно вам при всяком случае пристойно напоминать, что без удовлетворения королю польскому как саксонскому курфюрсту мир прочно установлен быть не может». «Король, – писал Репнин, – когда я чуть коснусь этой материи или восстановления мира, прерывает разговор и с неудовольствием от меня уходит. Так, получа известие, что австрийцы покушались напасть на принца Генриха, сказал мне: „Я вижу, как они намерены оставить Саксонию; они только стараются всячески меня оттуда выбить“. Я заметил ему, что австрийцы без его согласия не могут оставить Саксонию, но сами они вполне на это готовы, лишь бы он показал такую же готовность. „Я уже давно знаю, чему верить и чему не верить“, – отвечал король». Репнин писал, и, конечно, слова его должны были произвести неприятное впечатление, показывая вред, происшедший от изменения елисаветинской системы относительно Фридриха II: «При восшествии вашего величества на престол граф Чернышев и я доносили, что король не прочь от мира. Но обстоятельства с тех пор совсем переменились: страх оружия вашего величества миновался с возвращением русских войск в отечество; Швейдниц взят, австрийцев захвачено в плен до 15000 человек, а у них только от 2000 до 3000 прусских пленных. Помянутые преимущества возвысили здесь желания и совершенно переменили мнения, и, сверх того, и природный нрав короля много участия в том имеет».
Екатерина собственноручно написала Иностранной коллегии для передачи Репнину: «При пристойном случае князю Николаю Репнину в разговоре внушить королю прусскому будто бы от себя, что видимая его склонность к войне может удержать меня от вящей дружбы с ним, королем, хотя и некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику подавать виды склонности к венскому двору; а когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае крайнее мое желание видеть мир и тишину. Еще секретнейшее наставление князю Репнину дать: если король в его, князя, бытность убит бы был, чтоб он тогда формально наследнику медиацию нашу офрировал с обещанием неизменного мира». Наконец, Репнин должен был внушить Фридриху, что в случае продолжения войны Россия принуждена будет всеми способами помогать венскому двору. «Сомневаюсь, – отвечал Репнин, – чтоб можно было склонить короля к какой-нибудь уступке, разве сделать это силою оружия, а иначе невозможно». Представления посланника подкреплялись письмом самой государыни. «Я, была бы очень рада, – писала Екатерина Фридриху, – устранить все то, что может вредить доброму согласию между нами, но я не вижу к тому средства, если в. в. не выйдете из настоящей войны. Я вам скажу просто: нет ли возможности заключить мир? Я бы могла действовать иначе, у меня были средства в руках и теперь еще есть. Я пожертвовала существенными выгодами войны любви к миру; надобно надеяться, что другие последуют этому примеру, тем более что до сих пор они могут иметь в виду выгоды еще идеальные только. Вся трудность состоит в вознаграждении саксонскому двору: можно устроить какое-нибудь помещение для одного из принцев этого дома». Письмо оканчивается угрозою: «Я знаю, что венский двор склонен к миру. Я могла бы сообщить вам его предложения, если бы со стороны в. в-ства могла ожидать того же; но, к несчастию, вы отказались от этого, и я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не исполнятся и я буду принуждена принять меры, противные моим желаниям, склонностям и чувству дружбы».
26 ноября Репнин имел разговор с министром иностранных дел графом Финкенштейном. Репнин представил решительно о необходимости очищения Саксонии и вознаграждения ей, без чего прочный мир невозможен. Финкенштейн отвечал: «Правда, Саксония страдает, но гнев королевский на нее происходит от уверенности, что она была причиною войны, на что есть и письменные доказательства. Прежде с русской стороны упоминалось только об очищении Саксонии, а теперь пошло дело уже и о вознаграждении». «Секреты кабинетов остаются в тайне между государями, – сказал Репнин, – и я об них ничего не знаю, а известно мне и всему свету, что король прусский первый вошел в Саксонию и с тех пор какие страдания она терпит. Вознаграждение же Саксонии справедливо следует по натуральному праву: обиженный должен получить удовлетворение от обидчика. Удаление его величества от очищения Саксонии и от мира приводит меня в страх, чтоб от этого упорства не последовала холодность между ним и ее императ. величеством; боюсь, чтоб ее величество не была принуждена совершенно обратиться к венскому двору». «Холодности с нашей стороны никогда не будет, – отвечал Финкенштейн, – король твердо намерен сохранять дружбу с императрицею». Во все время разговора, доносил Репнин, Финкенштейн был в великой торопости, говорил он дрожащим голосом и сам дрожал.
21 декабря Финкенштейн объявил Репнину именем королевским под крайним секретом, что венский двор сделал мирные предложения чрез посредство саксонского двора и король отвечал, что он не удален от мира, лишь бы условия были разумные, вследствие чего с обеих сторон назначены поверенные в делах. Венский двор требовал, чтоб дело велось тайно, но король, будучи обязан истинною дружбою с русскою императрицею, признавая с благодарностию человеколюбивое желание ее относительно восстановления общей тишины, также и в доказательство, что он от мира не удаляется, не хотел этого скрыть. Репнин отвечал, что императрица, конечно, с удовольствием услышит об этом начале к прекращению бедствий человечества и по возможности будет способствовать к отвращению всяких тому препятствий, если только король откровенно и точно изъяснится. Финкенштейн отвечал королевским именем, что король немедленно отправит прямо к императрице свои мирные условия.
А между тем преемник Гольца граф Сольмс, приехавши 18 декабря к канцлеру на вечер, вступил с ним под видом разговора в подробные рассуждения о делах. Король, его государь, удивляется, начал Сольмс, как сильно ее величество изволит интересоваться саксонским двором, когда тот поступками своими не только не заслуживает заступления ее величества, но более достоин мести за радость, оказанную им при известии о заговоре (хрущовском) против ее величества; он, граф Сольмс, может уверить, что при этом случае дрезденский двор везде разглашал в Польше, что хотя первое покушение было и неудачно, однако новое покушение, которое последует в ноябре, непременно произведет перемену в правлении. Если бы король в угодность императрице захотел очистить Саксонию, то как бы он мог увериться, что не подвергнется нападению в сердце своих владений, имея столько опытов вражды и ненависти дворов венского и дрезденского, которые до войны думали уже о раздроблении областей его. Король готов заключить мир с австрийским домом, если только тот отстанет от своих требований и захочет удовольствоваться тем, чем каждый владел до войны. Так как великобританский двор при заключении мира с Франциею в противность торжественных обнадеживаний вовсе пренебрег интересами его прусского величества и вообще начал оказывать к нему большую холодность, то король опасается, чтоб лондонский двор, скрывая несправедливость своего поступка, не захотел распространить своих вредных для короля внушений и при здешнем дворе, тогда как король, напротив, употребляет всевозможное старание сохранить дружбу с ее величеством. Канцлер отвечал, что ее величество заступается за польского короля по дружбе к нему, по его усильным домогательствам и особенно по принятому однажды навсегда правилу – стараться по возможности о скорейшем прекращении народных бедствий. Ее величество не без причины ожидала со стороны прусского короля большей податливости и снисхождения к ее заступлению, тем более что Саксония и без того уже почти вконец разорена. Опасение австрийского нападения чрез Саксонию на прусские земли не может служить отговоркою, ибо в русском предложении точно обозначено, что Саксония будет немедленно занята войском своего курфюрста, который во всю войну будет соблюдать строжайший нейтралитет. Внушение о странной радости, будто б оказанной польским двором по поводу заговора, тем удивительнее, что об этом не было извещения ни от русского министра в Польше, ни от кого другого; наконец, мнимый раздел прусских земель, в котором обвиняются теперь дворы венский и дрезденский, никогда не был доказан, хотя с прусской стороны весь саксонский архив силою взят и многие бумаги из него изданы. На это Сольмс заметил, что у короля в руках находятся явные доказательства замысла о разделе его владений.
Фридрих не думал, чтоб Екатерина при тогдашних обстоятельствах решилась начать войну, и особенно войну с ним из-за Австрии и Саксонии. В декабре он писал Финкенштейну: «При настоящих обстоятельствах надобно выигрывать время и идти потихоньку (a pas mesures). До сих пор я не знаю, в каких отношениях мы с Россиею; я имею важные причины думать, что там не захотят разорвать с нами; императрица уводит свои войска внутрь страны, и я не думаю, чтоб Австрия имела большое влияние в Петербурге».
Какую печаль произвело событие 28 июня в Пруссии, такую же радость возбудило оно в Дании.
29 июня уже был отправлен к Корфу рескрипт, что если он находится на дороге в Берлин, то пусть возвращается туда, где находится датский король, и удостоверит его в искреннем желании императрицы ненарушимо сохранять и продолжать союзническую дружбу; внушить, что императрица с сожалением видела, как доходили до крайности несогласия с Даниею по голштинским делам, и все предприятия против Дании признавала за несходные с интересом своего государства, благополучие которого предпочитала всем посторонним видам. Теперь императрица желает оставить все на прежнем основании, полагая за правило, что голштинские дела не могут служить поводом к нарушению доброго согласия России с датским двором.
Корф был уже в Берлине, когда получил этот рескрипт; он немедленно отправился в Копенгаген и оттуда в загородный королевский замок Фриденбург, где его ожидали с нетерпением и приняли с великою радостию. Король не находил слов для выражения своей благодарности императрице за ее уверения в дружбе и распространился о своем уважении к русскому народу. «Вы свидетель, – говорил он Корфу, – как я всегда почитал русский народ, это почтение усилилось вследствие храбрых действий русских войск в настоящей войне, мне было жаль вступить в кровопролитную борьбу с народом, которого я ничем не оскорбил». «Не только двор, – писал Корф, – но и все жители датских провинций, чрез которые я проезжал, до последнего крестьянина обнаруживали радость вследствие нечаянной перемены в их судьбе; да исполнит Всевышний все то, чего эти бедные люди желали вашему величеству. Совершенно другое обнаружилось в Берлине и бранденбургских землях, когда там узнали о вступлении на престол вашего величества: ужас был так велик, что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург».
Но в Дании слишком много рассчитывали на равнодушие Екатерины к Голштинии. Датский король объявил, что по договору между ним и шведским королем как принцем голштинского дома последний отказался в его пользу от опекунства в случае малолетства герцога голштинского. Теперь, по мнению датского короля, этот случай настал по малолетству великого князя Павла Петровича, и он, король датский, должен вступить в опекунство, следовательно, и управление герцогством. Но Екатерина собственноручно написала Иностранной коллегии: «Тем наипаче, что при вступлении моем на всероссийский престол всем державам объявлено, сколько я желаю мир и тишину, ныне удивления достоин поступок короля датского, который объявил мне, будто он права имеет обще со мной опекунство сына моего в Голштинии на себя взять. Я оные права признать не могу. В Римской империи младший принц без ведома старшего своего дома не может в повреждение того заключить трактат. Бывший император не ведал и никогда не апробовал трактат короля шведского, младшего принца голштинского дома, с королем датским в предосуждение своих братьев и наследника Петра III. Мать по всем Римской империи правам имеет опекунство сына своего, и король датский сам подкреплял в саксен-веймарском доме недавно случившийся случай. Сколько наиболее при всего умного света (т. е. по признанию всех умных людей) права самодержавной императрицы подкрепляет поверенность целого обширного народа – всякому на рассуждение отдается. С королем датским же в негоциацию отнюдь вступать не буду до тех пор, что все его войска из Голштинии не выведены». Екатерина назначила администратором известного принца Георгия в награду за его родственное заступничество за нее при Петре III. Разумеется, Дания должна была уступить, и министр иностранных дел барон Бернсторф объявил Корфу, что намерение короля в этом деле было самое невинное: «Он хотел только с своей стороны действительно доказать участие в интересе, в приращении германских владений великого князя, следовательно, получить более случаев к изъявлению его высочеству опытов своей искренности, дабы приобресть будущую этого государя дружбу, которая королю и землям его очень нужна; но, усмотря, что императрица относительно соопекунства и администрации голштинских земель не одного мнения с королем, последний не преминет отказаться от своего права для показания высокопочитания и самой искренней дружбы своей, какую только ее величество вообразить себе изволит».
Событие 28 июня, возвратившее Корфа из Берлина в Копенгаген, удержало Остермана в Стокгольме. 29 июня отправлен был к нему рескрипт с извещением о восшествии на престол Екатерины и с приказанием уверить короля в намерении новой императрицы непременно содержать добрую дружбу с шведским двором. Король велел отвечать, что хотя не мог без сожаления услышать по ближнему родству с бывшим императором Петром III o наведенном им самим на себя приключении, однако, приняв в уважение важные причины, принудившие императрицу предаться материнскому попечению о благе Российской империи, и еще ближайшее родство с нею, с наичувствительнейшим удовольствием услышал о счастливом ее восшествии на престол и о намерении сохранять дружбу со Швециею; король с своей стороны не преминет утверждать эту дружбу всеми силами. Это Адольф-Фридрих доказал немедленно совершенным отстранением своим от участия в деле по претензиям датского короля на голштинскую администрацию.
Относительно новой инструкции графу Остерману канцлер Воронцов подал императрице доклад: «Графу Остерману в начале еще последнего правления дан был указ шведского короля и королеву, также и партию их подкреплять везде и при всяком случае, но так как это беспредельное повеление может касаться и ниспровержения установленной в Швеции формы правления, то не соизволено ль будет его отменить?» Екатерина отвечала собственноручно: «Ограничивая форму правления, подкреплять партию, противную господствующей».
В сентябре Остерману удалось добыть и переслать в Петербург донесение шведского посланника при русском дворе Поссе о состоянии Российской империи. Поссе начинает ближайшим к себе делом – отношениями России к Швеции, о которых пишет, что было бы желательно, если бы они навсегда остались такими, как теперь. Затем Поссе переходит к военной силе России: регулярное войско простиралось до 304953 человек, нерегулярное – до 32000; но из этого числа в поле не может быть выведено более 100000 человек; полки никогда в комплекте не находятся: так, в пехотном полку следует быть 2637 человекам, но в нем постоянно недостает от 600 до 700 человек, ибо Военная коллегия старается иметь сколько возможно порожних мест, чтоб остающимся жалованьем обогащать свою казну. Кроме того, от беспрестанных переходов армейских полков по такому обширному государству из одной провинции в другую много людей пропадает; сюда же должно присоединить природную ненависть русских к военной службе и трудность в наборе и пересылке рекрут. В счет людей в полках входят офицеры, унтер-офицеры, капралы, лекаря, попы, писаря, музыканты, плотники, кузнецы, денщики, погонщики, что составляет от 600 до 700 человек в каждом полку. Русский солдат питается дурною пищею, находится постоянно в тяжелой работе, лишен хороших лекарей и лекарств; по этим причинам четвертая доля полка лежит в госпитале, а больного солдата можно почитать пропадшим по дурному за ним уходу, так что в каждом полку остается только от 800 до 900 человек. Русские к солдатству не способны и не имеют искусных генералов, исключая некоторых иностранцев. Во время настоящей войны находившиеся в русской службе чужестранцы и лифляндцы обойдены и пренебрежны, и в последние годы несколько тысяч способных и искусных иностранных офицеров принуждены были просить увольнения и получили его без всякого затруднения. Сухопутный и Морской кадетский корпуса могут почитаться плодовитым садом, доставляющим способных офицеров. Флот состоит из 31 линейного корабля, а с судами других названий число военных кораблей – 42, галер – 99. Старшие корабли в плохом состоянии и так гнилы, что едва можно их починить; вообще флот в дурном состоянии, потому что корабли строят неискусно: 99-пушечный корабль «Елисавета», построенный в 1745 году, не мог быть употребляем на море, потому что на бок валится; казанский дубовый и архангельский сосновый лес, употребляемые для кораблестроения, мягки и неплотны; Кронштадтская гавань не имеет соленой воды; семимесячное в году окружение корабля снегом и льдом очень много вредит им. Русский флот будет всегда в посредственном состоянии по недостатку искусных матросов; этот недостаток будет существовать до тех пор, пока Россия не будет употреблять для своей торговли собственных морских судов.
«Если бы Россия умела пользоваться выгодами, которыми так богато одарила ее природа, то она могла бы довести свою торговлю до высшей степени процветания; но у русских нет для этого ни достаточной вольности, ни достаточного знания и кредита, ни достаточного количества денег; их знатнейшие купцы суть только комиссионеры купцов иностранных, преимущественно английских. В Россию ввозится иностранных товаров на три миллиона 2715 рублей, а вывозится – на четыре миллиона 700000 рублей; но для избежания тяжкой пошлины привозимые товары по меньшей мере объявляются третью ниже истинной цены, а сверх того, мимо таможен тайным образом провозится множество товаров, так что большой разницы между вывозом и ввозом быть не может. Торговля сильно страдает от высоких таможенных пошлин: можно положить, что все товары платят по 40 процентов пошлины. Немало способствовало уменьшению русской торговли на несколько лет, а может быть и навсегда, запрещение отпуска из государства некоторых произведений. Пока лифляндские закромы были отворены, Швеция ежегодно брала оттуда по нескольку тысяч ластов хлеба, но когда вывоз хлеба из России был запрещен, то Швеция нашла внутри себя средство помочь этой беде: запрещено было безрассудное винокурение и введена лучшая система в земледелии. Монополии принадлежат к числу важнейших причин, умаляющих торговлю; сюда же должно отнести проволочку времени, обиды, бесконечные хлопоты и взятки, берущиеся во всех таможнях. Когда таможни были у короны, то купцы платили пошлины в конце года оптом и капитал был у них свободен целый год, но когда таможни были отданы на откуп, то купцы принуждены очищать таможенную пошлину тотчас по выходе товара из таможни. Таможенные откупщики обязались платить в год 3000000 рублей, но так как вследствие повышения пошлин торговля уменьшилась, то они оказались несостоятельными.
О фабриках правительство не заботится надлежащим образом, а частные люди не имеют достаточно денег и кредита, и потому фабрики или совершенно упадают, или не совершенствуются; русские ремесленники не в состоянии добыть себе лучших инструментов и материалов и потому работают дурно, хотя работа их и дешево продается, но по доброте никак не может сравняться с иностранною».
Остерман с своей стороны доносил императрице о печальном состоянии Швеции, недостатке денег, страшной дороговизне, всеобщем ропоте на правительство, о мысли созвать чрезвычайный сейм. Остерман писал, что вследствие всеобщего неудовольствия может быть восстановлено самодержавие, ибо никогда еще не слыхал он таких ожесточенных выходок против настоящей формы правления. Противники придворной партии утверждали, что она имеет целию восстановление самодержавия, указывая на то, что ею управляет королева и самый влиятельный член партии, полковник Синклер, вполне предан королеве. Остерман при случае завел с Синклером речь о его намерениях: тот отперся от намерения ввести самодержавие, объяснил, что единственная его цель – уничтожение известных беспорядков, а это не может быть сделано без пересмотра существующей формы правления, без отстранения заключающихся в ней противоречий, установления фундаментального закона, которого нельзя было бы переменять при каждом сейме, и без точного определения границ королевской и сенатской власти. На вопрос Остермана, каким способом он может этого достигнуть при такой силе французской партии, которая до этого не допустит, Синклер отвечал, что без денег что-либо сделать трудно и если бы он мог получить только третью часть того, что издерживает французский двор в Швеции, то мог бы достигнуть больших результатов. На вопрос, а если он этих денег не получит, что предпримет в таком случае, Синклер отвечал, что в таком случае надобно потерпеть до времени, пока народ не откроет наконец глаз и сам не подумает о своем спасении. Последний сейм, писал Остерман, кончился без решительного перевеса ни придворной, ни французской партии.
Важнее были польские дела. Мы видели, что при Петре III вместо Воейкова русским послом в Варшаву был назначен граф Кейзерлинг; Екатерина не переменила этого назначения, но оставила Кейзерлинга на несколько времени в Петербурге для совещаний, и делами посольства в Варшаве управлял резидент Ржичевский. Мы видели, что королевский двор, повергнутый в отчаяние переменою русской политики и тесным союзом Петра III с Фридрихом II, утешался слухами, что в Петербурге произойдет скоро переворот. В депеше от 16 июня прусский министр Бенуа доносил своему королю, что приезжие из Петербурга рассказывают, как императрица любима русским народом. Слухи оказались справедливыми, в России произошла перемена, но польско-саксонский двор ничего от нее не выиграл, выиграла враждебная ему партия Чарторыйских. Ржичевский не умел или не хотел отстать от старых елисаветинских инструкций, по которым русские министры в Польше должны были держать себя беспристрастно относительно тамошних партий и не раздражать двора из-за Чарторыйских; притом же Ржичевский теперь мог бояться Бестужева, известного приверженца польско-саксонского двора, а послом в Польшу был назначен Кейзерлинг, приятель Бестужева. Но Чарторыйские послали жалобу на Ржичевского, который вследствие этого получил выговор от канцлера: «Из полученных мною от вашего высокоблагородия писем, также из отправленных вами к высочайшему двору реляций с неприятностию усмотрено здесь о невоспоследовавшем, согласно здешним видам, успехе в порученных вам делах. Вам точно предписано, чтоб вы в рассуждении сеймовых дел в Польше с князьями Чарторыйскими яко благонамеренными в крайней конфиденции о здешних намерениях изъяснились и до приезда господина посла графа Кейзерлинга в сем пункте по присоветованиям их поступки ваши учредили, також чтоб вы со стороны высочайшего нашего двора у его польского величества домогались, дабы на прошение канцлера князя Чарторыйского пожалованием обоих литовских писарей в порожние чины воеводы виленского и гетмана литовского снизойти соизволил и что король сам себе обяжет такую фамилию, которая прежде много усердия и преданности к интересам его величества оказывала и только обстоятельствами от продолжения оных отведена была, и напоследок чтоб вы уведомили оного канцлера и обоих кандидатов о здешнем заступлении, требуя взаимно при всяком случае содействования их для поспешествования здешних интересов, кои толь тесно соединены с благосостоянием их отечества. Но содержание сих рескриптов вы весьма худо поняли и совсем противное здешним намерениям исполнение сделали, ибо вы, вместо того чтоб согласное и откровенное сношение с фамилиею князей Чарторыйских иметь, совсем другое им, как о том здесь уведомлено, внушали, хотя всего больше надлежало вам стараться, чтоб по довольно известным тамошних разных партий распрям и интригам графа Бриля и прочих ссоры их до крайности не доводить, преклоняя их к умеренным поступкам и прекращению вражды, тем более что ее императорского величества намерения отнюдь нет, чтоб чрез здешнюю протекцию фамилий князей Чарторыйских малейшее огорчение королю польскому учинить. А когда вы принуждены были для разрыва сейма подкупить посла Цехановского, то не должно было ему дозволить внести в манифестацию укорительные для России дела. Впрочем, имею еще приметить, чтоб вы воздержались по внушениям других писать неправильно в предосуждение дознанной здесь благонамеренности фамилии князей Чарторыйских, но впредь по точному содержанию отправляемых к вам отсюда наставлений поступали и вообще в поступках ваших наблюдали здешние виды и сопряженные с оными интересы высочайшего нашего двора».
Ржичевский оправдывался в письме к канцлеру: «Упомянутое мною злоупотребление князьями Чарторыйскими высочайшего покровительства состоит в том, что когда я их об этом покровительстве уведомил, то они советовали мне ехать к примасу, коронному гетману и прочим, дать им знать о новых отношениях русского двора к ним, Чарторыйским, склоняя упомянутых вельмож войти с ними в соглашение и держаться их, и, прежде чем я успел переговорить с примасом и гетманом, Чарторыйские уже разгласили об императорском покровительстве, ибо некоторые сенаторы и министры на другой же день спрашивали меня, правда ли, что императрица готова одобрить все сделанное Чарторыйскими и во всем их подкреплять. На мой вопрос, откуда они это взяли, я получил ответ, что сами Чарторыйские хвастаются получением такого объявления от русского двора через меня. Тогда я принужден был объявить, что подобной декларации Чарторыйским не делал, а объявил им только желание императрицы доставить им своим ходатайством у короля те чины, которых им хотелось. Правда, князья Чарторыйские – люди великие, только не составляют же здесь большую часть республики, много еще есть сильных и к России расположенных домов, которые также за честь себе почитают получить высочайшую благосклонность, хотя бы с князьями Чарторыйскими и находились в несогласии; следовательно, поступаю я так, как за лучшее рассуждаю, т. е. чтоб не только князей Чарторыйских подкреплять, но и других не раздражать. Князья Чарторыйские сами жалеют теперь о своей поспешности, которая им никакой чести не приносит и по которой они с графом Брилем так рассорились, что нет никакого средства их примирить. Они предъявляли мне, что у шляхетства имеют кредит, но тотчас оказалось, что он был на другой стороне: под изданным ими манифестом подписались гораздо менее, чем под манифестом графа Бриля. Как старых друзей их нельзя покинуть, чтоб и другие имели на Россию добрую надежду, но действовать против графа Бриля и двора, особенно в нынешнем деле, было бы предосудительно».
Оправдание не помогло, что видно из собственноручной заметки Екатерины: «Тесная голова Ржичевского не могла понять, что если ему приказано было у двора рекомендовать к произвождениям те персоны, о которых Чарторыйские просили, он мог их также рекомендовать и у примаса и прочих; лучше всего видится, дабы вперед там не думали, что мы двоякую роль играем, приказать ему по наставленьям Кейзерлинга; я, сверх того, вижу, что Ржичевский весьма влюблен в графа Бриля, а я желаю, чтоб не по собственным страстям, но по моим приказаниям поступлено было. В силе сего, однако ж, без выговора и умеря слова, наставление ему дать надлежит для переду».
Самое тяжелое поручение, которое должен был выполнить Ржичевский, состояло в подаче польскому министерству грамоты, извещавшей о решении Екатерины восстановить на курляндском престоле Бирона. Ржичевский должен был внушить, что так как исчезли причины, по которым нельзя было герцога Бирона выпустить из России, то нет никаких затруднений восстановить его в герцогском достоинстве, на которое он уже раз навсегда получил инвеституру; справедливость требует возвратить ему все имения, подаренные ему императрицею Анною и купленные им самим на собственные деньги. «Натурально думать, – говорилось в рескрипте Ржичевскому, – что, хотя король, как великодушный государь, с одной стороны, и признает наше правосудие относительно пострадавшей фамилии, которая никогда ни в чем не погрешила ни перед нами, ни перед его короною, с другой стороны, как отец, не может он не почувствовать горести. Желая сколько возможно утешить короля в печали и притом доказать, что мы дружески заботимся о благосостоянии его и всего его дома, повелеваем вам подать обнадеживание, что так как есть надежда на скорое прекращение военных бедствий, то мы будем содействовать не только справедливому удовлетворению Саксонии за претерпенные ею разорения, но содействовать также и вознаграждению принца Карла за потерю Курляндии посредством секуляризации каких-либо епископств или доставлением других выгод, например, можно было бы доставить ему епископство Минстерское или город Ерфурт, за который маинцкий епископ получит еквивалент: прусский король в секретных мирных предложениях 1757 года выражал свою склонность к этому».
Август III потребовал, чтоб Бирон представил прямо ему свои требования. На это Ржичевский получил рескрипт: «Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет такое желание его величества и обязан ли герцог Эрнест-Иоганн просить о том, чего у него никто и ни по каким правам отнять не мог. Мы обращаем ваше внимание на одно, что королевская ответная грамота написана в саксонской канцелярии, которая по делам Польши, а следовательно, и Курляндии никакого участия иметь не может, и потому впредь по курляндским и польским делам вы не должны принимать никаких бумаг из саксонской канцелярии».
От 14 августа Ржичевский дал знать, что он еще не приметил, чтоб кто-нибудь из польских вельмож вступался за герцога Бирона, но все говорят, что так как король и республика так долго не могли допроситься освобождения герцога Бирона и получили от императрицы Елисаветы декларацию, что Бирон с своим семейством никогда освобожден не будет, то был бы нанесен большой ущерб власти короля и республики, если б теперь король лишил сына своего принца Карла княжества Курляндского, ибо он дал ему это княжество вследствие деклараций русского двора и по усильным прошениям курляндцев. Обстоятельство, что ответная королевская грамота императрице была написана в саксонской канцелярии, Ржичевский объяснял тем, что так как поляки не дают русским государям императорского титула и в коронной канцелярии поэтому грамота была бы написана без этого титула, то боялись, что Ржичевский не возьмет ее, и потому решились написать в саксонской канцелярии. «Не могу утаить, – писал Ржичевский, – что король находится в большом горе, боится, чтоб сын не потерял герцогства Курляндского в пользу Бирона, и весь двор опасается, чтоб здоровье короля не пострадало от этой печали; говорят, потерпев великое разорение в Саксонии, король возлагал всю свою надежду на великодушие русской императрицы, а теперь и с русской стороны терпит притеснения по курляндскому делу».
Между тем Кейзерлинг в Петербурге вместе с Бестужевым занимался разными делами по поручению императрицы. Относительно курляндского дела существует любопытная записка Бестужева от 29 августа: «Присланная реляция Ржичевского для сочинения по курляндским делам ответов за неимением графу Кейзерлингу времени прежде окончаемы быть не могли как сегодня в седьмом часу пополудни (ибо он упражнен был голштинскими делами), которые (т. е. ответы) при сем и с тою реляциею прилагаются на всевысочайшую апробацию. Что же принадлежит до письма принца Карла к ее императ. величеству, которое граф Кейзерлинг ему, Бестужеву-Рюмину, сообщил, то он, припамятуя ему, что по примеру, как нынешний король прусский в 1746 году своеручное письмо императрице Елисавете Петровне (без предварительной прежде копии) писал, и по повелению ее величества, чтоб на то письмо отмстительный ответ сочинить, представлено было ее величеству по русской пословице: „Доброе молчание ни о чем ответ“, а по-немецки: „Keine Antwort ist auch eine Antwort“, что ее величество в тогдашнее время и апробовать соизволила, на чем граф Кейзерлинг и согласился, чтоб, не вступая с ним в переписки, без ответа оставить». Бестужев достигал наконец исполнения давнего и сильного желания своего – восстановить своего благодетеля, Бирона, на курляндском престоле, чего, как мы видели, он напрасно добивался при Елисавете, будучи великим канцлером. Но с другой стороны, тот же Бестужев был предан саксонскому дому: чтоб не изменить и этой своей преданности, Бестужев настаивал на требовании от Пруссии, чтоб саксонский дом при заключении общего мира был вознагражден в Германии посредством секуляризации.
Но вознаграждение в Германии – дело неверное; Россия, отказавшаяся от войны, теряла право предписывать условия мира, а между тем эта самая Россия отнимала Курляндию у саксонского дома.
Несчастный Август III хотел удержать своего сына в Курляндии посредством польского сейма, но сейм, как мы видели, был разорван вследствие предписания Екатерины от 28 августа: «Писать к Ржичевскому, дабы он всевозможное старанье приложил разорвать ныне собираемый сейм, и отнюдь не допустил бы до выбиранья маршала во что оное бы ни стало, и, об оном сообщась с фамилиею Чарториских и посоветовався с ними, поступал по сему еще до приезда гр. Кейзерлинга». Тогда король потребовал, чтоб Сенат и министерство озаботились о принце Карле: 7 октября (н. с.) примас созвал к себе до сорока сенаторов на конференцию и королевским именем предложил, чтоб они советовались о средствах не допустить Бирона на герцогство Курляндское, освободить Курляндию как польскую область от русских войск, представить жалобу на русского министра в Митаве Симолина, будто он поступал в Курляндии самовольно, и отправить в Митаву двоих сенаторов на помощь принцу Карлу. Но некоторые сенаторы, выслушав предложение примаса, начали говорить, что такая конференция должна происходить в присутствии короля, которому они прямо будут открывать свои мысли. Во время этих рассуждений некоторые сенаторы сидели, другие ходили по комнате, и наконец между ними произошли великие ссоры, «которыми без всякого совета оная конференция и счастливо кончилась», – писал Ржичевский.
Австрийский посол в Варшаве граф Штернберг приезжал к Ржичевскому и сильно заступался за принца Карла, говоря, что никакой двор не может быть надежен в своих решениях, когда государи ниспровергают то, что предки их обещали. Граф Бриль неоднократно давал знать Ржичевскому, что при будущем конгрессе все союзные дворы, без сомнения, вступятся за принца Карла. Все это было передаваемо Ржичевским в Петербург и не производило там никакого впечатления. Не произвело действия и письмо, которое король писал Бестужеву, по известным нам причинам. Впрочем, по польским делам Бестужев должен был разойтись с своим прежним приятелем Кейзерлингом: мы видели, что последний вошел совершенно в виды Екатерины возвести на престол Пяста, и именно Понятовского, причем предвиделась необходимость в прусском союзе; Панин держался того же мнения, чем и пролагал себе дорогу к будущему значению главного советника Екатерины по всем делам, хотя временно и было между ними охлаждение вследствие настаивания на учреждении Императорского совета. Бестужев, несмотря на все его забегания и каждения, проигрывал тем, что упорно держался своих прежних взглядов, постоянно твердил о необходимости удержать саксонскую династию на польском престоле. Отсюда толки, что бывший канцлер устарел, потерял способности; с другой стороны, толки, что он упрям, никак не может сообразоваться с новыми обстоятельствами. На это обвинение в упрямстве и на столкновение между двумя старыми приятелями, Бестужевым и Кейзерлингом, указывает письмо Бестужева к Екатерине от 29 августа: «Всемилостивейшая государыня! Позвольте мне припамятовать о тайном советнике Гросе, что я, как уже одною ногою в гробе стою, не похлебствуя ему да из всеглубочайшего моего усердия к в. в-ству, что он весьма при существующем здесь случае был бы вам потребен, на всех трех языках – на российском, французском и немецком равномерно, а притом на латинском, наипаче же римско-имперские права не меньше графа Кейзерлинга знающ, и притом действительно искусный министр, буде же кто его оклеветал упрямым, то и я таким бывал у государыни в бозе почившей императрицы в том, что я прекословил, что французский двор домогался между Россиею и Швециею в последней войне быть медиатором, да меня в тогдашнее время оправдали российского при французском дворе посла князя Кантемира реляции, находящиеся в коллегии Иностранных дел, которые тому свидетельство подадут, что французский двор, дружескую медиацию к примирению с шведами представляя, в то же время турков возбуждал противу России войну объявить, я же потом и при многих случаях называем был упрямым, что я не привык жить по пословице: „Не говори правды, не теряй дружбы“, так и ныне, при моей глубокой старости, до последнего моего издыхания в. в-ству верным рабом и сыном отечества пребуду».
Кейзерлинг поехал в Варшаву с полною милостию императрицы. «Прошу вас подавать мне советы издалека, как вы мне подавали их вблизи», – писала к нему Екатерина. К Понятовскому она писала: «Я не могу отпустить к вам Волконского, у вас будет Кейзерлинг, который вам будет отлично служить». По известию, сообщенному английскому двору послом его в Петербурге Бекингамом, Екатерина тотчас после своего восшествия на престол послала сказать Понятовскому, чтоб он не приезжал в Петербург, но что дружба ее к нему неизменна и в случае королевских выборов в Польше она постарается доставить престол ему, а в случае невозможности – одному из членов фамилии Чарторыйских.
Неприятности между дворами усиливались. 10 декабря Екатерина писала Воронцову: «Велите внушить графу Брилю, что если по курляндским делам он единого противного моей воле шага сделает, я велю покинуть все мои старания у короля прусского об Саксонии, а в Польше сутенировать всем, чем только вздумать он может, все те, которые ему злодеи, и до тех пор не перестану, покамест его из Польши не выгоню. Сие внушение г. канцлер разговором, с которым из здесь резидующих министрам чужестранным он за способного к тому выберет иметь, а мне кажется, датский или шведский способнее, и то начинав индеферентно и разговориться с великим уничтожением о мнимом старанье графа Бриля по курляндским делам, и что он хотел выбрать польских двух сенаторов и посылать в Митаву, и что такой и всякой иной его, Бриля, поступок меня доведет сутенировать все те, которые стараются о его погибели, и то всем тем, чем силу имею, и так стараться, чтоб сие до Прасса дошло, дабы знали мои намерения, а граф Бриль блудлив, как кошка, а труслив, как заяц».
В конце ноября приехал в Варшаву Кейзерлинг и начал «отлично служить». Уведомив императрицу о страшных раздорах между придворною партиею и «нашими друзьями», Кейзерлинг ставил вопрос: «Намерена ли Россия друзей и сообщников своих в Польше оставить в упадке или нет? Если их не оставлять в упадке, как этого требует честь и польза России, то надобно заблаговременно предупредить все, что может привесть их в бессилие, ибо что утратят русские друзья, то утратит Россия. Если и впредь исполняем будет план, чтобы наших друзей в важные чины не допускать, а определять в них или неприятелей России, или людей, не имеющих никаких заслуг, кроме малого разума и большого богатства да склонности к насилиям; тогда число наших друзей мало-помалу будет уменьшаться, и совсем они исчезнут, и в случае нужды нам некем будет приняться. Для отвращения таких неприятных последствий не рассудите ли, ваше императ. величество, прислать мне рескрипт следующего содержания для показания всем, именно что ваше величество ничего столько не желаете, как непременного продолжения дружбы и прежнего доброго согласия с королем польским, только требуете, чтоб дела в Польше также приведены были в прежнее состояние; а прежде друзья России никогда не были отличены от друзей двора, и тех и других всегда почитали за одну партию, за общих друзей; ваше величество надеетесь, что король Чарторыйских, Понятовских и друзей их изволит признать за достойных его милости при раздаче чинов; что они верные слуги своему королю, что стараются они о пользе и благополучии своего отечества, что из усердия к отечеству они друзья России, зная, что ваше величество по примеру предков своих намерены охранять благополучие республики, ее вольность и права; что ваше величество никогда не были намерены рекомендовать королю никого другого, кроме людей, ему верных и полезных; что ваше величество будете всегда следовать сему правилу, всегда будете поддерживать в Польше патриотов, не допуская их до притеснения». Императрица на этой реляции подписала: «Быть по сему». Кроме того, она писала Воронцову: «Графу Кейзерлингу наставленье дать, дабы, не переписавшись сюда, он при ваканциях рекомендовал у польского двора всех тех, которых он за российских партизанов признает, дабы не утратить иногда в таких ваканциях время чрез переписку по причине великого расстоянья Варшавы от здешних мест. Также граф Кейзерлинг имеет сказать графу Брилю, что я с великим удивленьем вижу, что моим друзьям все чины и милости отказываются, тогда когда я вседневно о Саксонии и прочих удовлетворениях его королю стараюся, и что чрез такой неприятельский (и много иных) поступок меня принудит он иных мер брать».
Кейзерлинг переслал императрице две промемории, поданные ему обоими братьями Чарторыйскими 3 и 4 декабря. В первой говорилось о необходимости составить конфедерацию, потому что обыкновенных средств недостаточно для уничтожения зла, которым страдает Польша. Многие молодые люди владеют важными местами и ведут себя на них так, что считаются бичами народа, а король не имеет права отнимать места, раз данные. Страшное искажение монеты требует ее перелития, что может быть определено только сеймом. Так как на успех сейма надеяться нельзя, то необходимо прибегнуть к конфедерации, чтоб заместить важные места людьми достойными, отстранить потери денежные и торговые, чтоб дать лучшую форму национальным совещаниям (conseils de la nation), чтоб дать всероссийской императрице титул, достойный ее могущества и личных качеств, чтоб установить навсегда доброе согласие между обоими государствами. Но для конфедерации нужны деньги и огнестрельное оружие. Помощь, какую русский императорский двор окажет вождям благонамеренных, должна соответствовать их намерениям. Они не могут ни за что приняться до тех пор, пока не будут с точностию уведомлены и удостоверены на этот счет. Непродолжительная революция есть наименее бедственная для страны; чем сильнее она, тем менее нуждается в продолжительном времени для достижения своей цели, но она не будет сильна, если существенные средства будут слишком урезаны вначале и потом доставляемы медленно.
Во второй промемории говорилось: «Если желательно, чтоб русская партия усилила свое значение в стране, то важнее всего не ошибиться в выборе средств для этого. Одно из главных средств, без сомнения, состоит во влиянии на раздачу должностей и милостей. Но это средство не должно быть никогда куплено на счет общественного уважения. Мы потеряем это уважение, если торжественно помиримся с графом Брюлем. Вот причины. Всякое примирение по своей натуре предполагает забвение и прекращение обид; но так как предметы наших взаимных жалоб не должны и не могут кончиться, то не может быть и примирения. Они не могут окончиться с нашей стороны, потому что честные люди не берут назад того, что они предъявили публично на основаниях твердых и законных и могут доказать. Они не могут кончиться со стороны графа Брюля, потому что его прошедшие ошибки заставили его продолжать маневры, которые мы всегда будем порицать и опровергать. Все эти маневры Брюля имеют целию сохранение своего положения, а главное средство, для этого употребляемое, – деньги. Ему постоянно нужно много денег: 1) Для подкупа мелких людей, окружающих короля, и для содержания шпионов во всех частных домах, чтобы король ни с какой стороны не доведался о настоящих причинах своих несчастий. 2) Для удовлетворения своей безграничной роскоши, которая удовлетворяет не одной собственной его наклонности, но и желанию королевскому: Августу III нравится представительность фаворита, которую считает знаком собственного величия. 3) Для доставления королю средств к любимым удовольствиям Брюль продает милости с аукциона и портит монету с громадною для себя прибылью. Но так как скандал этих злоупотреблений заставляет его бояться общего неудовольствия, то он старается приобресть себе защитников, наполняя все места низкими и корыстолюбивыми душами, какими всякая страна наполнена во всякое время. Отсюда происходит порча Сената, который представляет не иное что, как орган ласкательства и невежества. Отсюда судебные места продажные, составленные насилием, готовые притеснять всякого, кто осмелится восстать против беззаконий Брюля или главных его потворщиков. Отсюда, наконец, эти сеймы, на которых невозможно провести ничего хорошего, ибо требуемое единогласие постоянно прерывается кем-нибудь, которого подкупил Брюль. Вот связь между ошибками и потребностями графа Брюля. Если он перестанет им удовлетворять, то потеряет фавор, следовательно, он не исправится, и потому мы не можем сделаться его друзьями. Сдержать алчность Брюля может один страх пред юридическими доказательствами, что он не польский шляхтич и, следовательно, не по праву пользуется имениями и почестями в Польше. Нападение на Брюля с этой стороны, хотя чрезвычайно опасное для нас, если бы мы не были уверены в поддержке России, с поддержкою России доставит нам столько же явных сторонников, сколько уже сделало тайных друзей. Но так как надобно испоместить и обогатить этих сторонников, то должно держаться середины. Не беря назад того, что уже мы предъявили против прав Брюля на польское шляхетство, без примирения с ним мы можем приостановить процесс против Брюля относительно польского шляхетства; Брюль будет находиться между страхом и надеждою и будет раздавать милости, как нам надобно, если только русский двор и его посланник станут употреблять тон, приличный с таким министром, настаивая сухо, чтоб каждая милость давалась нам и нашим».
Чарторыйские высказались. Они потребовали от Екатерины, чтоб она или дипломатическим путем заставила Августа III и Брюля отдаться им во власть, дать им возможность составить себе могущественную партию, в челе которой они могли отважиться на все, или послать им деньги и оружие для вооруженного восстания. Цель в том и другом случае одна – преобразования для усиления Польши, прежде всего преобразование сейма, уничтожение liberum veto. Россия должна употребить все средства, чтоб помочь Польше усилиться, а в награду Екатерина получит императорский титул, и водворится согласие между Россиею и Польшею! С первого раза поражает дерзость подобных предложений, но изумление пред поступком Чарторыйских исчезает, когда узнаем, что Кейзерлинг не только переслал императрице их промемории, но и прямо был за конфедерацию, предлагаемую ими: для чего же после того Чарторыйским было церемониться?