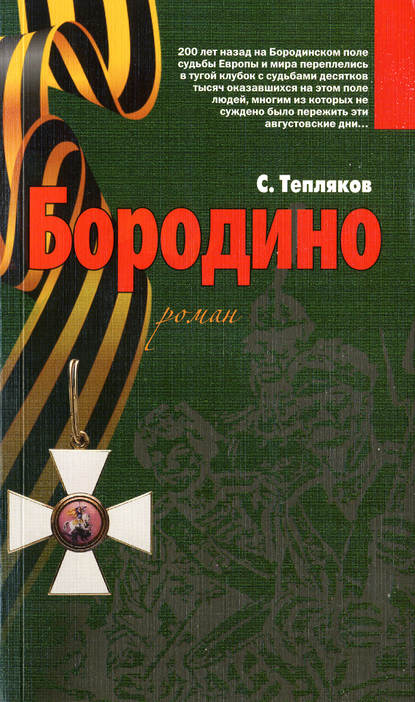По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бородино
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бородино
Сергей Александрович Тепляков
Роман «Бородино» рассказывает о пяти днях (с 22-го по 27-е) августа 1812 года. В числе главных действующих лиц не только предводители войск – Наполеон, Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли – но и люди в малых чинах: Генрих Брандт из Висленского легиона Великой Армии, лейтенант Гарден из французского 57-го линейного полка, русские офицеры братья Муравьевы и еще немалое число других больших и малых персонажей. Некоторые из них появляются перед взглядом читателя однажды и пропадают навсегда, как это нередко бывает в жизни, и особенно часто – на войне…
Сергей Тепляков
Бородино
Часть первая
Глава первая
– Канонада, вы слышите, Брандт? – сказал поручик Висленского легиона Гордон своему товарищу.
– Конечно. Как же её не слышать… – отвечал Генрих Брандт, 23-летний молодой человек. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем…
– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.
Гордон и Брандт были товарищами в этом походе, и положение дел в Великой Армии было едва не главной темой их разговоров в течение этого путешествия, начавшегося для Висленского легиона ещё в марте, 22-го числа, когда легион вышел в Париже на императорский смотр. Всю весну Великая армия двигалась к русским границам, проедая в Европе коридор, как прожорливая гусеница проедает свой путь в листе дерева.
В мае легион пришел в Познань, поблизости от которой было имение родителей Брандта Стржельново. Чтобы повидаться, у Брандта был всего день, да он больше и не выдержал бы: имение от провозглашённой Наполеоном континентальной системы пришло в упадок, а продвигавшаяся через него Великая Армия разорила несчастных родителей Брандта совершенно. Сначала у них стоял маршал Ней со своим штабом, потом – кронпринц Вюртембергский Вильгельм. Целый батальон устроил бивак прямо во дворе господского дома – солдаты жили, не стесняясь. Когда Брандт приехал, крепкие запахи этого бивака чувствовались по всему саду, по всему дому. Отец Брандта сказал: «Ты, сын мой, знал лучшие дни, а теперь пришёл в дом нищего» – и заплакал. Этого юноша перенести не мог. Тут как раз прибежал кто-то из слуг со словами, что проходящие мимо французские солдаты выгребают с сеновалов последнее сено. Брандт вскочил в седло и понёсся к сеновалам в таком же ослеплении, в каком ещё недавно бросался в атаку на испанских гверильясов. Однако тут была не Испания: командовавший французами офицер извинялся, твердил, что за всё выдаёт квитанции и особенно часто повторял, что от него самого, собственно, немного что зависит. «Поймите, я отвечаю перед императором за сохранение материала»… – сказал офицер Брандту, под «материалом» имея в виду солдат, офицеров и лошадей. Брандт понимал, что и он сам – «материал», и что кто-то ради сохранения в строю его, Брандта, и его солдат, сейчас так же вычищает чьи-то сеновалы, подвалы и погреба. Всё это не вмещалось в голове. Чтобы жить, надо было забывать.
Забывать – Брандту это было не впервой. Он был пруссак по рождению, и в 1806 году, 17-ти лет от роду, записался в прусскую армию, чтобы сражаться с Наполеоном. После Йены и Ауэрштедта, после Прейсиш-Эйлау и Фридланда, армия разгромленной Пруссии была разогнана, а половина Пруссии роздана Наполеоном русским и полякам. Пруссакам в этом мире некого было любить, а ненавидеть надо было бы столь многих, что и от ненависти приходилось отказаться. Брандт запутался, и только это-то – что запутался – и понимал ясно. (Впрочем, запутался не он один: Гегель, такой же как и Брандт, пруссак, в день вступления Наполеона в Йену написал о нём «мировая душа». У Гегеля, впрочем, имелась подходящая теория, согласно которой всемирно-исторические личности, каковой Наполеон очевидно был, являются доверенными лицами всемирного духа – а где уж нам, смертным, против всемирного духа? «Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним», – писал Гегель накануне того дня, когда его родина получила от «мировой души» едва ли не смертельный удар).
Брандт пытался через знавших его генерала Блюхера и майора Шилля, прославившегося своей партизанской войной против французов в окрестностях крепости Кольберг, записаться в новую прусскую армию, но те ничем не смогли ему помочь. Из той части Пруссии, где Брандт жил, по Тильзитскому миру 1807 года было создано Великое герцогство Варшавское. Так Брандт совершенно неожиданно для себя оказался польским подданным, а распоряжавшееся его прусско-польской судьбой французское правительство призвало его на военную службу, определив в Висленский легион и на три года отправив на войну в Испанию.
Поляки, которыми командовал Брандт, надеялись, что за службу Наполеону наградой им будет восстановление Польши. Ради этого 30 ноября 1808 года Козетульский летел со своим эскадроном по горной дороге на перевале Сомосьерра – на каждом повороте этой дороги испанцы поливали атакующих картечью. Поворотов было четыре: на трёх стояло по две пушки, на последнем, четвёртом – десять. Из двухсот человек, закричавших «Нех жие цезар!» и бросившихся вслед за Козетульским, через десять минут уцелели только сорок – по одному из пяти. Брандт не был в этой атаке – ему рассказывали о ней, как и о других случаях чудесной храбрости и невероятного мужества. (Брандту странно было, что герой этой истории жив – вон он, Козетульский, шеф эскадрона в 1-м полку шевольжёров-пикинёров Императорской гвардии). Брандт, участвовавший в сотне больших и малых схваток, стычек и боёв, имевший к концу службы в Испании два ордена, две раны и контузию, и сам много чего мог рассказать и рассказывал. (Так мальчишки, набрав в реке красивых камней, хвастаются ими друг перед другом, пока камни, обсохнув, не потеряют свой блеск и вместе с ним – почти всю красоту).
Однако награды всё не было – Польшу Наполеон не восстанавливал. Вместо этого он отделывался от поляков разными побрякушками – вот, например, Висленский легион был причислен к его гвардии. Это было, конечно, лестно, но это была не Польша.
Поначалу Брандт старался не думать, почему он служит тому, с кем должен бороться. А потом стало и вовсе не до этих мыслей. Лишь иногда доходившие из Европы в Испанию глухие слухи кололи его совесть раскалённой иглой.
Как-то раз Брандт узнал, что майор Шилль весной 1809 года поднял свой гусарский полк на восстание против французов. Брандт узнал об этом много позже – в Испанию такие вести доходили медленно. Он временами спрашивал себя – на что рассчитывал Шилль, отправляясь в свой последний поход? Наверняка надеялся, что и пруссаки поднимутся, как испанцы. Но пруссаки не поднялись, против Шилля выслали войска, он заперся со своими солдатами в Штральзунде и там 31 мая 1809 года погиб в отчаянном бою. Из его солдат и офицеров некоторые спаслись, пробравшись в Пруссию, но 12 офицеров были взяты французами и расстреляны. Брандт иногда думал, что и он ведь, помоги ему тогда Блюхер и Шилль, мог быть среди этих двенадцати, или среди тех, кто погиб на окровавленных мостовых Штральзунда.
Шилль не был похож на героя – пухлощёкий, коротконогий, вспыльчивый. Но он погиб за свободу Пруссии – о такой смерти мечтал и сам Брандт, бросая в 1806 году университет и поступая в армию. Вместо этого он состоит во французской армии, им командует французский генерал, на нём синий французский мундир, и он идет воевать с Россией. Всё запуталось. И только это – что всё запуталось – было ясно.
Поход в Россию отнимал много сил – и в этом было для Брандта благо: некогда было думать над теми вопросами, которые разъедали его душу.
Висленский легион форсировал Неман 26 июня по французскому счёту дат (14-го – по русскому). Рубикон этот не произвел на поляков особого впечатления. Первую неделю похода проливные дожди шли днём и ночью. Земля размокала так, что даже самые закалённые не могли спать на этом ложе из скользкой глины. (По обычаю тех лет, Великая Армия, кроме гвардии, не имела палаток и на ночлег все устраивались вокруг костров – ногами к огню).
Потом наступила тропическая жара. Колонны шли целыми днями без воды. Любая лужа процеживалась, выпивалась, вымакивалась тряпицами. Тысячи ног поднимали такую пыль, что казалось, будто её можно резать ножом. Люди набивали себе рот листьями деревьев, чтобы сохранить хоть немного слюны. Обозные лошадёнки, набранные в Польше и Пруссии, начали дохнуть. Объявилось огромное число мародёров, совершенно не стеснявшихся своего занятия – из награбленного добра они устраивали свои обозы, шедшие параллельно с Великой Армией, и по ночам располагались в своих лагерях – чтобы не делиться провиантом с теми, кто ещё оставался в рядах.
Молодые солдаты отставали от своих частей и умирали вдоль дорог. Не прошло и двух недель после начала похода, а в Висленском легионе убыль людей была такова, что командовавший им генерал Клапаред пришел в ярость. Только в Минске поляки подкормились и пришли в себя.
В Минске поляки увидели необычный «парад»: один из полков дивизии Компана, набранный в северо-германских землях, на виду у всей армии «парадировал» с поднятыми кверху прикладами ружьями. Так маршал Даву хотел наказать полк, почти совершенно разбежавшийся за две с небольшим недели похода. Наказание вряд ли вразумило сам полк и уж точно не добавило оптимизма тем, кто за этим наказанием наблюдал. Барон Юзеф Хлузович, полковой командир Брандта, сказал тогда ему: «Вот увидите, что император впадёт в ошибку Карла XII: он оставляет в тылу своём неустроенную Польшу, разорённую Литву, и с нами будет то же, что было со шведами»…
Призрак шведского короля являлся в те месяцы обеим сторонам (генерал Балашов, выехав к Наполеону для прояснения его намерений ещё в самом начале войны, на вопрос императора о лучшей дороге на Москву будто бы дерзко ответил: «Карл XII шёл через Полтаву»). В Висленском же легионе служили многие из тех, чьи предки сто лет назад шли в Россию со шведским королём.
Впрочем, чем ближе к Москве, тем чаще неприятные для поляков воспоминания сменялись славными историями из их прошлого. Сначала это был Смоленск, который поляки уже брали за двести лет до этого, в Смутное время. Товарищи Брандта считали, что если Великая Армия возьмёт Смоленск, то не устоит и Москва. А подходя 31 августа к Царёво-Займищу, поляки вспоминали, как 4 июля 1610 года на этом месте гетманом Жолковским были разбиты русско-шведские войска, после чего поляки осадили и взяли Москву, где провозгласили королевича Владислава царём московским.
Однако надежды на то, что русские под Царёво-Займищем дадут неприятелю бой, не сбылись – русские отступили вновь. Но потом в Великой Армии стало известно, что у русских сменился главнокомандующий. Французы хоть и прозвали Кутузова тут же «беглец Аустерлица», но по всему чувствовали, что этот беглец покажет себя. О близости битвы говорило многое: Наполеон собрал армию, подтянув отсталые полки. Войска пополнились патронами, запаслись продовольствием, генералы посчитали живых. Всё шло к тому, что быть битве, большой битве – иной не может быть, если каждая из сторон имеет армию числом по сто с лишним тысяч человек.
5 сентября (24 августа по русскому счёту) поляки вышли в поход от деревни Гриднево вместе с корпусами Даву и Нея. Едва начался марш, как впереди послышался гул.
Вот тут-то поручик Гордон и сказал:
– Канонада, вы слышите, Брандт?
– Конечно. Как же её не слышать… – отвечал Генрих Брандт. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем…
– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.
– У русских теперь новый командир – Кутузов, – сказал Брандт. – Может, это нас и спасёт: он даст нам сражение, мы его разобьём, и Наполеон с Александром наконец помирятся снова…
(О том, что у русской армии новый предводитель, стало известно совсем недавно, 20 августа, когда французам в Гжатске попались в плен два платовских казака, один из которых был атаманским поваром, а кроме того – негром!).
– Может, он захочет отомстить нам за 1805 год? А может и нет… – сказал Гордон. – Он ведь может сдать нам Москву, как австрийцы сдавали императору Вену, и как вы, пруссаки, уж извините, Брандт, сдавали Берлин – ни тем, ни другим это не мешало после сражаться…
Их лошади шли шагом. Вокруг двумя громадными колоннами двигалась Великая Армия: бесчисленное количество людей, лошадей, повозок, пушек. Корпуса Даву и Нея упирались друг в друга. Временами с высот были видны громадные массы войск впереди. Кроме пушечного грома, уже слышалась иногда и ружейная стрельба. Солдаты приободрились, оживились, их переполняла та нервная энергия, которая вызывается близостью опасности и смерти.
Поляки миновали лес. Они приближались к Колоцкому монастырю, где шёл бой, однако когда поляки пришли туда, бой уже кончился и русский арьергард отступил к деревне Валуево. Брандт видел, что вправо идет корпус Понятовского. Съехав с холма в долину, Брандт и Гордон вдруг увидели Наполеона. До этого Брандт уже видел в походе императора: первый раз под Вильной, под дождём, который стекал у Наполеона со шляпы и с его знаменитого серого сюртука, потом под Смоленском, где при Наполеоне, подъехавшем к Мстиславльскому форштадту, было лишь двое адъютантов (правда, позади ехали конные егеря гвардии]. Наполеон поговорил с генералами, посмотрел на Смоленск в подзорную трубу и уехал. Нынче же при каждой остановке польские уланы и гвардейские егеря окружали Наполеона, словно прикрывая собой.
Брандт и Гордон въехали на пригорок и увидели вдалеке то, что рассматривал в трубу Наполеон: вправо от дороги, не так уж и далеко от Валуева, была укреплённая русскими высота, позади которой виднелись линии войск. Войска, проходившие пригорок, на котором остановились Гордон и Брандт, тоже увидели русские линии. Раздались крики: «Да здравствует император!».
– Это русские! Они ждут нас! Наконец-то будет битва! – кричал какой-то офицер, ехавший сбоку от колонны пехоты. Пехотинцы в ответ радостно взревели снова: «Да здравствует император!».
Глава вторая
Первыми, ещё 22 августа (3 сентября по европейскому исчислению дат), на поле, которое с тех пор вот уже 200 лет называют Бородинским, приехали квартирмейстеры. Потом, ранним утром 22-го, сюда, опередив армию, прибыли Главный штаб и Кутузов.
Это была уже четвёртая позиция, которую он осматривал за пять дней, прошедшие со дня прибытия его к армии.
Кутузов понимал, что пора на что-то решаться. Его ведь и назначили главнокомандующим всеми российскими войсками только потому, что отступление как стратегический приём уже не понимали и не принимали ни штатские, ни военные.
Кутузову было далеко за шестьдесят (историки не сходятся в определении года его рождения – по одним бумагам 1745-й, по другим – 1747-й). В первый раз на войну он попал ещё в 1764 году – целая жизнь отделяла его от тех первых стычек с поляками. Голову его дважды простреливала турецкая пуля, проходя почти в одном и том же месте – от виска до виска за лобной костью. Удивительным образом он остался жив и даже правым глазом, который многие и современники, а тем более потомки полагали незрячим, видел. Но никому про это не говорил.
Привычка многое, если не всё, держать в себе, осталась в Кутузове после того, как ещё в армии Румянцева, молодым, ещё до своего тяжкого ранения, он имел неосторожность передразнить главнокомандующего, показав его походку и некоторые ухватки. Хоть шутка это была показана в тесном приятельском кругу штабных офицеров, но Румянцев как-то узнал о ней и осерчал – да может ещё и рассказали так, что не осерчать было невозможно. Шутка едва не стоила Кутузову жизни: из румянцевской армии его перевели в армию князя Долгорукого, где и подкараулила его турецкая пуля в правый висок.
Через десять с небольшим лет, под Очаковым, пуля ударила снова в то же место и прошла почти тем же путём. Сослуживцы решили, что второй раз чуда не будет, но сам Кутузов помнил, что когда временами голова прояснялась, он отчётливо знал, что чудо произойдёт и сейчас – выживет он. Когда Кутузов пошёл на поправку, один из врачей, рассказывали ему, сказал, что, видать, судьба бережёт его для великих дел. И нередко потом Кутузов примеривал свои походы к этим словам – это что ли великое дело, ради которого дважды Господь отвёл от него смерть? Но даже при взятии Измаила, когда Кутузов едва ли не единственный из всех начальников колонн уцелел, были у него сомнения в том, что именно для этого оставлена ему жизнь. С турками Россия воевала едва ли не каждые два-три года и била их всегда. Кутузов понимал, что взяли бы Измаил и без него.
В 1805 году казалось – вот оно. Когда Наполеон заманил Макка в ловушку, взял его армию в плен и армия Кутузова осталась одна против французов, Кутузов решил, что как раз для спасения русской армии и русской чести оставлен он на земле. Чудом выскользнув из многочисленных французских капканов, задерживая французов обречёнными на погибель арьергардами, Кутузов прошёл с армией больше 400 вёрст, и ушёл-таки, спасся. Он и вовсе предлагал отойти к границам России, подкрепиться войсками, и начать всё заново, но приехавшие к войскам императоры Александр и Франц решили, что удача на их стороне. Они оба были ослеплены: Франц – жаждой мести, желанием вернуться в свою столицу, занятую французами, на белом коне, Александр, которому тогда не было и тридцати, молодостью и той великой ролью, которая, как он думал, ему выпадает.
Царь с детства любил войну. Когда-то императрица Екатерина написала об Александре в письме: «На днях он узнал об Александре Великом. Он попросил лично с ним познакомиться и совсем огорчился, узнав, что его уже нет в живых. Он очень о нём сожалеет». Царь и глуховат был потому, что в юности на маневрах в Гатчине всегда становился поближе к пушкам. Но если Константин Павлович был с Суворовым в Швейцарском походе, то для Александра кампания 1805 года была первой. Он упивался ею. Составлявшие близкий круг молодые советники царя также были в восторге от войны.
К тому же, по извечной русской (да и не только русской) привычке, отчёты об арьергардных боях были один другого лучше. В результате царь и его окружение полагали, что дела идут превосходно. Все они уже видели себя низвергателями титана. Наполеон откуда-то прознал об этих настроениях в русской Главной квартире, и для пущего их поддержания отослал к царю своего адъютанта Савари с письмом: «Я поручаю моему адъютанту выразить Вам всё моё уважение и сообщить Вам, насколько я хотел бы снискать Вашу дружбу. Примите же это послание с добротой, которая Вас отличает, и помните, что я всегда являюсь тем, кто несказанно желает быть приятным Вам».
В своём ответе Александр решил поставить «выскочку» на место, и ответное письмо адресовал «главе французского правительства», а не императору Наполеону, а князь Долгорукий, один из молодых друзей царя, приехав затем к Наполеону, полагал, что должен продиктовать ему условия капитуляции. И продиктовал. Да такие, что Наполеон потом сказал своим генералам: «Эти люди считают, что нас осталось только слопать». Однако ему надо было выиграть время, чтобы подтянуть войска, и он продолжил ломать комедию.
Заикнись Кутузов царю перед Аустерлицем о необходимости отказаться от битвы – поверил бы Александр Кутузову? К тому же, Кутузов был слишком царедворец: ещё в екатерининские времена он вставал чуть свет и спешил в дом к Платону Зубову, фавориту императрицы, где готовил кофе и лично подавал его в кофейнике Платону в постель. Кадеты корпуса, где Кутузов был директором, кричали вслед его коляске: «Хвост Зубова! Подлец!». Кутузов делал вид, что не слышит: молодые ещё, подрастут – поймут, будут и у них свои кофейники…
Сергей Александрович Тепляков
Роман «Бородино» рассказывает о пяти днях (с 22-го по 27-е) августа 1812 года. В числе главных действующих лиц не только предводители войск – Наполеон, Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли – но и люди в малых чинах: Генрих Брандт из Висленского легиона Великой Армии, лейтенант Гарден из французского 57-го линейного полка, русские офицеры братья Муравьевы и еще немалое число других больших и малых персонажей. Некоторые из них появляются перед взглядом читателя однажды и пропадают навсегда, как это нередко бывает в жизни, и особенно часто – на войне…
Сергей Тепляков
Бородино
Часть первая
Глава первая
– Канонада, вы слышите, Брандт? – сказал поручик Висленского легиона Гордон своему товарищу.
– Конечно. Как же её не слышать… – отвечал Генрих Брандт, 23-летний молодой человек. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем…
– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.
Гордон и Брандт были товарищами в этом походе, и положение дел в Великой Армии было едва не главной темой их разговоров в течение этого путешествия, начавшегося для Висленского легиона ещё в марте, 22-го числа, когда легион вышел в Париже на императорский смотр. Всю весну Великая армия двигалась к русским границам, проедая в Европе коридор, как прожорливая гусеница проедает свой путь в листе дерева.
В мае легион пришел в Познань, поблизости от которой было имение родителей Брандта Стржельново. Чтобы повидаться, у Брандта был всего день, да он больше и не выдержал бы: имение от провозглашённой Наполеоном континентальной системы пришло в упадок, а продвигавшаяся через него Великая Армия разорила несчастных родителей Брандта совершенно. Сначала у них стоял маршал Ней со своим штабом, потом – кронпринц Вюртембергский Вильгельм. Целый батальон устроил бивак прямо во дворе господского дома – солдаты жили, не стесняясь. Когда Брандт приехал, крепкие запахи этого бивака чувствовались по всему саду, по всему дому. Отец Брандта сказал: «Ты, сын мой, знал лучшие дни, а теперь пришёл в дом нищего» – и заплакал. Этого юноша перенести не мог. Тут как раз прибежал кто-то из слуг со словами, что проходящие мимо французские солдаты выгребают с сеновалов последнее сено. Брандт вскочил в седло и понёсся к сеновалам в таком же ослеплении, в каком ещё недавно бросался в атаку на испанских гверильясов. Однако тут была не Испания: командовавший французами офицер извинялся, твердил, что за всё выдаёт квитанции и особенно часто повторял, что от него самого, собственно, немного что зависит. «Поймите, я отвечаю перед императором за сохранение материала»… – сказал офицер Брандту, под «материалом» имея в виду солдат, офицеров и лошадей. Брандт понимал, что и он сам – «материал», и что кто-то ради сохранения в строю его, Брандта, и его солдат, сейчас так же вычищает чьи-то сеновалы, подвалы и погреба. Всё это не вмещалось в голове. Чтобы жить, надо было забывать.
Забывать – Брандту это было не впервой. Он был пруссак по рождению, и в 1806 году, 17-ти лет от роду, записался в прусскую армию, чтобы сражаться с Наполеоном. После Йены и Ауэрштедта, после Прейсиш-Эйлау и Фридланда, армия разгромленной Пруссии была разогнана, а половина Пруссии роздана Наполеоном русским и полякам. Пруссакам в этом мире некого было любить, а ненавидеть надо было бы столь многих, что и от ненависти приходилось отказаться. Брандт запутался, и только это-то – что запутался – и понимал ясно. (Впрочем, запутался не он один: Гегель, такой же как и Брандт, пруссак, в день вступления Наполеона в Йену написал о нём «мировая душа». У Гегеля, впрочем, имелась подходящая теория, согласно которой всемирно-исторические личности, каковой Наполеон очевидно был, являются доверенными лицами всемирного духа – а где уж нам, смертным, против всемирного духа? «Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним», – писал Гегель накануне того дня, когда его родина получила от «мировой души» едва ли не смертельный удар).
Брандт пытался через знавших его генерала Блюхера и майора Шилля, прославившегося своей партизанской войной против французов в окрестностях крепости Кольберг, записаться в новую прусскую армию, но те ничем не смогли ему помочь. Из той части Пруссии, где Брандт жил, по Тильзитскому миру 1807 года было создано Великое герцогство Варшавское. Так Брандт совершенно неожиданно для себя оказался польским подданным, а распоряжавшееся его прусско-польской судьбой французское правительство призвало его на военную службу, определив в Висленский легион и на три года отправив на войну в Испанию.
Поляки, которыми командовал Брандт, надеялись, что за службу Наполеону наградой им будет восстановление Польши. Ради этого 30 ноября 1808 года Козетульский летел со своим эскадроном по горной дороге на перевале Сомосьерра – на каждом повороте этой дороги испанцы поливали атакующих картечью. Поворотов было четыре: на трёх стояло по две пушки, на последнем, четвёртом – десять. Из двухсот человек, закричавших «Нех жие цезар!» и бросившихся вслед за Козетульским, через десять минут уцелели только сорок – по одному из пяти. Брандт не был в этой атаке – ему рассказывали о ней, как и о других случаях чудесной храбрости и невероятного мужества. (Брандту странно было, что герой этой истории жив – вон он, Козетульский, шеф эскадрона в 1-м полку шевольжёров-пикинёров Императорской гвардии). Брандт, участвовавший в сотне больших и малых схваток, стычек и боёв, имевший к концу службы в Испании два ордена, две раны и контузию, и сам много чего мог рассказать и рассказывал. (Так мальчишки, набрав в реке красивых камней, хвастаются ими друг перед другом, пока камни, обсохнув, не потеряют свой блеск и вместе с ним – почти всю красоту).
Однако награды всё не было – Польшу Наполеон не восстанавливал. Вместо этого он отделывался от поляков разными побрякушками – вот, например, Висленский легион был причислен к его гвардии. Это было, конечно, лестно, но это была не Польша.
Поначалу Брандт старался не думать, почему он служит тому, с кем должен бороться. А потом стало и вовсе не до этих мыслей. Лишь иногда доходившие из Европы в Испанию глухие слухи кололи его совесть раскалённой иглой.
Как-то раз Брандт узнал, что майор Шилль весной 1809 года поднял свой гусарский полк на восстание против французов. Брандт узнал об этом много позже – в Испанию такие вести доходили медленно. Он временами спрашивал себя – на что рассчитывал Шилль, отправляясь в свой последний поход? Наверняка надеялся, что и пруссаки поднимутся, как испанцы. Но пруссаки не поднялись, против Шилля выслали войска, он заперся со своими солдатами в Штральзунде и там 31 мая 1809 года погиб в отчаянном бою. Из его солдат и офицеров некоторые спаслись, пробравшись в Пруссию, но 12 офицеров были взяты французами и расстреляны. Брандт иногда думал, что и он ведь, помоги ему тогда Блюхер и Шилль, мог быть среди этих двенадцати, или среди тех, кто погиб на окровавленных мостовых Штральзунда.
Шилль не был похож на героя – пухлощёкий, коротконогий, вспыльчивый. Но он погиб за свободу Пруссии – о такой смерти мечтал и сам Брандт, бросая в 1806 году университет и поступая в армию. Вместо этого он состоит во французской армии, им командует французский генерал, на нём синий французский мундир, и он идет воевать с Россией. Всё запуталось. И только это – что всё запуталось – было ясно.
Поход в Россию отнимал много сил – и в этом было для Брандта благо: некогда было думать над теми вопросами, которые разъедали его душу.
Висленский легион форсировал Неман 26 июня по французскому счёту дат (14-го – по русскому). Рубикон этот не произвел на поляков особого впечатления. Первую неделю похода проливные дожди шли днём и ночью. Земля размокала так, что даже самые закалённые не могли спать на этом ложе из скользкой глины. (По обычаю тех лет, Великая Армия, кроме гвардии, не имела палаток и на ночлег все устраивались вокруг костров – ногами к огню).
Потом наступила тропическая жара. Колонны шли целыми днями без воды. Любая лужа процеживалась, выпивалась, вымакивалась тряпицами. Тысячи ног поднимали такую пыль, что казалось, будто её можно резать ножом. Люди набивали себе рот листьями деревьев, чтобы сохранить хоть немного слюны. Обозные лошадёнки, набранные в Польше и Пруссии, начали дохнуть. Объявилось огромное число мародёров, совершенно не стеснявшихся своего занятия – из награбленного добра они устраивали свои обозы, шедшие параллельно с Великой Армией, и по ночам располагались в своих лагерях – чтобы не делиться провиантом с теми, кто ещё оставался в рядах.
Молодые солдаты отставали от своих частей и умирали вдоль дорог. Не прошло и двух недель после начала похода, а в Висленском легионе убыль людей была такова, что командовавший им генерал Клапаред пришел в ярость. Только в Минске поляки подкормились и пришли в себя.
В Минске поляки увидели необычный «парад»: один из полков дивизии Компана, набранный в северо-германских землях, на виду у всей армии «парадировал» с поднятыми кверху прикладами ружьями. Так маршал Даву хотел наказать полк, почти совершенно разбежавшийся за две с небольшим недели похода. Наказание вряд ли вразумило сам полк и уж точно не добавило оптимизма тем, кто за этим наказанием наблюдал. Барон Юзеф Хлузович, полковой командир Брандта, сказал тогда ему: «Вот увидите, что император впадёт в ошибку Карла XII: он оставляет в тылу своём неустроенную Польшу, разорённую Литву, и с нами будет то же, что было со шведами»…
Призрак шведского короля являлся в те месяцы обеим сторонам (генерал Балашов, выехав к Наполеону для прояснения его намерений ещё в самом начале войны, на вопрос императора о лучшей дороге на Москву будто бы дерзко ответил: «Карл XII шёл через Полтаву»). В Висленском же легионе служили многие из тех, чьи предки сто лет назад шли в Россию со шведским королём.
Впрочем, чем ближе к Москве, тем чаще неприятные для поляков воспоминания сменялись славными историями из их прошлого. Сначала это был Смоленск, который поляки уже брали за двести лет до этого, в Смутное время. Товарищи Брандта считали, что если Великая Армия возьмёт Смоленск, то не устоит и Москва. А подходя 31 августа к Царёво-Займищу, поляки вспоминали, как 4 июля 1610 года на этом месте гетманом Жолковским были разбиты русско-шведские войска, после чего поляки осадили и взяли Москву, где провозгласили королевича Владислава царём московским.
Однако надежды на то, что русские под Царёво-Займищем дадут неприятелю бой, не сбылись – русские отступили вновь. Но потом в Великой Армии стало известно, что у русских сменился главнокомандующий. Французы хоть и прозвали Кутузова тут же «беглец Аустерлица», но по всему чувствовали, что этот беглец покажет себя. О близости битвы говорило многое: Наполеон собрал армию, подтянув отсталые полки. Войска пополнились патронами, запаслись продовольствием, генералы посчитали живых. Всё шло к тому, что быть битве, большой битве – иной не может быть, если каждая из сторон имеет армию числом по сто с лишним тысяч человек.
5 сентября (24 августа по русскому счёту) поляки вышли в поход от деревни Гриднево вместе с корпусами Даву и Нея. Едва начался марш, как впереди послышался гул.
Вот тут-то поручик Гордон и сказал:
– Канонада, вы слышите, Брандт?
– Конечно. Как же её не слышать… – отвечал Генрих Брандт. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем…
– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.
– У русских теперь новый командир – Кутузов, – сказал Брандт. – Может, это нас и спасёт: он даст нам сражение, мы его разобьём, и Наполеон с Александром наконец помирятся снова…
(О том, что у русской армии новый предводитель, стало известно совсем недавно, 20 августа, когда французам в Гжатске попались в плен два платовских казака, один из которых был атаманским поваром, а кроме того – негром!).
– Может, он захочет отомстить нам за 1805 год? А может и нет… – сказал Гордон. – Он ведь может сдать нам Москву, как австрийцы сдавали императору Вену, и как вы, пруссаки, уж извините, Брандт, сдавали Берлин – ни тем, ни другим это не мешало после сражаться…
Их лошади шли шагом. Вокруг двумя громадными колоннами двигалась Великая Армия: бесчисленное количество людей, лошадей, повозок, пушек. Корпуса Даву и Нея упирались друг в друга. Временами с высот были видны громадные массы войск впереди. Кроме пушечного грома, уже слышалась иногда и ружейная стрельба. Солдаты приободрились, оживились, их переполняла та нервная энергия, которая вызывается близостью опасности и смерти.
Поляки миновали лес. Они приближались к Колоцкому монастырю, где шёл бой, однако когда поляки пришли туда, бой уже кончился и русский арьергард отступил к деревне Валуево. Брандт видел, что вправо идет корпус Понятовского. Съехав с холма в долину, Брандт и Гордон вдруг увидели Наполеона. До этого Брандт уже видел в походе императора: первый раз под Вильной, под дождём, который стекал у Наполеона со шляпы и с его знаменитого серого сюртука, потом под Смоленском, где при Наполеоне, подъехавшем к Мстиславльскому форштадту, было лишь двое адъютантов (правда, позади ехали конные егеря гвардии]. Наполеон поговорил с генералами, посмотрел на Смоленск в подзорную трубу и уехал. Нынче же при каждой остановке польские уланы и гвардейские егеря окружали Наполеона, словно прикрывая собой.
Брандт и Гордон въехали на пригорок и увидели вдалеке то, что рассматривал в трубу Наполеон: вправо от дороги, не так уж и далеко от Валуева, была укреплённая русскими высота, позади которой виднелись линии войск. Войска, проходившие пригорок, на котором остановились Гордон и Брандт, тоже увидели русские линии. Раздались крики: «Да здравствует император!».
– Это русские! Они ждут нас! Наконец-то будет битва! – кричал какой-то офицер, ехавший сбоку от колонны пехоты. Пехотинцы в ответ радостно взревели снова: «Да здравствует император!».
Глава вторая
Первыми, ещё 22 августа (3 сентября по европейскому исчислению дат), на поле, которое с тех пор вот уже 200 лет называют Бородинским, приехали квартирмейстеры. Потом, ранним утром 22-го, сюда, опередив армию, прибыли Главный штаб и Кутузов.
Это была уже четвёртая позиция, которую он осматривал за пять дней, прошедшие со дня прибытия его к армии.
Кутузов понимал, что пора на что-то решаться. Его ведь и назначили главнокомандующим всеми российскими войсками только потому, что отступление как стратегический приём уже не понимали и не принимали ни штатские, ни военные.
Кутузову было далеко за шестьдесят (историки не сходятся в определении года его рождения – по одним бумагам 1745-й, по другим – 1747-й). В первый раз на войну он попал ещё в 1764 году – целая жизнь отделяла его от тех первых стычек с поляками. Голову его дважды простреливала турецкая пуля, проходя почти в одном и том же месте – от виска до виска за лобной костью. Удивительным образом он остался жив и даже правым глазом, который многие и современники, а тем более потомки полагали незрячим, видел. Но никому про это не говорил.
Привычка многое, если не всё, держать в себе, осталась в Кутузове после того, как ещё в армии Румянцева, молодым, ещё до своего тяжкого ранения, он имел неосторожность передразнить главнокомандующего, показав его походку и некоторые ухватки. Хоть шутка это была показана в тесном приятельском кругу штабных офицеров, но Румянцев как-то узнал о ней и осерчал – да может ещё и рассказали так, что не осерчать было невозможно. Шутка едва не стоила Кутузову жизни: из румянцевской армии его перевели в армию князя Долгорукого, где и подкараулила его турецкая пуля в правый висок.
Через десять с небольшим лет, под Очаковым, пуля ударила снова в то же место и прошла почти тем же путём. Сослуживцы решили, что второй раз чуда не будет, но сам Кутузов помнил, что когда временами голова прояснялась, он отчётливо знал, что чудо произойдёт и сейчас – выживет он. Когда Кутузов пошёл на поправку, один из врачей, рассказывали ему, сказал, что, видать, судьба бережёт его для великих дел. И нередко потом Кутузов примеривал свои походы к этим словам – это что ли великое дело, ради которого дважды Господь отвёл от него смерть? Но даже при взятии Измаила, когда Кутузов едва ли не единственный из всех начальников колонн уцелел, были у него сомнения в том, что именно для этого оставлена ему жизнь. С турками Россия воевала едва ли не каждые два-три года и била их всегда. Кутузов понимал, что взяли бы Измаил и без него.
В 1805 году казалось – вот оно. Когда Наполеон заманил Макка в ловушку, взял его армию в плен и армия Кутузова осталась одна против французов, Кутузов решил, что как раз для спасения русской армии и русской чести оставлен он на земле. Чудом выскользнув из многочисленных французских капканов, задерживая французов обречёнными на погибель арьергардами, Кутузов прошёл с армией больше 400 вёрст, и ушёл-таки, спасся. Он и вовсе предлагал отойти к границам России, подкрепиться войсками, и начать всё заново, но приехавшие к войскам императоры Александр и Франц решили, что удача на их стороне. Они оба были ослеплены: Франц – жаждой мести, желанием вернуться в свою столицу, занятую французами, на белом коне, Александр, которому тогда не было и тридцати, молодостью и той великой ролью, которая, как он думал, ему выпадает.
Царь с детства любил войну. Когда-то императрица Екатерина написала об Александре в письме: «На днях он узнал об Александре Великом. Он попросил лично с ним познакомиться и совсем огорчился, узнав, что его уже нет в живых. Он очень о нём сожалеет». Царь и глуховат был потому, что в юности на маневрах в Гатчине всегда становился поближе к пушкам. Но если Константин Павлович был с Суворовым в Швейцарском походе, то для Александра кампания 1805 года была первой. Он упивался ею. Составлявшие близкий круг молодые советники царя также были в восторге от войны.
К тому же, по извечной русской (да и не только русской) привычке, отчёты об арьергардных боях были один другого лучше. В результате царь и его окружение полагали, что дела идут превосходно. Все они уже видели себя низвергателями титана. Наполеон откуда-то прознал об этих настроениях в русской Главной квартире, и для пущего их поддержания отослал к царю своего адъютанта Савари с письмом: «Я поручаю моему адъютанту выразить Вам всё моё уважение и сообщить Вам, насколько я хотел бы снискать Вашу дружбу. Примите же это послание с добротой, которая Вас отличает, и помните, что я всегда являюсь тем, кто несказанно желает быть приятным Вам».
В своём ответе Александр решил поставить «выскочку» на место, и ответное письмо адресовал «главе французского правительства», а не императору Наполеону, а князь Долгорукий, один из молодых друзей царя, приехав затем к Наполеону, полагал, что должен продиктовать ему условия капитуляции. И продиктовал. Да такие, что Наполеон потом сказал своим генералам: «Эти люди считают, что нас осталось только слопать». Однако ему надо было выиграть время, чтобы подтянуть войска, и он продолжил ломать комедию.
Заикнись Кутузов царю перед Аустерлицем о необходимости отказаться от битвы – поверил бы Александр Кутузову? К тому же, Кутузов был слишком царедворец: ещё в екатерининские времена он вставал чуть свет и спешил в дом к Платону Зубову, фавориту императрицы, где готовил кофе и лично подавал его в кофейнике Платону в постель. Кадеты корпуса, где Кутузов был директором, кричали вслед его коляске: «Хвост Зубова! Подлец!». Кутузов делал вид, что не слышит: молодые ещё, подрастут – поймут, будут и у них свои кофейники…