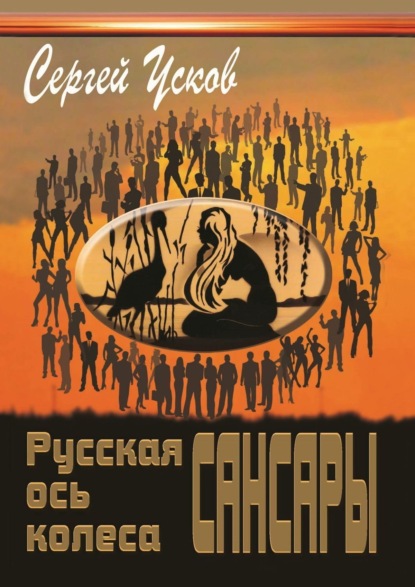По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская ось колеса Сансары
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Значит, так. Родился Сен-Санс в Париже в начале октября 1835 года, а в конце декабря этого же года умер отец. Малютка, значит, остаётся на руках двадцатишестилетней матери и двоюродной бабушки. Эти две женщины, взявшись за его воспитание, вложили в него, пожалуй, всю свою нежность, нерастраченную и неутолённую жажду любви – это трансформировалось в гармоничный и стойкий характер будущего неординарного человека. Причём, обе женщины были связаны с искусством: мать – художница, бабушка – пианистка. Мальчик рос хрупким и болезненным, и был «чудо-ребёнком». Вундеркиндом по-нынешнему. На третьем году жизни бабушка научила его играть на фортепиано, а в три с половиной года малютка стал сочинять собственную музыку. Сочинять – потому что был наделён абсолютным музыкальным слухом. И многое, как оно звучит ему, видимо, не нравилось или озадачивало. Например он, малыш, мог усесться у чайника и услышать во вскипании воды бездну новых звуков, полифонию музыкальных инструментов, а в симфоническом оркестре услышать фальшь – и так во всём. Самые разнообразные интонации жизни становились интонациями музыки. В возрасте пяти лет был представлен знаменитому художнику Энгру, который оказал на него, как утверждают биографы, фундаментальное эстетическое влияние (это штрих к тому, как красота может управлять миром). По мере развития дружбы стареющего художника и юного композитора, художественное кредо Энгра легло в основу музыкального кредо: в двух словах, это основополагающий стержень линии и рисунка уже в музыке в многозвучном колорите окружающего, находящегося в подчинительном отношении. В отличие от импрессиониста Делакруа. Помимо музыки, у мальчика был живой интерес к естествознанию. Он собирал насекомых, растения, сопровождая коллекцию собственными рисунками, выращивал цветы, гусениц, наблюдал в бинокль фазы луны. В возрасте восьми лет отдали в обучение фортепианной игре известному пианисту и композитору. Итогом трехгодичного обучения стал большой концерт в знаменитом парижском зале – успех был колоссальный, подхваченный и развитый прессой, и стал началом концертной карьеры, дошёл до королевского двора и состоялся концерт «ребёнка-виртуоза» в Тюильри, где заслужил хвалу от высшей аристократии. Кстати, предки Сен-Санса – крестьяне. Его дед был мэром, смешно сказать, деревни… Вопрос, до сих пор нерешенный: «Где корни аристократов духа?»… В возрасте тринадцати лет Сен-Санс поступил в Парижскую консерваторию в класс органа Бенуа. После пяти лет успешной учёбы получает место органиста в небольшом храме на берегу Сены. В этой должности пробыл снова пять лет, отдавая всё это время самообразованию и профессиональному совершенствованию… Все биографы Сен-Санса отмечают, наряду с громадным дарованием, и феноменальное трудолюбие. Его дарование признают и напутствуют на большее Лист, Берлиоз, Гуно. Затем, в связи с отставкой органиста храма св. Магдалины, Сен-Санс был приглашен на эту должность и занимал её двадцать лет. Этот храм расположен в центре Парижа, недалеко от площади Согласия, и в то время был самым светским, роскошным и посещаемым. Соответственно, материальное положение композитора качественно улучшилось. Он купил отличную подзорную трубу и стал наблюдать за небесными телами из окна новой просторной квартиры, и это вызвало много кривотолков о «странном» увлечении композитора и органиста. Игра на органе приносила много радости. Он не вкладывал в строгие импровизации религиозной экзальтации, но увлекался и увлекал стилистическими возможностями органной музыки, делал «невозможное возможным» – это слова Листа, который также назвал его «первым органистом мира». Но, тем не менее, сочинял Сен-Санс светскую музыку. Вот тут и следует остановиться на Втором фортепианном концерте, как на одном из самых популярных сочинений. Эту музыку можно переводить на наш естественный язык так же, как переводят книги с одного языка на другой. И, если это сделать, то получится примерно так. – Вася глянул на сосредоточенную Леру, убавившую скорость автомобиля.
– Продолжай, мне интересно.
– Начало концерта вводит в скорбные и суровые размышления о некоем довлеющем роке, о жажде отринуть его и вырваться, перебороть. Но что-то не получается, всё больше скорби слышится как в величавых органных фугах, так и в робких наигрышах точно закомплексованного соло. Но потом, словно проблеск фантазии, идут один за другим виртуозные пассажи фортепиано, меняя тональность и выбивая нас из прежнего настроя. В противовес идут с разгоном тяжеловесные басы и аккорды первой темы. Начинается перекличка фортепиано и оркестра, как точно – борьба светлых и темных сил. Здесь потрясает грациозность отдельных фрагментов и мощь органной темы в полифонии оркестра… И совершенно неожиданно начинается стремительный и легкий взлёт, идут друг за другом яркие пассажи совершеннейшей техники пианизма. Это захватывает и уносит от так же притихшего, словно изумленного оркестра, от смелого соло, потрясающего и техникой исполнения, и музыкальной эрудицией, и эдаким звоном и жужжанием серебряных звуков, складывающихся в победоносную гармонию. Однако оркестровые гаммы перебивают изящное соло. Идут тембровые переклички, перебивка литавр, смена ритмов, фактуры, выказываются оркестровые оттенки, словно перекликаются и набирают силу те самые темные силы. И соло как будто тушуется. Та роль, что отведена как драматическому персонажу, снова возвращает к трагическим нотам и стихает, – слышим одну могучую полифонию оркестра. Казалось бы соло навеки задавлено, захвачено и подчинено с отведением четкой роли в оркестровом звучании. Яркой индивидуальности больше нет, она раздавлена – вопреки всему стремительная тарантелла вырывается из сухого блеска оркестра. Ещё быстрее упругое соло уносится к обрисованной фантазии, которая обретает всё более ощутимые черты. К солирующему фортепиано благолепно наслаиваются звуки деревянных, валторн, присоединяются струнные – теперь фортепианное соло дирижирует: все инструменты подстраиваются под него. Само фортепиано мощными ударами аккордов, подхватываемыми духовыми инструментами, воспринимается как колокольный благовест, и начинается весёлый праздник, в котором нет и следа первой скорбной темы… Ну, вот, это если вкратце о Сен-Сансе и о Втором фортепианном концерте, – Вася повернулся и внимательно посмотрел на Леру.
– Ты увлек незнакомой темой, дружок! Ты говоришь интересно – проверим: так ли на самом деле… Знаешь, у тебя приятный голос: тембр, интонация, спокойствие и мягкость, но я чувствую, что у тебя есть сильная воля… хотя она чем-то скована, ты не проявляешь себя до конца. Мне это становится даже очень интересным. Скажи, откуда у тебя такие познания в музыке? Ты, случаем, сам не музыкант?
– Немного играю на гитаре. Знаю нотную грамоту. Музыку люблю, ну и, соответственно, интересуюсь творчеством тех, кто в этом гениально преуспел. Как говорится, уж если за что-то браться, так за лучшее.
– В том числе и за девушек, не так ли? – Нежные губы тронула лукавая улыбка. – Есть у тебя девушка?
– Была…
– Что значит – была? Умерла, убили?
– Нет. Просто пропала. Разошлись дороги. Даже не знаю, где она сейчас.
– Не беда: дороги сходятся и расходятся, и даже параллельные линии пересекаются… Забыть никак не можешь?
– Не могу.
– И правильно. Ничего нельзя забывать. Но и путать прошлое с настоящим тоже нельзя.
– Это в каком смысле?
– В смысле: очнись на мгновение, ведь оно прекрасно и больше не повторится! – Лера тряхнула волосами, и её аромат окружил Васю, проникая во все его щелочки.
В фойе Филармонии было многолюдно. Лера взяла Василия под руку, и они стали прохаживаться в сверкающем свете хрустальных люстр по широким вестибюлям, устланными немыслимо антикварными на вид ковровыми дорожками. Стены в резных канделябрах; подобие колонн вносило оттенок помпезности и значимости творимого здесь действия. Художественно исполненные стенды, повествующие о музыкальной жизни с царских времён и поныне, рождали странно волнующее ощущение причастности к этой высшей духовной ипостаси – музыке, пронизывающей все времена.
– Слушай, здесь интересно! – воскликнула Лера. – На мой взгляд, это клубное сообщество. Очень много сар и абрамов. Смотри, многие здороваются вежливым поклоном. Какие-то короткие разговоры, улыбки. Смотри, у большинства дам настоящие драгоценности! Вон та ходит с бриллиантовым колье… А какие шикарные платья! Это что, парад мод? Приехали себя показать, проветрить дорогие наряды. Что же ты раньше не сказал, я бы оделась в вечернее платье получше.
– Разве может быть ещё лучше? – От удивления Вася приостановился. Вгляд как дождь прошелся по фигуре, смывая сомнения.
В легком, как туника, голубом одеянии она, казалось, вышла из гримёрной волшебницей-феей. Вышла поискать, на кого бы обрушить свои чары. Волнистые волосы пепельного цвета стекали далеко по спине, подчеркивая наготу хрупких плеч и тонкой изящной спины. Вспыхивающий огонь в её магических глазах сопровождался трепетом наполовину обнаженной, напрягшейся в сладостном предвкушении, высокой девичьей груди. Плавная поступь стройных ног столь полувоздушна, словно шла она по раскалённым углям мужских взглядов.
– Ты – красивая… бесподобно!
– Я могу быть ещё красивее! Положи руку мне на талию. Мне так приятнее, да и глазеть на нас будут поменьше. Мы будем как влюблённые… хотя я в любовь не верю!
– Почему? Я напротив – верю.
– Я допускаю любовь с первого взгляда, как исключение. Потому что в этом случае любовь приходит неожиданно, как дар свыше, и раздумывать некогда и нельзя. Разные там ухаживания, цветы, встречи-провожания говорят лишь о том, что время упущено, что идут поминки по любви, но никак не её развитие. Или говорят о том, что люди привычкой приучают себя друг к другу. Это скучно, это не любовь…
Был дан второй звонок, и Вася препроводил Леру в зал. Под аплодисменты вышел дирижер, и началось то самое музыкально-театральное действие, о котором в стремительном автомобиле увлечённо рассказывал Вася.
Лера слушала с обострённым вниманием, с каким-то милым сосредоточением. Ей самой хотелось что-то понять и уяснить в музыке, которой полтора века. Она горячо аплодировала и несколько раз крикнула «браво». Было всё так, как рассказал Вася. Классическая музыка – точно книга символов, бездна знаний и знаков высших истин.
После заключительного аккорда, когда всё ещё звенели фанфары праздника, полный зал в поразительном единодушии подхватил жизнерадостную концовку собственным ураганным аккордом бьющихся друг о друга ладоней, и мощная волна ликующих возгласов волнами кружилась по залу, набирая силу, и затем лавиной неслась на сцену. Лера вдруг поцеловала Васю, отстранилась, улыбнулась и сказала, как могла громко: «Спасибо!»
В машине Лера пояснила благодарный поцелуй, откинувшись на спинку сидения и умостившись в его правильную и тщательно подобранную ортопедическую форму:
– Если бы не ты, я бы не пошла на подобный концерт. У меня были другие стереотипы понимания классической музыки. Я рада, что ошибалась: это не скучно. Но здесь также надо думать, что-то интуитивно соображать.
– Тебе противопоказано думать и размышлять в нерабочее время?
– Смеёшься?! Считаешь, если шпильки на туфлях в двенадцать сантиметров, значит, мозги куриные?
– Да нет же! Хотя это удивительно.
– Кстати, подержи эти туфли. В машине я одеваю другие, для удобства управления: мы же поедем быстро! Можешь засекать время: ровно через полчаса ты будешь стоять у дверей своей квартиры. В бардачке пакет – туфельки положи в него, а мои коронные кроссовочки всегда под моим сидением… Так что из стильной красавицы я сейчас превращусь… сейчас превращусь… думаешь – в кого?
– В ведьму!
– Угадал!.. Что-о-о!? Что ты сказал?!.. А вообще-то, как ты посмел такое сказануть? Я – ведьма!? Ты хочешь меня оскорбить?.. В первый же вечер оскорбить? Ты хочешь, чтобы этот вечер стал последним?
– Нет, нет-нет. Ляпнул не думая. Прости. Ты – волшебница. От тебя исходит магическая сила.
– В самом деле?
– Я это даже кожей чувствую, с закрытыми глазами.
– Проверим сейчас, как ты покоришься моей воле. – Она повернулась, обратила свои глаза в его глаза и долгую минуту собирала и прессовала во взгляде свои тайные мысли, выискивая брешь в его внутренней защите. Затем с легкой улыбкой и царственным величием протянула руку, через которую также шла её воля.
Василий, завороженный сиянием глаз чародейки, коснулся губами длинного среднего пальца с нанизанным перстнем, сверкающим в полутьме. Лера резким движением вонзила ноготок чуть повыше верхней губы – и капелька крови обагрила и ноготок и губу.
Боли не было. Странный привкус крови опалил горло. Лера с той же улыбкой поднесла ноготок к своим губам и размазала капельку крови по алому рту, поверх блеска помады. Затем она снова поднесла палец к месту укола. Губы зашептали странные непонятные сочетания слов – ранка на губе мгновенно сомкнулась.
– Не испугался? – со смехом спросила Лера и, не дожидаясь ответа, нажала на кнопку пуска автомобиля и резко утопила педаль акселератора.
Автомобиль, как выпущенная из тугого лука стрела, понесся по городской дороге…
3. Переписать судьбу
Красная «Мазда» летела по городу без остановки. Лера подбирала такой скоростной режим, чтобы не выпасть из «зелёной волны» светофоров, то притормаживая, то ускоряясь. Ночная мгла окружившая дорогу, поубавила участников дорожного движения настолько, что порой некоторые участки улиц элегантное авто проносилось в абсолютном одиночестве, словно улица, асфальт, фонари были сделаны только для них, что, впрочем, так и было в представлении бескомпромиссной девушки.
Сияя косметическим шармом, имея в резерве эскадроны ретивых лошадей, четырёхколёсный друг словно расправлял крылья – рвался ревностно исполнить волю водителя. И это возбуждало Леру. Однако громоздившиеся вдоль обочин сумеречные исполины домов, ограждение, разметка, знаки слегка охлаждали её страсть к дикой скорости, и она упражнялась в залихватских обгонах, стараясь не причинять никому помех, и в то же время самой лететь в авангарде, лететь на зелёный огонечек трехглазого регулировщика.
Выбравшись за город на трехполосное одностороннее шоссе она, не теряя ни секунды, включила форсаж болиду цвета свежей крови. От резкого ускорения Васю вдавило в кресло, и он словно подавился воздухом свободы и простора, ворвавшегося в приоткрытое окно.
– Закрой окно! – скомандовала Лера.
Эта её воля без промедления закрыла окно руками попутчика, который не мог сопротивляться здесь, в её управляемом снаряде. Василий, с затаённым дыханием и расширенными глазами, когда включается и боковое зрение, устремился вслед за ярким светом фар. Ему чудилось, что машина съезжает с дороги. Но нет, кругом же лес! Высокие сосны, заслоняющие звездное небо. Величественная Луна то и дело показывалась из-за крон деревьев. Направленный поток света фар выхватывал из какой-то пылевидной темноты очертания дороги. Там, где на придорожных столбиках были свет возвращающие полоски, две вспыхивающие линии протачивали во мраке слабые ориентиры пути и были точно сигнальные разметочные огни взлетно-посадочной полосы аэродромов.
Василию вдруг показалась, что вот так всю жизнь он будет мчаться по едва приметным ориентирам, предупреждающим преждевременный съезд за обочину с жизненного пути. Перед поворотом число указующих полосок, их яркость, зримость, очевидность увеличивалось, и Лера, порой не сбавляя скорость, мастерски проходила их, чуть подруливая, тем самым балансируя едва ощутимым креном разогнанного кусочка жизненного пространства.
А когда они выходили на прямую, ориентиры терялись, и они летели в серебряном туннеле из собственного света фар. Одно неверное движение, помноженное на величину созданной скорости – авто протаранит вековые деревья и скалы.
Как раз на просторе сглаживался ход летящего авто, и Василию чудилось странное – что они растворяются во тьме, что тьма проглатывает их, и даже потяжелевший диск Луны потворствует этому. Сам фосфорический лунный свет представился светом обосновавшихся на бледном спутнике Земли полумертвых душ.