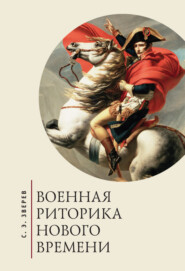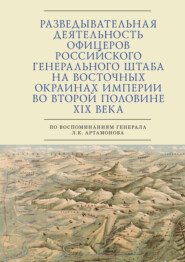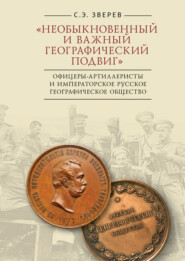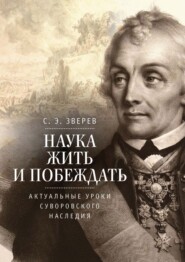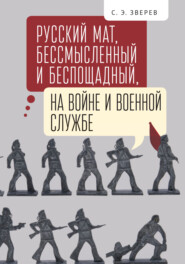По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Энциклопедия жизни русского офицерства второй половины XIX века (по воспоминаниям генерала Л. К. Артамонова)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Столовые – сводчатые невысокие залы с цементными полами – были уставлены длинными черными столами (на 22 чел. каждый) со скамьями по бокам и по табуретке на каждом конце стола. От пришедшей колонки дежурный отсчитывал по 11 рядов на каждый стол. Каждому обедающему ставились оранжевые глубокая и мелкая тарелки, простой ножик и вилка и деревянная ложка.
На одном из концов стола садился «старший» стола, пред которым и ставился супник с разливательной ложкой, – он всем и разливал, и раздавал кушанья, начиная с дальних. Хлеб подавался с лотка, то есть нарезанный ломтями хлеб укладывали посредине стола, и каждый брал, сколько съедал; по требованию, хлеб давали еще. Обыкновенно каждый кадет торопился захватить горбушку. Когда все столы оказывались заняты стоящими кадетами, по знаку дежурного воспитателя барабанщик «бил на молитву»: все пели хором молитву перед едой («Очи всех на Тя, Господи, уповают…»).
По команде «садись» все занимали свои места, а служители из кухни разносили супники, и начиналась раздача пищи. Горячее жидкое блюдо можно было спрашивать второй и даже третий раз. Обыкновенно это был мясной борщ или картофельный суп с мясом «в крошку»; на второе блюдо чаще всего давали казенные котлеты, то есть изрубленное мясо с луком и большой примесью черного хлеба, жареное на говяжьем жиру; к котлетам гарниром являлись гречневая каша, картофель, иногда фасоль, капуста или просто неопределенного вкуса соус, известный под именем «мыльного»; вместо котлет давали и ломтики вареного мяса, облитого именно таким соусом. Третье блюдо полагалось только в праздники, и это были оладьи с медом, кисель, а летом вареники с ягодами, иногда гречневая каша со свиным салом. Первый обед не произвел на меня никакого впечатления. К простой пище я привык; только приготовление самой пищи и какой-то запах как в столовой, так и от самой пищи, показались мне не располагающими к еде. В последующие дни, при беготне, особенно на свежем воздухе, когда я достаточно проголодался, пища оказалась достаточно вкусной; пришлось лишь пожалеть о недостаточном ее количестве.
В жизнь корпуса мы все, вновь поступившие, втянулись быстро. Определенный и строгий режим нас всех объединил. Утром по сигналу в 6 ч. все вставали; полчаса давалось: на умывание, чистку сапог и пуговиц своего бушлата, а щеткой всей одежды, уборку своей кровати, встряхивания одеяла, двух простынь и застилку ее снова по указанному образцу. По сигналу затем все устремлялись в репетиционный зал каждого возраста, где и выстраивались, ожидая проверки и утреннего визита начальства. В то же время служители корпуса (из старых солдат) раскладывали по узким черным столам вдоль стен зала утренний чай в фаянсовых кружках с половиной трехкопеечной] булки. После обхода фронта нашего дежурным воспитателем и осмотра каждого из нас, подавался сигнал на молитву: один из воспитанников (так теперь мы назывались вместо кадет) по назначению дежурного читал утренние молитвы. По команде все садились[за] предложенный скромный завтрак. По сигналу вставали и отпускались, располагая получасом времени в зале до начала уроков. По общему сигналу «сбор» все устремлялись по коридорам в свои классы, где и велись занятия до 4 ч. дня с переменами.
На большую перемену в полдень все мчались в каждом возрасте в рекреационный свой зал, где на столах вдоль стен был уже разложен наш завтрак – чаще всего это был кусок хлеба, величиной в среднюю ладонь, а толщиной в палец, с маленьким катышком затхлого масла; на каждом столе стояло по две больших солонки с грубомолотой столовой солью. Это и был наш завтрак.
В 4 ч. дня, оправившись после конца уроков, каждый возраст строился в своем коридоре и по команде шел обедать. После обеда, вернувшись в свое помещение, одевались, в зависимости от времени года и погоды дня, и отправлялись на прогулку общей колонной в назначенное каждому возрасту место вокруг зданий. Здесь имелись обширные плацы с оградой из правильно положенных на стойках переводин. В таких огражденных плацах воспитанники бегали, играли в разные игры или гуляли.
В эти же часы дня братья и родственники кадетов имели право с разрешения своего начальства навещать своих родных в других возрастах. Обыкновенно старшие приходили к младшим, но не обратно. Время гуляния длилось от 1,5 до 2 ч. дня, в зависимости от времени года. В 6 ч. вечера уже все были в классах и занимались подготовкой уроков на следующий день. В 8 ч. вечера в рекреационных залах был вечерний чай с 2 копеечным] ситником[21 - Ситник – хлеб, испеченный из просеянной муки.].
После вечернего чая – общая вечерняя молитва: сначала все строились в общий фронт в рекреационном зале, производилась поверка по списку наличности всех воспитанников; барабанщики и трубачи играли вечернюю зорю на площадке главного парадного входа (2-й этаж), что было слышно во всех частях обширного здания; все хором в каждом возрасте (по предварительному сигналу) пели вечерние молитвы.
Отбой. После этого сигнала в каждом возрасте вызывались перед фронт[ом] провинившиеся в течении дня: кому назначался простой или усиленный арест, а иногда и высшая мера – телесное наказание; это последнее приводилось в исполнение тут же перед фронтом. Два служителя солдата ставили черную скамью, на которую наказуемый ложился, спустив портки; третий солдат пучком розы давал виновному указанное число ударов. Почти каждый день кто-либо из неисправимых шалунов в каком-либо из возрастов такому наказанию присуждался, о чем свидетельствовали нам заглушенные крики. Мы, вновь поступившие, пока избегали этого испытания, но вид самого наказания произвел самое тягостное впечатление на нас всех и вызвал после того обмен впечатлениями и большие разговоры.
В 9 ч. вечера все уже должны были быть в своих кроватях, имея руки поверх одеял и лежа на спине или на правом боку. Над каждой кроватью на высоком стержне была дощечка с фамилией и номером каждого. Раздеваясь, надо было осмотреть тщательно свою одежду и обувь. Неисправную одежду требовалось немедленно отнести в конец коридора, где при лампе работало всю ночь двое портных, починяя разорванное платье воспитанников; в другое место (около умывальной комнаты) относилась обувь, чинил которую (тоже при лампе) сапожник, но если починка была сложна, то выдавалась временно другая пара сапог. На каждой вещи ставился номер, присвоенный каждому из нас в его «возрасте».
Свет лампы в дортуарах уменьшался настолько, чтобы видеть лишь спящих и легко проверить их число. Всякие разговоры после 9 часов вечера строго воспрещались.
Среди детей, конечно, были и такие, которые страдали недержанием мочи. Таких переводили в самый конец дортуара (рыболовы) и заменяли им тюфяки (с шерстью) простыми сенниками. Считаться в списках «рыболовов» было зазорным, так как вызывало очень неприятные дразнения товарищей.
Привыкать к новой жизни я стал с трудом. В течение недели раза два меня навестил старший брат, причем застал меня однажды в слезах. На его расспросы я должен был признаться, что меня сильно поколотили. Дело было так: после обеда меня вдруг окружила довольно большая группа второклассников, среди которых были дончаки и кавказцы. Один из донцов (первый силач во всем возрасте), пощупав мои мускулы на руках и груди, авторитетно сказал: «Ну, дудки! Медведев 3
будет сильнее его!». Кто-то с ним заспорил, а кто-то побежал за Медведевым 3
. Группа тем временем постановила разрешить спор дракой между мной и Медведевым. Когда этот последний явился на зов, то ему сказали, в чём дело. Он сразу засучил рукава и сильно толкнул меня кулаком в грудь. Я сначала опешил. Но все составили намеренно круг и стали нас подзадоривать. Мы сцепились. У дончака старше меня года на полтора оказалось больше силы и сноровки. Он скоро бросил меня на пол и стал лежачего бить, пока его не оторвали, заявив, что вопрос решён. По силе, несмотря на мою плотную и грузную фигурку, я был отнесён к «средней группе» малышей. Эта расправа, причём совершенно неожиданная, меня очень расстроила, особенно еще и потому, что я не видел к себе никакого сочувствия в этой толпе. Тогда как Медведев 3
был громко назван «молодцом», и его всё время криками поддерживали земляки – донские казаки.
В этот именно день меня и навестил брат Максимилиан. Увидев, что ко мне подходит (и здоровается по-братски) рослый и сильный кадет старшего класса, группа почтительно от меня отошла подальше. Брат спросил, чем я огорчён, и я откровенно ему всё рассказал. На это он мне резонно заметил: «Тебя испытывают, какой ты по силе. Но знай, если ты на это пожалуешься, то будет тебе много хуже. Если я за тебя вступлюсь, то тебе могут отомстить ночью: накроют голову одеялом и изобьют жестоко, а сами разбегутся». Затем брат добавил, что самое лучшее – снести все терпеливо и постараться гимнастикой развить свои мышцы и ловкость, чтобы суметь самому за себя постоять.
Я так и решил дальше поступать. Каждое утро я теперь старался урвать время до утреннего чая, делать самостоятельно гимнастику на машинах, устроенных в конце рекреационного зала. Приемы гимнастики мне были известны, так как гимнастика входила в расписание занятий.
До наращения своих мышц я избегал всяких столкновений с «силачами» возраста, а слабых никогда и раньше я сам не обижал. Присматриваясь к разнокалиберному по национальностям, воспитанию, быту и развитию своих товарищей по «возрасту», я убедился прежде всего в том, что помимо казённой власти, поставленных над «возрастом» начальников в нём самом есть ещё власть, при том сильная и безнаказанная, которой все боятся даже больше, чем самого грозного директора, г[енерал]-м[айора] Кузьмина-Караваева[22 - Григорий Павлович Кузьмин-Караваев (1823–1888) – генерал-лейтенант, один из деятелей военно-учебного ведомства. Был призван «привести в порядок» Владимирскую Киевскую военную гимназию, которую возглавлял с 1867 по 1871 год.]. Эту внутреннюю в каждом возрасте власть составляла группа «силачей», в огромном большинстве из донских казачат и кавказских или черкесских князей. Как те, так и другие (сыновья заслуженных перед правительством военных деятелей), присланные в корпус в Киев для поступления без всякого конкурса или экзамена. Уроженцы кавказских народностей или среднеазиатских племён (например, своего хана Юмудского) привозились без всякого знания русского языка.
Правительство это делало с целью обрусения сыновей знатных и влиятельных туземных родовых начальников. Присланные казачата скоро все-таки нагоняли своих более грамотно подготовленных сверстников, хотя и с опозданием на первый год. Но кавказцы и азиаты первый год только еще учились русскому языку, не понимая никаких уроков. Такие ученики засиживались почти обязательно по два года в первых двух или 3-х классах, а затем более успевающие продолжали и дальше учение до конца корпуса, даже некоторые получили высшее образование (напр., чеченец хан Алиев[23 - Эрис(-)Хан Султан Гирей Алиев (Эрисхан Алиев)(1855–1920) – российский военный деятель, генерал от артиллерии (1914), верховный правитель Чечни (1919); представитель тейпа Хаккой. С 1914 г. – командир 4-го армейского корпуса, которым командовал в течение Первой мировой войны; участвовал в Восточно-Прусской и Лодзинской операциях, в боях при Пултуске и Нареве, а также в отступлении из Румынии. За отличия в боях под Варшавой был награжден орденом св. Георгия 3-й степени.] – очень известный в Мировую войну артил[ерийский] генерал и командир корпуса, а также и др.) или же уезжали обратно на Кавказ, но с отличным знанием разговорного русского языка, и там уже продолжили практически продвигаться по службе. Таким образом, уже в самом младшем «возрасте» корпуса такие отстающие в учебе воспитанники, физически крепкие, составляли группу «силачей», которая и заправляла внутренней жизнью «возраста». Этой группе вынуждены были слепо подчиняться все остальные воспитанники «возраста».
Вмешиваться в эту группу и установившиеся отношения между «силачами» и «слабыми» было не только бесполезно, но приносило тяжкий вред тому, кто призывал официальную власть себе на защиту. Если по жалобе обиженного был наказан кто-либо из «силачей», вся группа вступалась в это дело и находила тысячу возможностей делать жизнь жалобщику поистине невыносимой. Имело еще довольно серьезное значение иметь брата или друга из старших классов.
Когда обиженному было невмоготу терпеть преследование «силача» в своем «возрасте», тогда физически сильный старший брат или друг во время послеобеденного гуляния находил обидчика-силача: подвергнув его чувствительному нравоучению, он грозил удесятерить наказание, если «силач» не перестанет преследовать обижаемого блата или клиента. На некоторое время это помогало. Но часто мстительный «силач» устраивал в отместку за свое посрамление какую-либо пакость своему врагу ночью и т. п. Словом, бороться с этим злом внешними силами часто становилось безнадежным. Иногда гонимые и обираемые, списавшись с родителями, бросали корпус. Были, хотя и редко, случаи самоубийства с отчаяния или покушения на самоубийства. «Силача» можно было смирить или силою собственной, или уплатой ему «дани», т. е. подачки булками, ситниками, котлетами во время обеда, сладостями или деньгами. Организованная группа «силачей» совершенно определенно накладывала на отъезжающих домой на праздники известную дань съестными продуктами, что в точности исполнялось даже самими родителями воспитанников, лишь бы это могло защитить от обид и огорчений.
Начальство корпуса в эту внутреннюю жизнь воспитанников почти совершенно не вмешивалось: лишь очень крупные скандалы и драки иногда обнаруживали все некрасивые стороны данного быта. Но ради общего и внешнего благополучия начальство вглубь не простиралось в своих расследованиях, ограничиваясь наказанием двух-трех лиц, ярко проявивших свою отрицательную деятельность. Среди «силачей» развивалась еще одна сторона деятельности, тоже крайне непривлекательная: из их среды выходили торговцы и ростовщики, торговавшие съестными продуктами, добытыми всякими способами; цены на продаваемые ими продукты, увеличивались на 300 % и более, против нормальной[цены]. Например], за утреннюю полубулочку брали две полубулочки и один ситник, за ситник – два ситника, за котлету – три котлеты и т. п. Неуплата своевременно влекла за собою пеню в одну булку или ситник. Неотдача долга влекла отдачу какой-либо ценной вещи, стоившей уже рубли. Наконец, безнадежного должника избивали так, что приходилось иногда избитого отправлять в лазарет. Самое избиение производилось ночью, с покрыванием головы одеялом и нанятыми исполнителями, часто из сильно задолжавших клиентов торговца-кулака. Вот таким силачом-торговцем и был казачок Медведев 3
, уже два года просидевший в I классе и с трудом переваливший во II класс.
Во всем нашем возрасте таких торговцев насчитывалось человек пять; из них наихудшими были казаки Сотченко и Медведев 3
, они же и «силачи»-руководители всей группы. В нашем «возрасте» насчитывалось около 150 человек, из них два отделения I класса и два второго класса. Всего в корпусе числилось по списку свыше 600 воспитанников в шести классах, которые делились в свою очередь на отделения от 30 до 45 человек. Впоследствии я узнавал и называл по фамилиям неточно каждого из 600 совоспитанников, но всех своих товарищей по «возрасту» знал по походке: не видя их, безошибочно называл по фамилиям каждого, если только слышал стук его сапог. Это было явлением нормальным для нас всех, при нашей совместной жизни.
Владимир Георгиевич фон Бооль
Время наше в каждом дне было строго и точно распределено по часам и минутам. Во главе учебного дела стоял ученый артиллерист и автор известного учебника физики (полковник арт[иллерии] Бооль[24 - Владимир Георгиевич фон Бооль (1836–1899) – генерал-майор, российский выдающийся военный педагог конца XIX века, публицист, писатель, автор ряда военно-исторических трудов. Составил ряд учебников по физике, математике и географии. Его статьи помещались, начиная с 1865 года, в «Учителе», «Педагогическом сборнике», «Народной школе», «Художественном сборнике», «Киевлянине» и других печатных изданиях.]). Расписание занятий составлялось по новой системе и увеличенной учебной программе.
Всего занятия длились с 8 ч. утра до 4 ч. дня; большая перемена в течение ? часа; малая – по 10 минут; рабочий час – 45–50 минут. В классах время даром не теряли. Если не прибыл почему-либо преподаватель, его замещал воспитатель, указывая, чем классу заниматься. Учебные уроки прерывались уроками гимнастики, фронта, танцев и пения. В общем, расписание составлялось заботливо. Гораздо тяжелее давалось приготовление уроков вечером от 6 до 8 часов в классах под наблюдением воспитателей. Эти два часа, без перемены и после утомления в течение дня, были тягостны. Кроме того, учить уроки надо было, сидя на своем месте за партой, при общем шуме и разговорах товарищей, а к этому не сразу можно было привыкнуть.
На следующий день учитель по своему предмету вызывал по книжечке по крайней мере 20 % учеников, ставя отметки; затем продолжал сам после того объяснять предмет преподавания дальше, задавая перед концом по учебнику следующий урок. Отметки ставились по 12-балльной системе. За несколько неудовлетворительных отметок в течение недели, особенно «нулей», «единиц» и «двоек», следовало строгое наказание лентяям, даже до порки розгами.
Учить уроки поэтому было необходимо. Кроме того, год делился на четверти, а в каждой четверти в конце были вакации по пройденной части предмета, причем спрашивал преподаватель всех и выставлял всем четвертные отметки.
Строго говоря, при добросовестном отношении к своему делу все время дня было заполнено; я с трудом первые недели мог справляться так, чтобы не навлечь на себя наказание или неудовольствие как начальства, так и товарищей. В классе, когда учитель спрашивает, особенно какого-либо головотяпа-силача, более серьезные старались ему подсказать, иначе грозила потом расправа. Успешное учение создавало некоторую репутацию способному ученику, но она не гарантировала его от физической обиды «силача», если ему вовремя не подана была подсказками помощь.
Так проходили обыкновенные дни недели. В субботу в 6 ч. вечера все, кроме уволенных в отпуск в город к родным, отправлялись в церковь, находившуюся во II этаже внутри главного корпуса здания. Церковь представляла огромный паркетный в два света зал с особым алтарем. Сюда свободно входило в большие праздники до тысячи душ молящихся. Пел хор своих же кадет под управлением учителя пения (И.Г. Солуха).
По возвращении из церкви и после вечернего чая все выстраивались в «возрастах» в рекреационном зале, куда являлось и все начальство «возраста». Здесь прочитывались недельные отметки за учение с «нулями», «единицами» и «двойками», записи в штрафные журналы особых проступков в классе. Неисправимые лентяи и рецидивисты-проказники вызывались перед фронт[ом] и подвергались публичной порке или отводились в карцер на «хлеб и воду» на указанный срок.
На воспитанников слабонервных, привыкших к мягкому домашнему уходу и ласке, эти расправы производили потрясающее впечатление. Помню первое наказание вновь поступившего со мною сверстника (Пирожкова) за разбитие в двойной раме стекла – результат неумеренной возни с товарищами и ослушания дежурного воспитателя, приказавшего прекратить эту возню, – он был присужден к розгам. Пирожкова положили на скамью, но после первых же ударов розгами наказанный от пережитого волнения сильно и жидко испражнился на себя и скамью, что вынудило начальство прекратить наказание, вызвав хохот среди стоящих во фронте товарищей. Но не для всех так скоро прекращалась расправа.
Вдохновителем такой меры наказания являлся прежде всего грозный директор г[енерал]-м[айор] Кузьмин-Караваев. Мы его видели редко, мельком, но всегда его появление сопровождалось наказанием кого-либо из подвернувшихся воспитанников. Он считал, что лишь такой устрашающий системой наказаний можно с успехом управлять вверенной ему массой детей. Сам он был женат, имел 6 дочерей разного возраста, был очень заботливый глава своей семьи, устраивая для нее всевозможные удобства и развлечения за счет корпуса, но, как потом оказалось, держал сторону вора-эконома, верил ему во всем и лично не входил в интересы своих питомцев, считая это мелочью ниже своего директорского достоинства.
Всем воспитанникам говорил «ты», обращался с ними всегда строго, резко и грубо, беспощадно назначал наказания за малейшие проступки в зависимости от своего настроения. Ходил он в сапогах на резиновых подошвах, являясь неожиданно там, где его не ждали, часто по доносу своих разведчиков из служителей корпуса. Карты, водка и самовольные отлучки в старших классах считались преступлениями, для изжития которых он не щадил берез кадетской рощи и тела виновных.
При этом директоре я пробыл два года, и общее впечатление у меня о нем сохранилось отрицательное. Небольшого роста, толстый, румяный, подвижный, с ястребиным носом и какими-то мутными навыкат глазами, он к себе не располагал, даже когда молчал, но когда начинал кричать, площадной бранью ругаться и топать ногами, визгливым голосом грозить провинившемуся кадету «запороть его насмерть», вызывал к себе просто отвращение. Все знали, что он ведет дела хозяйственные негодно, за счет желудка кадет.
Мы, учащиеся, при нем всегда были голодны. Уходя из столовой после обеда, мы старались набить карманы кусками черного хлеба «с лотка» и принимались его есть по возвращении в свой «возраст» или на гулянии. Это вечное недоедание было для нас, подрастающих и очень много двигающихся, сущим мучением. Счастливы были те, у кого от родных получались и припасы, и деньги. Но главная масса – это были дети семей бедных, сдавших в казну своих ребят и считавших поэтому всякую заботу о них лишней.
Это привело к ростовщичеству и торгашеству неимущих, но физически сильных дончаков и кавказцев и тяжкому положению бедной и голодающей главной массы всех воспитанников каждого «возраста». «Голод – не тетка», «сам себя не накормишь – никто не подаст», «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет», а к этим поговоркам голодающие кадеты добавляли еще «не украдешь – не проживешь», и вот мгновенно снаряжалась из старших классов отчаянная экспедиция: с места гулянья, незаметно скрывшись от глаз дежурного воспитателя, отправлялась экспедиция к «кацапам», т. е. выходцам из Владимирской губернии, занимающимся огородничеством.
Кадетское начальство (директор) сдавало этим огородникам очень выгодно для него большие участки кадетской рощи (полянки) под всякие овощи. Осенью, когда все овощи поспевали, там можно было набрать картофеля, кочерыжки капусты, подсолнечников, наломать кочанов кукурузы. За этим и отправлялись экспедиции, в огромном большинстве случаев с удачными результатами. Картофель и кукуруза потом варились служителями у них на квартире и доставлялись кадетам.
Другие выдумщики устраивали нечто похожее на удочки, т. е. длинные палки с увязанными на конце большими заостренными гвоздями. Эта партия старших наших товарищей являлась на наше место гуляния, так как на наш плац выходили окна хлебного цейхгауза. Через решетчатую форточку такая удочка направлялась внутрь, нанизывали пару булок и подтаскивали их к форточке, где сотоварищ по экспедиции уже рукой снимал через форточку булки. Мы в это время держались в отдалении, чтобы не мешать добытчикам, иначе можно было сильно пострадать за то, что помешали в их работе. Иногда добытчики ловились, и расправа с ними была беспощадна. Но это нисколько не устрашало «голодающих», которые изыскивали новые способы добычи запасов корпусного эконома.
Однако хранение, да, вероятно, и недобросовестная закупка продуктов экономом, сказывались на их качестве. Одну неделю мы каждый день получали гречневую кашу, то как приправу ко второму блюду, то самостоятельно, с хорошо прожаренным светлым салом («шкварками»). Первые дни мы ее ели, хотя нам претил какой-то привкус в ней, но дальнейшая партия крупы настолько разила крысиным пометом и[прогорклостью, что мы перестали есть и заявили через выборных претензию эконому. Он наших выборных изругал и объявил, что доложит о нашем поведении директору, так как он исполняет лишь директорское распоряжение. Возмутились прежде всего старшие классы, откуда были посланы агитаторы во все возрасты: «Каши не есть, а когда ее подадут, из всех баков вывалить ее на пол около столов в одну кучу, против каждого стола».
Каша была в этот день дана самостоятельно, вторым блюдом. Качество было прежнее, т. е. неудовлетворительное. По какому-то условному сигналу сразу все поднялись со своих мест, и кашу выбросили на пол… Дежурные воспитатели закричали, восстанавливая порядок; на это раздался крик и визг: «Гнилая каша!», – повторяемый сотнями голосов. Эконом побежал за директором.
К его приходу водворилось полное молчание. Ему пришлось идти по грудам каши, скверный запах которой был лучшим докладчиком о причине мятежа и тяжкого нарушения дисциплины. Он свирепо всех нас обводил глазами и грозно потребовал выдать зачинщиков. На это все отвечали молчанием. Тогда он приказал выпороть по списку всех замеченных в возрастах в неисправимо дурном поведении. Но каша больше в нашем обеденном меню не появлялась. Эконом накляузничал на посылку к нему депутатов и кое на кого указал лично. Таким бедняжкам досталось сильно. Все же директор и эконом стали осторожнее и внимательнее. Кое-кто из кадет после порки были и исключены за этот мятеж.
Но для репутации директора это дело оказалось неблагоприятным. Родители некоторых воспитанников, влиятельные в высших сферах, обратили внимание кого следует на хозяйственные дела корпуса, и из Петербурга нежданно приехал ревизор, в руках которого оказался неприятный для директора материал. Год еще директор у нас пробыл, а затем неожиданно был уволен. Но вернемся пока к его еще владычеству.
На меня мятеж, вызванный «гнилой кашей», произвел большое впечатление. Как и в классической гимназии, я понял, что мы, 600 с лишним душ, составляли живой организм, имеющий свою волю, которая проявляется в какие-то трудные для этого организма минуты жизни совсем помимо установленной начальством организации. И власть официальная с этой внутренней силой вынуждена считаться…
День за днем, неделя за неделей потянулись однообразно, по установленному трафарету для нашей жизни. Они были так однообразны, а время так урегулировано, что лишь праздниками мерил я текущее время.
Так промелькнула первая четверть. В классе я занимался усердно, учение давалось мне легко, и моя репутация установилась и в глазах преподавателей и товарищей довольно приличная. В конце первой четверти были репетиции, а в общем, все для меня сложилось по-хорошему. Я написал домой мое первое письмо с приложением четвертных отметок по всем предметам и мнения моего воспитателя. По правилам корпуса, мы могли писать письма домой только с разрешения воспитателя и его цензурой. Первые месяцы я ничего утешительного родителям написать не мог, а жаловаться на свое житье в корпусе было бы нелегко, да и воспитатель бы не пропустил такого письма.
С братом мы виделись довольно часто, но я знал, что он ничего не предпримет для улучшения моего положения. От него я слышал только строгие резонерские советы, как себя держать. В свою же личную жизнь он меня не вводил, хотя я знал, что у него есть друзья – семьи, где он часто бывает по праздникам. С товарищами я держался довольно ровно, не входя ни с кем в особенно тесную дружбу.
На одном из концов стола садился «старший» стола, пред которым и ставился супник с разливательной ложкой, – он всем и разливал, и раздавал кушанья, начиная с дальних. Хлеб подавался с лотка, то есть нарезанный ломтями хлеб укладывали посредине стола, и каждый брал, сколько съедал; по требованию, хлеб давали еще. Обыкновенно каждый кадет торопился захватить горбушку. Когда все столы оказывались заняты стоящими кадетами, по знаку дежурного воспитателя барабанщик «бил на молитву»: все пели хором молитву перед едой («Очи всех на Тя, Господи, уповают…»).
По команде «садись» все занимали свои места, а служители из кухни разносили супники, и начиналась раздача пищи. Горячее жидкое блюдо можно было спрашивать второй и даже третий раз. Обыкновенно это был мясной борщ или картофельный суп с мясом «в крошку»; на второе блюдо чаще всего давали казенные котлеты, то есть изрубленное мясо с луком и большой примесью черного хлеба, жареное на говяжьем жиру; к котлетам гарниром являлись гречневая каша, картофель, иногда фасоль, капуста или просто неопределенного вкуса соус, известный под именем «мыльного»; вместо котлет давали и ломтики вареного мяса, облитого именно таким соусом. Третье блюдо полагалось только в праздники, и это были оладьи с медом, кисель, а летом вареники с ягодами, иногда гречневая каша со свиным салом. Первый обед не произвел на меня никакого впечатления. К простой пище я привык; только приготовление самой пищи и какой-то запах как в столовой, так и от самой пищи, показались мне не располагающими к еде. В последующие дни, при беготне, особенно на свежем воздухе, когда я достаточно проголодался, пища оказалась достаточно вкусной; пришлось лишь пожалеть о недостаточном ее количестве.
В жизнь корпуса мы все, вновь поступившие, втянулись быстро. Определенный и строгий режим нас всех объединил. Утром по сигналу в 6 ч. все вставали; полчаса давалось: на умывание, чистку сапог и пуговиц своего бушлата, а щеткой всей одежды, уборку своей кровати, встряхивания одеяла, двух простынь и застилку ее снова по указанному образцу. По сигналу затем все устремлялись в репетиционный зал каждого возраста, где и выстраивались, ожидая проверки и утреннего визита начальства. В то же время служители корпуса (из старых солдат) раскладывали по узким черным столам вдоль стен зала утренний чай в фаянсовых кружках с половиной трехкопеечной] булки. После обхода фронта нашего дежурным воспитателем и осмотра каждого из нас, подавался сигнал на молитву: один из воспитанников (так теперь мы назывались вместо кадет) по назначению дежурного читал утренние молитвы. По команде все садились[за] предложенный скромный завтрак. По сигналу вставали и отпускались, располагая получасом времени в зале до начала уроков. По общему сигналу «сбор» все устремлялись по коридорам в свои классы, где и велись занятия до 4 ч. дня с переменами.
На большую перемену в полдень все мчались в каждом возрасте в рекреационный свой зал, где на столах вдоль стен был уже разложен наш завтрак – чаще всего это был кусок хлеба, величиной в среднюю ладонь, а толщиной в палец, с маленьким катышком затхлого масла; на каждом столе стояло по две больших солонки с грубомолотой столовой солью. Это и был наш завтрак.
В 4 ч. дня, оправившись после конца уроков, каждый возраст строился в своем коридоре и по команде шел обедать. После обеда, вернувшись в свое помещение, одевались, в зависимости от времени года и погоды дня, и отправлялись на прогулку общей колонной в назначенное каждому возрасту место вокруг зданий. Здесь имелись обширные плацы с оградой из правильно положенных на стойках переводин. В таких огражденных плацах воспитанники бегали, играли в разные игры или гуляли.
В эти же часы дня братья и родственники кадетов имели право с разрешения своего начальства навещать своих родных в других возрастах. Обыкновенно старшие приходили к младшим, но не обратно. Время гуляния длилось от 1,5 до 2 ч. дня, в зависимости от времени года. В 6 ч. вечера уже все были в классах и занимались подготовкой уроков на следующий день. В 8 ч. вечера в рекреационных залах был вечерний чай с 2 копеечным] ситником[21 - Ситник – хлеб, испеченный из просеянной муки.].
После вечернего чая – общая вечерняя молитва: сначала все строились в общий фронт в рекреационном зале, производилась поверка по списку наличности всех воспитанников; барабанщики и трубачи играли вечернюю зорю на площадке главного парадного входа (2-й этаж), что было слышно во всех частях обширного здания; все хором в каждом возрасте (по предварительному сигналу) пели вечерние молитвы.
Отбой. После этого сигнала в каждом возрасте вызывались перед фронт[ом] провинившиеся в течении дня: кому назначался простой или усиленный арест, а иногда и высшая мера – телесное наказание; это последнее приводилось в исполнение тут же перед фронтом. Два служителя солдата ставили черную скамью, на которую наказуемый ложился, спустив портки; третий солдат пучком розы давал виновному указанное число ударов. Почти каждый день кто-либо из неисправимых шалунов в каком-либо из возрастов такому наказанию присуждался, о чем свидетельствовали нам заглушенные крики. Мы, вновь поступившие, пока избегали этого испытания, но вид самого наказания произвел самое тягостное впечатление на нас всех и вызвал после того обмен впечатлениями и большие разговоры.
В 9 ч. вечера все уже должны были быть в своих кроватях, имея руки поверх одеял и лежа на спине или на правом боку. Над каждой кроватью на высоком стержне была дощечка с фамилией и номером каждого. Раздеваясь, надо было осмотреть тщательно свою одежду и обувь. Неисправную одежду требовалось немедленно отнести в конец коридора, где при лампе работало всю ночь двое портных, починяя разорванное платье воспитанников; в другое место (около умывальной комнаты) относилась обувь, чинил которую (тоже при лампе) сапожник, но если починка была сложна, то выдавалась временно другая пара сапог. На каждой вещи ставился номер, присвоенный каждому из нас в его «возрасте».
Свет лампы в дортуарах уменьшался настолько, чтобы видеть лишь спящих и легко проверить их число. Всякие разговоры после 9 часов вечера строго воспрещались.
Среди детей, конечно, были и такие, которые страдали недержанием мочи. Таких переводили в самый конец дортуара (рыболовы) и заменяли им тюфяки (с шерстью) простыми сенниками. Считаться в списках «рыболовов» было зазорным, так как вызывало очень неприятные дразнения товарищей.
Привыкать к новой жизни я стал с трудом. В течение недели раза два меня навестил старший брат, причем застал меня однажды в слезах. На его расспросы я должен был признаться, что меня сильно поколотили. Дело было так: после обеда меня вдруг окружила довольно большая группа второклассников, среди которых были дончаки и кавказцы. Один из донцов (первый силач во всем возрасте), пощупав мои мускулы на руках и груди, авторитетно сказал: «Ну, дудки! Медведев 3
будет сильнее его!». Кто-то с ним заспорил, а кто-то побежал за Медведевым 3
. Группа тем временем постановила разрешить спор дракой между мной и Медведевым. Когда этот последний явился на зов, то ему сказали, в чём дело. Он сразу засучил рукава и сильно толкнул меня кулаком в грудь. Я сначала опешил. Но все составили намеренно круг и стали нас подзадоривать. Мы сцепились. У дончака старше меня года на полтора оказалось больше силы и сноровки. Он скоро бросил меня на пол и стал лежачего бить, пока его не оторвали, заявив, что вопрос решён. По силе, несмотря на мою плотную и грузную фигурку, я был отнесён к «средней группе» малышей. Эта расправа, причём совершенно неожиданная, меня очень расстроила, особенно еще и потому, что я не видел к себе никакого сочувствия в этой толпе. Тогда как Медведев 3
был громко назван «молодцом», и его всё время криками поддерживали земляки – донские казаки.
В этот именно день меня и навестил брат Максимилиан. Увидев, что ко мне подходит (и здоровается по-братски) рослый и сильный кадет старшего класса, группа почтительно от меня отошла подальше. Брат спросил, чем я огорчён, и я откровенно ему всё рассказал. На это он мне резонно заметил: «Тебя испытывают, какой ты по силе. Но знай, если ты на это пожалуешься, то будет тебе много хуже. Если я за тебя вступлюсь, то тебе могут отомстить ночью: накроют голову одеялом и изобьют жестоко, а сами разбегутся». Затем брат добавил, что самое лучшее – снести все терпеливо и постараться гимнастикой развить свои мышцы и ловкость, чтобы суметь самому за себя постоять.
Я так и решил дальше поступать. Каждое утро я теперь старался урвать время до утреннего чая, делать самостоятельно гимнастику на машинах, устроенных в конце рекреационного зала. Приемы гимнастики мне были известны, так как гимнастика входила в расписание занятий.
До наращения своих мышц я избегал всяких столкновений с «силачами» возраста, а слабых никогда и раньше я сам не обижал. Присматриваясь к разнокалиберному по национальностям, воспитанию, быту и развитию своих товарищей по «возрасту», я убедился прежде всего в том, что помимо казённой власти, поставленных над «возрастом» начальников в нём самом есть ещё власть, при том сильная и безнаказанная, которой все боятся даже больше, чем самого грозного директора, г[енерал]-м[айора] Кузьмина-Караваева[22 - Григорий Павлович Кузьмин-Караваев (1823–1888) – генерал-лейтенант, один из деятелей военно-учебного ведомства. Был призван «привести в порядок» Владимирскую Киевскую военную гимназию, которую возглавлял с 1867 по 1871 год.]. Эту внутреннюю в каждом возрасте власть составляла группа «силачей», в огромном большинстве из донских казачат и кавказских или черкесских князей. Как те, так и другие (сыновья заслуженных перед правительством военных деятелей), присланные в корпус в Киев для поступления без всякого конкурса или экзамена. Уроженцы кавказских народностей или среднеазиатских племён (например, своего хана Юмудского) привозились без всякого знания русского языка.
Правительство это делало с целью обрусения сыновей знатных и влиятельных туземных родовых начальников. Присланные казачата скоро все-таки нагоняли своих более грамотно подготовленных сверстников, хотя и с опозданием на первый год. Но кавказцы и азиаты первый год только еще учились русскому языку, не понимая никаких уроков. Такие ученики засиживались почти обязательно по два года в первых двух или 3-х классах, а затем более успевающие продолжали и дальше учение до конца корпуса, даже некоторые получили высшее образование (напр., чеченец хан Алиев[23 - Эрис(-)Хан Султан Гирей Алиев (Эрисхан Алиев)(1855–1920) – российский военный деятель, генерал от артиллерии (1914), верховный правитель Чечни (1919); представитель тейпа Хаккой. С 1914 г. – командир 4-го армейского корпуса, которым командовал в течение Первой мировой войны; участвовал в Восточно-Прусской и Лодзинской операциях, в боях при Пултуске и Нареве, а также в отступлении из Румынии. За отличия в боях под Варшавой был награжден орденом св. Георгия 3-й степени.] – очень известный в Мировую войну артил[ерийский] генерал и командир корпуса, а также и др.) или же уезжали обратно на Кавказ, но с отличным знанием разговорного русского языка, и там уже продолжили практически продвигаться по службе. Таким образом, уже в самом младшем «возрасте» корпуса такие отстающие в учебе воспитанники, физически крепкие, составляли группу «силачей», которая и заправляла внутренней жизнью «возраста». Этой группе вынуждены были слепо подчиняться все остальные воспитанники «возраста».
Вмешиваться в эту группу и установившиеся отношения между «силачами» и «слабыми» было не только бесполезно, но приносило тяжкий вред тому, кто призывал официальную власть себе на защиту. Если по жалобе обиженного был наказан кто-либо из «силачей», вся группа вступалась в это дело и находила тысячу возможностей делать жизнь жалобщику поистине невыносимой. Имело еще довольно серьезное значение иметь брата или друга из старших классов.
Когда обиженному было невмоготу терпеть преследование «силача» в своем «возрасте», тогда физически сильный старший брат или друг во время послеобеденного гуляния находил обидчика-силача: подвергнув его чувствительному нравоучению, он грозил удесятерить наказание, если «силач» не перестанет преследовать обижаемого блата или клиента. На некоторое время это помогало. Но часто мстительный «силач» устраивал в отместку за свое посрамление какую-либо пакость своему врагу ночью и т. п. Словом, бороться с этим злом внешними силами часто становилось безнадежным. Иногда гонимые и обираемые, списавшись с родителями, бросали корпус. Были, хотя и редко, случаи самоубийства с отчаяния или покушения на самоубийства. «Силача» можно было смирить или силою собственной, или уплатой ему «дани», т. е. подачки булками, ситниками, котлетами во время обеда, сладостями или деньгами. Организованная группа «силачей» совершенно определенно накладывала на отъезжающих домой на праздники известную дань съестными продуктами, что в точности исполнялось даже самими родителями воспитанников, лишь бы это могло защитить от обид и огорчений.
Начальство корпуса в эту внутреннюю жизнь воспитанников почти совершенно не вмешивалось: лишь очень крупные скандалы и драки иногда обнаруживали все некрасивые стороны данного быта. Но ради общего и внешнего благополучия начальство вглубь не простиралось в своих расследованиях, ограничиваясь наказанием двух-трех лиц, ярко проявивших свою отрицательную деятельность. Среди «силачей» развивалась еще одна сторона деятельности, тоже крайне непривлекательная: из их среды выходили торговцы и ростовщики, торговавшие съестными продуктами, добытыми всякими способами; цены на продаваемые ими продукты, увеличивались на 300 % и более, против нормальной[цены]. Например], за утреннюю полубулочку брали две полубулочки и один ситник, за ситник – два ситника, за котлету – три котлеты и т. п. Неуплата своевременно влекла за собою пеню в одну булку или ситник. Неотдача долга влекла отдачу какой-либо ценной вещи, стоившей уже рубли. Наконец, безнадежного должника избивали так, что приходилось иногда избитого отправлять в лазарет. Самое избиение производилось ночью, с покрыванием головы одеялом и нанятыми исполнителями, часто из сильно задолжавших клиентов торговца-кулака. Вот таким силачом-торговцем и был казачок Медведев 3
, уже два года просидевший в I классе и с трудом переваливший во II класс.
Во всем нашем возрасте таких торговцев насчитывалось человек пять; из них наихудшими были казаки Сотченко и Медведев 3
, они же и «силачи»-руководители всей группы. В нашем «возрасте» насчитывалось около 150 человек, из них два отделения I класса и два второго класса. Всего в корпусе числилось по списку свыше 600 воспитанников в шести классах, которые делились в свою очередь на отделения от 30 до 45 человек. Впоследствии я узнавал и называл по фамилиям неточно каждого из 600 совоспитанников, но всех своих товарищей по «возрасту» знал по походке: не видя их, безошибочно называл по фамилиям каждого, если только слышал стук его сапог. Это было явлением нормальным для нас всех, при нашей совместной жизни.
Владимир Георгиевич фон Бооль
Время наше в каждом дне было строго и точно распределено по часам и минутам. Во главе учебного дела стоял ученый артиллерист и автор известного учебника физики (полковник арт[иллерии] Бооль[24 - Владимир Георгиевич фон Бооль (1836–1899) – генерал-майор, российский выдающийся военный педагог конца XIX века, публицист, писатель, автор ряда военно-исторических трудов. Составил ряд учебников по физике, математике и географии. Его статьи помещались, начиная с 1865 года, в «Учителе», «Педагогическом сборнике», «Народной школе», «Художественном сборнике», «Киевлянине» и других печатных изданиях.]). Расписание занятий составлялось по новой системе и увеличенной учебной программе.
Всего занятия длились с 8 ч. утра до 4 ч. дня; большая перемена в течение ? часа; малая – по 10 минут; рабочий час – 45–50 минут. В классах время даром не теряли. Если не прибыл почему-либо преподаватель, его замещал воспитатель, указывая, чем классу заниматься. Учебные уроки прерывались уроками гимнастики, фронта, танцев и пения. В общем, расписание составлялось заботливо. Гораздо тяжелее давалось приготовление уроков вечером от 6 до 8 часов в классах под наблюдением воспитателей. Эти два часа, без перемены и после утомления в течение дня, были тягостны. Кроме того, учить уроки надо было, сидя на своем месте за партой, при общем шуме и разговорах товарищей, а к этому не сразу можно было привыкнуть.
На следующий день учитель по своему предмету вызывал по книжечке по крайней мере 20 % учеников, ставя отметки; затем продолжал сам после того объяснять предмет преподавания дальше, задавая перед концом по учебнику следующий урок. Отметки ставились по 12-балльной системе. За несколько неудовлетворительных отметок в течение недели, особенно «нулей», «единиц» и «двоек», следовало строгое наказание лентяям, даже до порки розгами.
Учить уроки поэтому было необходимо. Кроме того, год делился на четверти, а в каждой четверти в конце были вакации по пройденной части предмета, причем спрашивал преподаватель всех и выставлял всем четвертные отметки.
Строго говоря, при добросовестном отношении к своему делу все время дня было заполнено; я с трудом первые недели мог справляться так, чтобы не навлечь на себя наказание или неудовольствие как начальства, так и товарищей. В классе, когда учитель спрашивает, особенно какого-либо головотяпа-силача, более серьезные старались ему подсказать, иначе грозила потом расправа. Успешное учение создавало некоторую репутацию способному ученику, но она не гарантировала его от физической обиды «силача», если ему вовремя не подана была подсказками помощь.
Так проходили обыкновенные дни недели. В субботу в 6 ч. вечера все, кроме уволенных в отпуск в город к родным, отправлялись в церковь, находившуюся во II этаже внутри главного корпуса здания. Церковь представляла огромный паркетный в два света зал с особым алтарем. Сюда свободно входило в большие праздники до тысячи душ молящихся. Пел хор своих же кадет под управлением учителя пения (И.Г. Солуха).
По возвращении из церкви и после вечернего чая все выстраивались в «возрастах» в рекреационном зале, куда являлось и все начальство «возраста». Здесь прочитывались недельные отметки за учение с «нулями», «единицами» и «двойками», записи в штрафные журналы особых проступков в классе. Неисправимые лентяи и рецидивисты-проказники вызывались перед фронт[ом] и подвергались публичной порке или отводились в карцер на «хлеб и воду» на указанный срок.
На воспитанников слабонервных, привыкших к мягкому домашнему уходу и ласке, эти расправы производили потрясающее впечатление. Помню первое наказание вновь поступившего со мною сверстника (Пирожкова) за разбитие в двойной раме стекла – результат неумеренной возни с товарищами и ослушания дежурного воспитателя, приказавшего прекратить эту возню, – он был присужден к розгам. Пирожкова положили на скамью, но после первых же ударов розгами наказанный от пережитого волнения сильно и жидко испражнился на себя и скамью, что вынудило начальство прекратить наказание, вызвав хохот среди стоящих во фронте товарищей. Но не для всех так скоро прекращалась расправа.
Вдохновителем такой меры наказания являлся прежде всего грозный директор г[енерал]-м[айор] Кузьмин-Караваев. Мы его видели редко, мельком, но всегда его появление сопровождалось наказанием кого-либо из подвернувшихся воспитанников. Он считал, что лишь такой устрашающий системой наказаний можно с успехом управлять вверенной ему массой детей. Сам он был женат, имел 6 дочерей разного возраста, был очень заботливый глава своей семьи, устраивая для нее всевозможные удобства и развлечения за счет корпуса, но, как потом оказалось, держал сторону вора-эконома, верил ему во всем и лично не входил в интересы своих питомцев, считая это мелочью ниже своего директорского достоинства.
Всем воспитанникам говорил «ты», обращался с ними всегда строго, резко и грубо, беспощадно назначал наказания за малейшие проступки в зависимости от своего настроения. Ходил он в сапогах на резиновых подошвах, являясь неожиданно там, где его не ждали, часто по доносу своих разведчиков из служителей корпуса. Карты, водка и самовольные отлучки в старших классах считались преступлениями, для изжития которых он не щадил берез кадетской рощи и тела виновных.
При этом директоре я пробыл два года, и общее впечатление у меня о нем сохранилось отрицательное. Небольшого роста, толстый, румяный, подвижный, с ястребиным носом и какими-то мутными навыкат глазами, он к себе не располагал, даже когда молчал, но когда начинал кричать, площадной бранью ругаться и топать ногами, визгливым голосом грозить провинившемуся кадету «запороть его насмерть», вызывал к себе просто отвращение. Все знали, что он ведет дела хозяйственные негодно, за счет желудка кадет.
Мы, учащиеся, при нем всегда были голодны. Уходя из столовой после обеда, мы старались набить карманы кусками черного хлеба «с лотка» и принимались его есть по возвращении в свой «возраст» или на гулянии. Это вечное недоедание было для нас, подрастающих и очень много двигающихся, сущим мучением. Счастливы были те, у кого от родных получались и припасы, и деньги. Но главная масса – это были дети семей бедных, сдавших в казну своих ребят и считавших поэтому всякую заботу о них лишней.
Это привело к ростовщичеству и торгашеству неимущих, но физически сильных дончаков и кавказцев и тяжкому положению бедной и голодающей главной массы всех воспитанников каждого «возраста». «Голод – не тетка», «сам себя не накормишь – никто не подаст», «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет», а к этим поговоркам голодающие кадеты добавляли еще «не украдешь – не проживешь», и вот мгновенно снаряжалась из старших классов отчаянная экспедиция: с места гулянья, незаметно скрывшись от глаз дежурного воспитателя, отправлялась экспедиция к «кацапам», т. е. выходцам из Владимирской губернии, занимающимся огородничеством.
Кадетское начальство (директор) сдавало этим огородникам очень выгодно для него большие участки кадетской рощи (полянки) под всякие овощи. Осенью, когда все овощи поспевали, там можно было набрать картофеля, кочерыжки капусты, подсолнечников, наломать кочанов кукурузы. За этим и отправлялись экспедиции, в огромном большинстве случаев с удачными результатами. Картофель и кукуруза потом варились служителями у них на квартире и доставлялись кадетам.
Другие выдумщики устраивали нечто похожее на удочки, т. е. длинные палки с увязанными на конце большими заостренными гвоздями. Эта партия старших наших товарищей являлась на наше место гуляния, так как на наш плац выходили окна хлебного цейхгауза. Через решетчатую форточку такая удочка направлялась внутрь, нанизывали пару булок и подтаскивали их к форточке, где сотоварищ по экспедиции уже рукой снимал через форточку булки. Мы в это время держались в отдалении, чтобы не мешать добытчикам, иначе можно было сильно пострадать за то, что помешали в их работе. Иногда добытчики ловились, и расправа с ними была беспощадна. Но это нисколько не устрашало «голодающих», которые изыскивали новые способы добычи запасов корпусного эконома.
Однако хранение, да, вероятно, и недобросовестная закупка продуктов экономом, сказывались на их качестве. Одну неделю мы каждый день получали гречневую кашу, то как приправу ко второму блюду, то самостоятельно, с хорошо прожаренным светлым салом («шкварками»). Первые дни мы ее ели, хотя нам претил какой-то привкус в ней, но дальнейшая партия крупы настолько разила крысиным пометом и[прогорклостью, что мы перестали есть и заявили через выборных претензию эконому. Он наших выборных изругал и объявил, что доложит о нашем поведении директору, так как он исполняет лишь директорское распоряжение. Возмутились прежде всего старшие классы, откуда были посланы агитаторы во все возрасты: «Каши не есть, а когда ее подадут, из всех баков вывалить ее на пол около столов в одну кучу, против каждого стола».
Каша была в этот день дана самостоятельно, вторым блюдом. Качество было прежнее, т. е. неудовлетворительное. По какому-то условному сигналу сразу все поднялись со своих мест, и кашу выбросили на пол… Дежурные воспитатели закричали, восстанавливая порядок; на это раздался крик и визг: «Гнилая каша!», – повторяемый сотнями голосов. Эконом побежал за директором.
К его приходу водворилось полное молчание. Ему пришлось идти по грудам каши, скверный запах которой был лучшим докладчиком о причине мятежа и тяжкого нарушения дисциплины. Он свирепо всех нас обводил глазами и грозно потребовал выдать зачинщиков. На это все отвечали молчанием. Тогда он приказал выпороть по списку всех замеченных в возрастах в неисправимо дурном поведении. Но каша больше в нашем обеденном меню не появлялась. Эконом накляузничал на посылку к нему депутатов и кое на кого указал лично. Таким бедняжкам досталось сильно. Все же директор и эконом стали осторожнее и внимательнее. Кое-кто из кадет после порки были и исключены за этот мятеж.
Но для репутации директора это дело оказалось неблагоприятным. Родители некоторых воспитанников, влиятельные в высших сферах, обратили внимание кого следует на хозяйственные дела корпуса, и из Петербурга нежданно приехал ревизор, в руках которого оказался неприятный для директора материал. Год еще директор у нас пробыл, а затем неожиданно был уволен. Но вернемся пока к его еще владычеству.
На меня мятеж, вызванный «гнилой кашей», произвел большое впечатление. Как и в классической гимназии, я понял, что мы, 600 с лишним душ, составляли живой организм, имеющий свою волю, которая проявляется в какие-то трудные для этого организма минуты жизни совсем помимо установленной начальством организации. И власть официальная с этой внутренней силой вынуждена считаться…
День за днем, неделя за неделей потянулись однообразно, по установленному трафарету для нашей жизни. Они были так однообразны, а время так урегулировано, что лишь праздниками мерил я текущее время.
Так промелькнула первая четверть. В классе я занимался усердно, учение давалось мне легко, и моя репутация установилась и в глазах преподавателей и товарищей довольно приличная. В конце первой четверти были репетиции, а в общем, все для меня сложилось по-хорошему. Я написал домой мое первое письмо с приложением четвертных отметок по всем предметам и мнения моего воспитателя. По правилам корпуса, мы могли писать письма домой только с разрешения воспитателя и его цензурой. Первые месяцы я ничего утешительного родителям написать не мог, а жаловаться на свое житье в корпусе было бы нелегко, да и воспитатель бы не пропустил такого письма.
С братом мы виделись довольно часто, но я знал, что он ничего не предпримет для улучшения моего положения. От него я слышал только строгие резонерские советы, как себя держать. В свою же личную жизнь он меня не вводил, хотя я знал, что у него есть друзья – семьи, где он часто бывает по праздникам. С товарищами я держался довольно ровно, не входя ни с кем в особенно тесную дружбу.