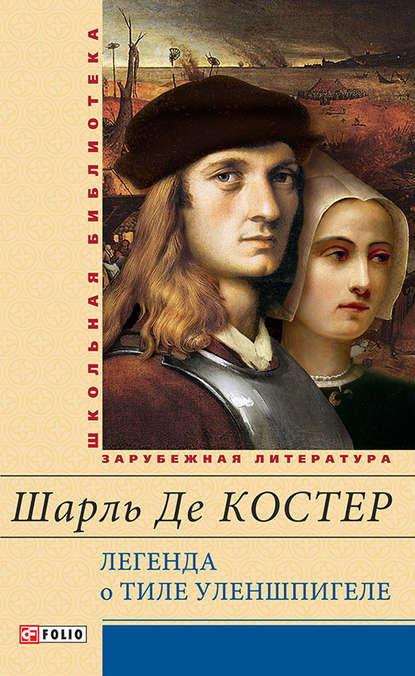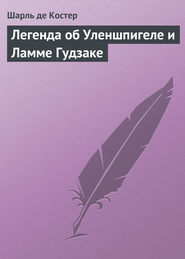По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
Шарль де Костер
Шарль Де Костер (1827–1879) – бельгийский писатель, выступавший за право фламандского народа на самоуправление. «Народ умирает, если он не знает своего прошлого», – утверждал он и воссоздал такое героическое прошлое в книге-эпопее «Легенде о Тиле Уленшпигеле». После смерти писателя эта книга была признана «национальной Библией», а сам автор – основателем франко-бельгийской литературы.
Во Фландрии в семье угольщика Клааса родился сын, Тиль Уленшпигель. Он пришел в мир, где гремят страшные войны, царит религиозная нетерпимость, а на площадях один за другим загораются костры и топливом для них служат люди. Но разве можно победить человеческий дух алчностью и жестокостью? Вот и Тиль Уленшпигель – весельчак, озорник и менестрель – окажется не по зубам королям, церковникам, доносчикам и просто мелким злодеям. Это книга о человеческом духе – Тиле, народной душе – Неле, верности и доброте – Ламме, которых не сломить страшными испытаниями, о вечном торжестве жизни и любви.
Шарль де Костер
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
© Издательство «Фолио», 2010
* * *
Об эпосе одного братского нам народа
В мировой литературе есть книги, которые по своей художественной мощи, по самому своему значению приравниваются к целым библиотекам. А порой даже превосходят их…
Именно такой книгой является и «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» бельгийского писателя Шарля Де Костера, появившаяся в 1867 году, а задуманная примерно лет на десять раньше. Уже в 1856 году молодой Де Костер, начинающий поэт и критик-дилетант, основал с ещё более молодым художником Фелисьеном Ропсом еженедельник «Уленшпигель» – довольно радикальное по своему направлению издание, посвящённое текущей злободневной бельгийской тематике, названное в честь Тиля Эйленшпигеля (Уленшпигеля), героя старинной немецкой (собственно нижненемецкой) народной книги, мудрого весельчака, гроссмейстера жанра.
По «Легенде» Де Костера, Тиль Уленшпигель родился одновременно с его угрюмым антагонистом, испанским королём-деспотом Филиппом II. Стало быть, в 1527 году, через десяток с лишним лет после того, как появилась эта «нижненемецкая» книга о Тиле Эйленшпигеле (1515 год). Книга, которая как бы обобщила уже многосотлетний фольклорный образ того весельчака.
…Мы настолько привыкли к предельной серьёзности немецкой культуры Нового времени, что как-то забываем: средневековая-то немецкая культура, а особенно культура «нижненемецкая», «нидерландская», обычаи тамошнего села, а особенно города – это прежде всего стихия смеха, веселья. Весёлой компрометации всего того недоброго, что нависало над тогдашним человеком.
Тиль Эйленшпигель – фольклорное, бесконечно живое олицетворение того смеха, с помощью которого народ (по-крайней мере «нижненемецкий») сопротивлялся бесчисленным бедам, сваливавшимся на его плечи.
И вот на этом герое и остановилась писательская зеница позднейшего времени приблизительно посредине теперь уже позапрошлого столетия. При этом Шарль Де Костер и хронологически, и, так сказать, национально-географически «уточнил» биографию своего героя.
…Итак, родился он во Фландрии, в одной из многочисленных нидерландских провинций, принадлежавших тогда монарху, над владениями которого, по тогдашнему выражению, никогда не заходит солнце, испанскому королю Карлу I, позднее ставшему императором Священной Римской империи Карлом V. Карл родился в Нидерландах, в Генте, что, в конце концов, не помешало ему на своей якобы «родине» установить крайне деспотический режим. А «родной» город, отказавшийся как-то платить чрезмерные налоги, Карл вообще подверг самым жесточайшим репрессиям. Однако ещё большие несчастья Нидерландов, фактически превращённых испанской короной в колонию, были впереди, когда Карл передал управление ими своему сыну Филиппу, доведшему деспотизм отца до поистине параноидальной тирании…
Герой «Легенды» Тиль Уленшпигель, родившийся одновременно с её антигероем-королём Филиппом II, бросает вызов этому деспотизму, этой тирании главным своим оружием – смехом. И собственно оружием.
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» – невиданного объёма и силы художественно-романный пейзаж нидерландской национальной революции против мировой монархии, главным орудием которой стал пиренейский, крайне агрессивный католический фанатизм. Пейзаж, созданный Де Костером, разительно не похож на предшествующий европейский исторический роман «вальтерскоттовского» типа с его уклоном в хронологическую, археологическую и даже антикварную точность. А ещё более не похож на квазиисторический роман Дюма-отца, роман шпаги и интриги.
«Легенда» – это что-то совсем другое. И для понимания её глубинного смысла необходимо напомнить именно о времени её появления. И, соответственно, о некоторых – основополагающих – приметах того европейского времени.
Так вот, Шарль Де Костер начал работу над своим романом словно «посредине» теперь уже позапрошлого столетия. Столетия, наиболее отличительной чертой которого было национально-историческое, так сказать, обустройство решительно всех народов континента. Во множестве, в неимоверной пестроте форм и «жанров» этого обустройства: от государственно-политического до литературного и языкового, и вообще национально-культурного.
…Европа когда-то, среди прочего, начиналась с Великого переселения народов. А тысячелетием позднее после этого, приблизительно с Французской революции, этой исторической «внучки» революции нидерландской, бурные стихии которой и воскресили роман Де Костера, предстаёт уже время большого обустройства, окончательного исторического укоренения европейских народов, которые на протяжении всего девятнадцатого столетия упрямо ищут средства этого укоренения и с разной мерой успеха-неуспеха стараются выстроить дом своего собственного бытия. Свою собственную судьбу.
Это великое всеевропейское народостроительство от Пиренеев до Киева… Именно в разнообразии способов, «стилей» и особенностей этого строительства, его политической, интеллектуальной, художественной или какой-то другой архитектуры.
Это могла быть и грандиозная революция (скажем, польская, а затем венгерская). И созидание систематизированного, «словарного» ландшафта родного языка. Или историографически систематизированного национального прошлого…
Кипы такой же публицистики, монбланы доктрин и концепций, направленных к национальному сознанию. Зрелому. Жаждущему этой зрелости. Или ещё в зародышевом состоянии.
И всё это – на всех европейских широтах. Континентальный процесс предстает где-то явственно, резко, выпукло, а где-то – бурлит, тормозится, даже приостанавливается. Или, по крайней мере, «минимизируется» (как это на нашу беду произошло в тогдашней подроссийской Украине…)
Тем не менее, это процесс – именно всеевропейский, охватывающий чуть ли не всю тамошнюю событийность, становится ведущим содержанием тогдашней культуры и вообще истории.
Стало быть, кто-то должен был создать литературно-романное обобщение этого содержания, представить его колоссальное художественное резюме. Что и сделал Шарль Де Костер в своей «Легенде». Этой песни песней этого народостановления и народосохранения…
«Провинциальный журналист, – позднее восторженно писал Ромен Роллан, – неожиданно для всей Европы создал эпос, равный “Дон Кихоту”».
Что ж до эпитета «провинциальный», употреблённый выдающимся французским писателем, «бургундская» повесть которого «Кола Брюньон» предстаёт очевидным наследованием «фламандской» «Легенды», то с ним, этим эпитетом, стоило бы поспорить.
Но к нему-то и стоит прислушиваться.
«Провинция, – бросил когда-то наш земляк киевлянин Николай Бердяев, – это то, что далеко от Бога. Киев – в административном контексте – был в те времена действительно провинцией. Но святыни на его холмах и в его пещерах придавали ему содержание, очевидно, далёкое от провинциальности…»
В общем-то, по-латински слово «провинция» обозначает, среди прочего, «важное значение» или «предназначение».
«Легенда» Де Костера и в биографии автора, и в географии самого романа – это «провинциальность» именно такого важного значения и предназначения.
Итак, Бельгия. Страна удивительной исторической судьбы. Страна, которой соседи (да и не только они) как будто рассчитывались друг с другом в своих геополитических, военно-стратегических и других подобных расчётах… И нередко даже грубо…
Может быть, это и превратило эту страну-миниатюру в своего рода европейскую повивальную бабку упомянутого всеевропейского суверенного народонарождения?
Удивительным образом мы как-то подзабыли именно такую роль Бельгии в великом историческом времени…
Биография самого Де Костера – это, похоже, решительное производное от двух фундаментальных событий бельгийской истории, которые наиболее явственно выражают её общий характер.
Он родился в 1827 году. И достаточно далеко от Бельгии, в Мюнхене, где его отец, фламандец по происхождению, был кем-то наподобие кастеляна у тамошнего папского нунция. То есть будущий памфлетист позднесредневекового католицизма родился, так сказать, рядом с резиденцией папского посла в ультракатолической баварской столице…
Но не только это.
Два крупных события в истории маленькой страны, ставшей впоследствии родиной автора «Легенды». События, несомненно определившие его судьбу, включая писательскую. Одно событие имело место весьма задолго до его рождения, другое – вскоре после.
…Не лишним будет вспомнить, что в восемнадцатом веке Южные Нидерланды, собственно Бельгия и… Западная Украина вошли в состав одного и того же государственно-политического образования. В состав венской империи, в протяжённое государство Габсбургов. Поэтому, чуть ли не синхронно с Французской революцией, главным паролем которой стало слово «нация», Бельгия восстала против тяжкой длани габсбургской бюрократии и провозгласила себя полностью независимыми «Соединёнными Штатами Бельгии».
Уже на следующий, 1791-й, Вене – понятно, с принудительной «помощью» галицких рекрутов, – удалось восстановить предыдущий статус-кво. Однако, как сказал один поэт, слово было найдено.
Весть по всей Европе: маленькая будто бы усмирённая и будто бы «провинция» решилась бросить национально-патриотическую перчатку могучей тогда ещё империи! И пусть на часок своей уже истории – победила.
Первый подвиг бельгийского патриотизма, наверняка с отрочества запомнившийся Де Костеру.
Второй, после падения Наполеона, перед этим усмирявшего Австрию – и соответственно усмирившего Бельгию, – последнюю, чтобы «наказать» Францию, антинаполеоновская коалиция «отдаёт» Голландии, дав ей в режиме бесстыдного феодального международного «права» что-то вроде взятки – за её участие в этой самой коалиции.
Вообще же фламандское большинство Бельгии этнически и языково было будто бы близко «братской» Голландии. Но куда там, теперь уже голландская бюрократия вела себя по отношению к новоприсоединённой «провинции» так, что героика 1789 года здесь повторилась. И ещё в более патетической тональности, и мало того, даже романтически-оперной. В прямом значении слова.
…В августе 1830 года в Брюсселе исполнялась знаменитая опера «Фенелла, или Нима из Портичи» о восстании итальянцев в Неаполе против испанского господства. И в продолжение бурных оваций после этого спектакля брюссельцы бросились на штурм редакций реакционных газет и канцелярий начальника политической полиции и министра «юстиции». После этого – баррикады, ожесточённые бои с голландскими карательными войсками на этих баррикадах и в поле.
Зеница всей либеральной и радикальной Европы останавливается на тогдашней бельгийской патетике. Французские и испанские волонтёры сражаются на этих баррикадах. Словом, так называемые «великие державы» уже не решились устранить вновь завоёванную Бельгией независимость, которая теперь становится убедительным фактом всей дальнейшей Европы… Исключением стала только петербургско-романовская политика: Николай I начинает военную подготовку к интервенции. При этом он «неосторожно» объявил, что в ней будут принимать участие военные соединения сателлитной тогда Польши. И те, необычайно возмущённые стратегическими планами Николая, восстали против него. Польская революция, следовательно, как вполне определённое производное от революции бельгийской. А там уже недалеко и до 1848 года, этой «весны народов», совпадающей с весной биографии самого Де Костера.
Вот такой непосредственный исторический «пролог», романтико-революционный этюд к «Легенде об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»: на маленьком бельгийском участке европейской ойкумены бурлили те же страсти, которые, по своему раскалённому веществу, составляли первооснову всей тогдашней континентальной истории. Европейское человечество обосновывалось в своих «национальных квартирах», и в Бельгии этот процесс приобретал наиболее очевидный, прямо уж притчевый характер.
А между тем «провинциальный журналист», из необходимости, по самой своей специальности, погружённый в несущееся, аж до пестроты национально-событийное разнообразие, у истоков которого стояли те недавние события, приступая к своему эпосу, вместе с тем хронологически почему-то отступил от них. Аж в шестнадцатое столетие.
Дело в том, что европейская национально-патриотическая патетика столетия девятнадцатого обладала одной весьма драматической чертой-тенденцией, которую можно было бы назвать «энтропией» (то есть неизбежным убыванием) этой патетики. Эта патетика имела во всех своих проявлениях, во всех странах, как будто бы своё «утро», радостное и обнадёживающее, а далее – именно неизбежное температурное снижение, так сказать, вечернее, и даже более того – «похолодание».
Шарль де Костер
Шарль Де Костер (1827–1879) – бельгийский писатель, выступавший за право фламандского народа на самоуправление. «Народ умирает, если он не знает своего прошлого», – утверждал он и воссоздал такое героическое прошлое в книге-эпопее «Легенде о Тиле Уленшпигеле». После смерти писателя эта книга была признана «национальной Библией», а сам автор – основателем франко-бельгийской литературы.
Во Фландрии в семье угольщика Клааса родился сын, Тиль Уленшпигель. Он пришел в мир, где гремят страшные войны, царит религиозная нетерпимость, а на площадях один за другим загораются костры и топливом для них служат люди. Но разве можно победить человеческий дух алчностью и жестокостью? Вот и Тиль Уленшпигель – весельчак, озорник и менестрель – окажется не по зубам королям, церковникам, доносчикам и просто мелким злодеям. Это книга о человеческом духе – Тиле, народной душе – Неле, верности и доброте – Ламме, которых не сломить страшными испытаниями, о вечном торжестве жизни и любви.
Шарль де Костер
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
© Издательство «Фолио», 2010
* * *
Об эпосе одного братского нам народа
В мировой литературе есть книги, которые по своей художественной мощи, по самому своему значению приравниваются к целым библиотекам. А порой даже превосходят их…
Именно такой книгой является и «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» бельгийского писателя Шарля Де Костера, появившаяся в 1867 году, а задуманная примерно лет на десять раньше. Уже в 1856 году молодой Де Костер, начинающий поэт и критик-дилетант, основал с ещё более молодым художником Фелисьеном Ропсом еженедельник «Уленшпигель» – довольно радикальное по своему направлению издание, посвящённое текущей злободневной бельгийской тематике, названное в честь Тиля Эйленшпигеля (Уленшпигеля), героя старинной немецкой (собственно нижненемецкой) народной книги, мудрого весельчака, гроссмейстера жанра.
По «Легенде» Де Костера, Тиль Уленшпигель родился одновременно с его угрюмым антагонистом, испанским королём-деспотом Филиппом II. Стало быть, в 1527 году, через десяток с лишним лет после того, как появилась эта «нижненемецкая» книга о Тиле Эйленшпигеле (1515 год). Книга, которая как бы обобщила уже многосотлетний фольклорный образ того весельчака.
…Мы настолько привыкли к предельной серьёзности немецкой культуры Нового времени, что как-то забываем: средневековая-то немецкая культура, а особенно культура «нижненемецкая», «нидерландская», обычаи тамошнего села, а особенно города – это прежде всего стихия смеха, веселья. Весёлой компрометации всего того недоброго, что нависало над тогдашним человеком.
Тиль Эйленшпигель – фольклорное, бесконечно живое олицетворение того смеха, с помощью которого народ (по-крайней мере «нижненемецкий») сопротивлялся бесчисленным бедам, сваливавшимся на его плечи.
И вот на этом герое и остановилась писательская зеница позднейшего времени приблизительно посредине теперь уже позапрошлого столетия. При этом Шарль Де Костер и хронологически, и, так сказать, национально-географически «уточнил» биографию своего героя.
…Итак, родился он во Фландрии, в одной из многочисленных нидерландских провинций, принадлежавших тогда монарху, над владениями которого, по тогдашнему выражению, никогда не заходит солнце, испанскому королю Карлу I, позднее ставшему императором Священной Римской империи Карлом V. Карл родился в Нидерландах, в Генте, что, в конце концов, не помешало ему на своей якобы «родине» установить крайне деспотический режим. А «родной» город, отказавшийся как-то платить чрезмерные налоги, Карл вообще подверг самым жесточайшим репрессиям. Однако ещё большие несчастья Нидерландов, фактически превращённых испанской короной в колонию, были впереди, когда Карл передал управление ими своему сыну Филиппу, доведшему деспотизм отца до поистине параноидальной тирании…
Герой «Легенды» Тиль Уленшпигель, родившийся одновременно с её антигероем-королём Филиппом II, бросает вызов этому деспотизму, этой тирании главным своим оружием – смехом. И собственно оружием.
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» – невиданного объёма и силы художественно-романный пейзаж нидерландской национальной революции против мировой монархии, главным орудием которой стал пиренейский, крайне агрессивный католический фанатизм. Пейзаж, созданный Де Костером, разительно не похож на предшествующий европейский исторический роман «вальтерскоттовского» типа с его уклоном в хронологическую, археологическую и даже антикварную точность. А ещё более не похож на квазиисторический роман Дюма-отца, роман шпаги и интриги.
«Легенда» – это что-то совсем другое. И для понимания её глубинного смысла необходимо напомнить именно о времени её появления. И, соответственно, о некоторых – основополагающих – приметах того европейского времени.
Так вот, Шарль Де Костер начал работу над своим романом словно «посредине» теперь уже позапрошлого столетия. Столетия, наиболее отличительной чертой которого было национально-историческое, так сказать, обустройство решительно всех народов континента. Во множестве, в неимоверной пестроте форм и «жанров» этого обустройства: от государственно-политического до литературного и языкового, и вообще национально-культурного.
…Европа когда-то, среди прочего, начиналась с Великого переселения народов. А тысячелетием позднее после этого, приблизительно с Французской революции, этой исторической «внучки» революции нидерландской, бурные стихии которой и воскресили роман Де Костера, предстаёт уже время большого обустройства, окончательного исторического укоренения европейских народов, которые на протяжении всего девятнадцатого столетия упрямо ищут средства этого укоренения и с разной мерой успеха-неуспеха стараются выстроить дом своего собственного бытия. Свою собственную судьбу.
Это великое всеевропейское народостроительство от Пиренеев до Киева… Именно в разнообразии способов, «стилей» и особенностей этого строительства, его политической, интеллектуальной, художественной или какой-то другой архитектуры.
Это могла быть и грандиозная революция (скажем, польская, а затем венгерская). И созидание систематизированного, «словарного» ландшафта родного языка. Или историографически систематизированного национального прошлого…
Кипы такой же публицистики, монбланы доктрин и концепций, направленных к национальному сознанию. Зрелому. Жаждущему этой зрелости. Или ещё в зародышевом состоянии.
И всё это – на всех европейских широтах. Континентальный процесс предстает где-то явственно, резко, выпукло, а где-то – бурлит, тормозится, даже приостанавливается. Или, по крайней мере, «минимизируется» (как это на нашу беду произошло в тогдашней подроссийской Украине…)
Тем не менее, это процесс – именно всеевропейский, охватывающий чуть ли не всю тамошнюю событийность, становится ведущим содержанием тогдашней культуры и вообще истории.
Стало быть, кто-то должен был создать литературно-романное обобщение этого содержания, представить его колоссальное художественное резюме. Что и сделал Шарль Де Костер в своей «Легенде». Этой песни песней этого народостановления и народосохранения…
«Провинциальный журналист, – позднее восторженно писал Ромен Роллан, – неожиданно для всей Европы создал эпос, равный “Дон Кихоту”».
Что ж до эпитета «провинциальный», употреблённый выдающимся французским писателем, «бургундская» повесть которого «Кола Брюньон» предстаёт очевидным наследованием «фламандской» «Легенды», то с ним, этим эпитетом, стоило бы поспорить.
Но к нему-то и стоит прислушиваться.
«Провинция, – бросил когда-то наш земляк киевлянин Николай Бердяев, – это то, что далеко от Бога. Киев – в административном контексте – был в те времена действительно провинцией. Но святыни на его холмах и в его пещерах придавали ему содержание, очевидно, далёкое от провинциальности…»
В общем-то, по-латински слово «провинция» обозначает, среди прочего, «важное значение» или «предназначение».
«Легенда» Де Костера и в биографии автора, и в географии самого романа – это «провинциальность» именно такого важного значения и предназначения.
Итак, Бельгия. Страна удивительной исторической судьбы. Страна, которой соседи (да и не только они) как будто рассчитывались друг с другом в своих геополитических, военно-стратегических и других подобных расчётах… И нередко даже грубо…
Может быть, это и превратило эту страну-миниатюру в своего рода европейскую повивальную бабку упомянутого всеевропейского суверенного народонарождения?
Удивительным образом мы как-то подзабыли именно такую роль Бельгии в великом историческом времени…
Биография самого Де Костера – это, похоже, решительное производное от двух фундаментальных событий бельгийской истории, которые наиболее явственно выражают её общий характер.
Он родился в 1827 году. И достаточно далеко от Бельгии, в Мюнхене, где его отец, фламандец по происхождению, был кем-то наподобие кастеляна у тамошнего папского нунция. То есть будущий памфлетист позднесредневекового католицизма родился, так сказать, рядом с резиденцией папского посла в ультракатолической баварской столице…
Но не только это.
Два крупных события в истории маленькой страны, ставшей впоследствии родиной автора «Легенды». События, несомненно определившие его судьбу, включая писательскую. Одно событие имело место весьма задолго до его рождения, другое – вскоре после.
…Не лишним будет вспомнить, что в восемнадцатом веке Южные Нидерланды, собственно Бельгия и… Западная Украина вошли в состав одного и того же государственно-политического образования. В состав венской империи, в протяжённое государство Габсбургов. Поэтому, чуть ли не синхронно с Французской революцией, главным паролем которой стало слово «нация», Бельгия восстала против тяжкой длани габсбургской бюрократии и провозгласила себя полностью независимыми «Соединёнными Штатами Бельгии».
Уже на следующий, 1791-й, Вене – понятно, с принудительной «помощью» галицких рекрутов, – удалось восстановить предыдущий статус-кво. Однако, как сказал один поэт, слово было найдено.
Весть по всей Европе: маленькая будто бы усмирённая и будто бы «провинция» решилась бросить национально-патриотическую перчатку могучей тогда ещё империи! И пусть на часок своей уже истории – победила.
Первый подвиг бельгийского патриотизма, наверняка с отрочества запомнившийся Де Костеру.
Второй, после падения Наполеона, перед этим усмирявшего Австрию – и соответственно усмирившего Бельгию, – последнюю, чтобы «наказать» Францию, антинаполеоновская коалиция «отдаёт» Голландии, дав ей в режиме бесстыдного феодального международного «права» что-то вроде взятки – за её участие в этой самой коалиции.
Вообще же фламандское большинство Бельгии этнически и языково было будто бы близко «братской» Голландии. Но куда там, теперь уже голландская бюрократия вела себя по отношению к новоприсоединённой «провинции» так, что героика 1789 года здесь повторилась. И ещё в более патетической тональности, и мало того, даже романтически-оперной. В прямом значении слова.
…В августе 1830 года в Брюсселе исполнялась знаменитая опера «Фенелла, или Нима из Портичи» о восстании итальянцев в Неаполе против испанского господства. И в продолжение бурных оваций после этого спектакля брюссельцы бросились на штурм редакций реакционных газет и канцелярий начальника политической полиции и министра «юстиции». После этого – баррикады, ожесточённые бои с голландскими карательными войсками на этих баррикадах и в поле.
Зеница всей либеральной и радикальной Европы останавливается на тогдашней бельгийской патетике. Французские и испанские волонтёры сражаются на этих баррикадах. Словом, так называемые «великие державы» уже не решились устранить вновь завоёванную Бельгией независимость, которая теперь становится убедительным фактом всей дальнейшей Европы… Исключением стала только петербургско-романовская политика: Николай I начинает военную подготовку к интервенции. При этом он «неосторожно» объявил, что в ней будут принимать участие военные соединения сателлитной тогда Польши. И те, необычайно возмущённые стратегическими планами Николая, восстали против него. Польская революция, следовательно, как вполне определённое производное от революции бельгийской. А там уже недалеко и до 1848 года, этой «весны народов», совпадающей с весной биографии самого Де Костера.
Вот такой непосредственный исторический «пролог», романтико-революционный этюд к «Легенде об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»: на маленьком бельгийском участке европейской ойкумены бурлили те же страсти, которые, по своему раскалённому веществу, составляли первооснову всей тогдашней континентальной истории. Европейское человечество обосновывалось в своих «национальных квартирах», и в Бельгии этот процесс приобретал наиболее очевидный, прямо уж притчевый характер.
А между тем «провинциальный журналист», из необходимости, по самой своей специальности, погружённый в несущееся, аж до пестроты национально-событийное разнообразие, у истоков которого стояли те недавние события, приступая к своему эпосу, вместе с тем хронологически почему-то отступил от них. Аж в шестнадцатое столетие.
Дело в том, что европейская национально-патриотическая патетика столетия девятнадцатого обладала одной весьма драматической чертой-тенденцией, которую можно было бы назвать «энтропией» (то есть неизбежным убыванием) этой патетики. Эта патетика имела во всех своих проявлениях, во всех странах, как будто бы своё «утро», радостное и обнадёживающее, а далее – именно неизбежное температурное снижение, так сказать, вечернее, и даже более того – «похолодание».