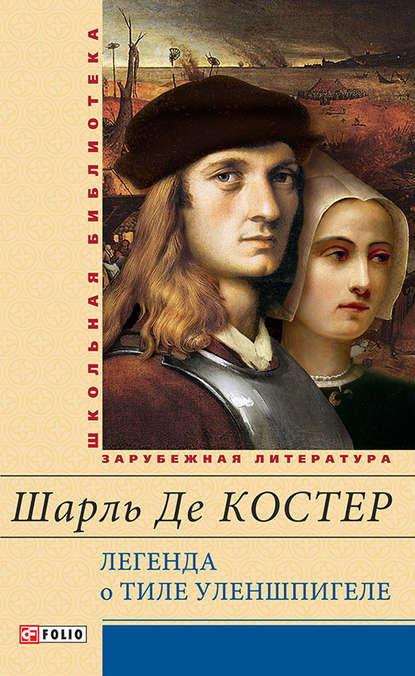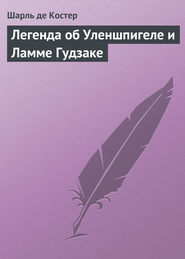По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не пойду! – сказал Уленшпигель.
– Почему?
– Не пойду! – повторил он.
– Чего ты взбесился, петушок сердитый?
– Не пойду! – твердил Уленшпигель.
– А если я заплачу тебе флорин?
– Нет.
– Дукат?
– Нет.
– Червонец?
– Нет, – повторил он. – Хотя, – прибавил он, – на такие вещи я смотрю много охотнее, чем на ракушки в кошеле матери.
Дама засмеялась и вдруг закричала:
– Я потеряла мою дорогую, парчовую сумку, вышитую жемчугом! Ещё в Дамме она висела у меня на поясе.
Уленшпигель не шевельнулся, управляющий же всполошился:
– Сударыня, не посылайте этого проходимца, а то вы никогда не увидите своей сумки.
– Кто же пойдёт за ней? – спросила она.
– Придётся мне не пожалеть своей старости.
И он поспешил обратно.
Полудённая жара была невыносима, кругом было безлюдно. Уленшпигель снял безмолвно свою праздничную куртку и расстелил её в тени ивы, чтобы дама могла сесть, не боясь сырой травы. И он стоял подле неё, вздыхая.
Она взглянула на него и почувствовала жалость к робкому мальчику. Поэтому она спросила его, не устал ли он стоять на своих молодых ногах. Он не сказал ни слова, и когда он стал падать подле неё, она поддержала его, привлекла к своей обнажённой груди, и там он остался с такой радостью, что ей показалось бесчеловечным приказать ему искать себе другое изголовье.
Между тем возвратился управляющий с известием, что нигде не мог найти сумки.
– Да вот она, – ответила дама, – я нашла её, сходя с коня: падая, она зацепилась за стремя. А теперь, – обратилась она к Уленшпигелю, – веди нас прямо в Дюдзееле и скажи мне, как тебя зовут.
– Я ношу имя святого Тильберта, и имя это значит: быстрый в погоне за прекрасными вещами; отца моего зовут Клаас, по прозвищу я Уленшпигель, то есть ваше зеркало. Если вы, ваша милость, взглянете в это зеркало, вы увидите, что во всей Фландрии нет цветка, равного прелестью вашей благоуханной красоте.
Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уленшпигеля.
А Сооткин и Неле проплакали всё время его долгого отсутствия.
XXVII
Вернувшись из Дюдзееле, Уленшпигель при входе в город прежде всего увидел Неле. Прислонившись к стене, она общипывала гроздь чёрного винограда, и ягоды, конечно, освежали и услаждали её, но это удовольствие не проявлялось ни в чём. Наоборот, она, видимо, была не в духе и сердито отрывала одну виноградину за другой. Так явно было её страдание, и на лице её написана была такая забота и печаль, что Уленшпигель, охваченный ласковым состраданием, приблизился к ней сзади и нежно поцеловал её в шею.
Но в ответ он получил яростную оплеуху.
– И всё-таки я ничего не понимаю, – сказал Уленшпигель.
Она залилась слезами.
– Хочешь изобразить фонтан у городской заставы, Неле? – сказал он.
– Убирайся! – вскрикнула она.
– Не могу убраться, пока ты так плачешь, девочка!
– Я не девочка, и я не плачу.
– О нет, ты не плачешь, – только вода льётся из твоих глаз.
– Уйди от меня.
– Не уйду.
И дрожащими руками она теребила мокрый передник, по которому градом катились слёзы.
– Неле, – спросил Уленшпигель, – погода скоро переменится?
И он с нежной улыбкой смотрел на неё.
– Не всё ли тебе равно?
– Значит, не всё равно: в хорошую погоду нет дождя.
– Убирайся к барыне в парче, ей с тобой весело.
На это он запел:
Плачет милая моя –
Рвётся сердце у меня.
Смех у милой – мёда слаще,
Слёзы – жемчуг настоящий.
Я её люблю всегда…
Подавай вина сюда,
Чтобы кружки зазвенели!
Лучшего вина сюда –
Только б улыбнулась Неле…
– Скверный человек, – сказала она, – ты ещё смеёшься надо мной!