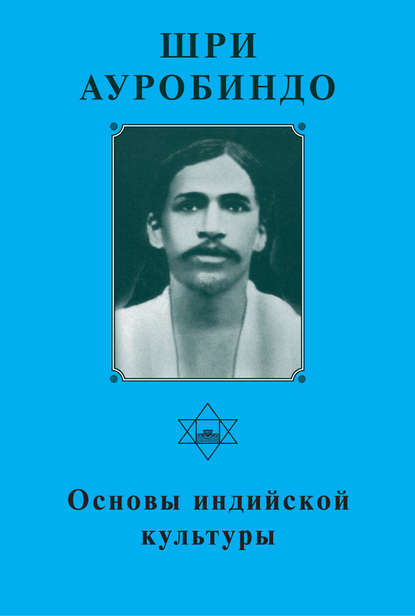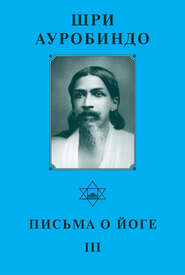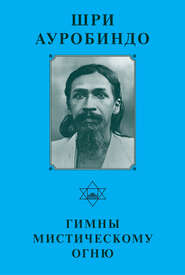По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шри Ауробиндо. Основы индийской культуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не удивительно, что привыкший к этому позитивистский ум отворачивается от способа мышления и познания, построенного на гармонии, на консенсусе, на союзе философии и религии, на систематизированном и хорошо проверенном психологическом опыте. Ему легче уклониться от вызова, брошенного этой чуждой формой познания, он с готовностью отбрасывает индийскую психологию как смешение самовнушений и галлюцинаций, индийскую религию как смешение антирациональных суеверий, индийскую философию как туманную область необоснованного умствования. Однако душевный покой сторонников этого самоуверенного подхода нарушает огорчительное обстоятельство, умаляющее последствия беспрепятственного и всесокрушающего метода арчеровской критики: в последнее время Запад позволил подтолкнуть себя на путь размышлений и открытий, вполне способный привести к опасному оправданию омерзительного индийского варварства и понудить саму Европу принять кажущийся ей столь чудовищным образ мышления. Становится все более очевидно, что индийская философия на свой лад предвосхитила большую часть былых и нынешних достижений метафизической мысли. Выясняется, что даже наука, с противоположной стороны, пришла все к тем же обобщениям, которые так давно были сделаны в Индии. Индийская психология, отвергаемая мистером Арчером заодно с индийской космологией и физиологией, как нечто надуманное и основанное на догадках – что совершенно ошибочно, ибо в основе ее лежал только строгий опыт – находит себе все больше подтверждений в новейших открытиях современной науки. Фундаментальные идеи индийской религии опасно близки к победе и вполне могут занять ведущее место в новом устремлении универсальной религиозной мысли и духовных поисков. Кто может утверждать, что психофизиология индийской йоги не найдет себе подтверждения, если на Западе и дальше продолжатся исследования некоторых «домыслов и догадок»? И возможно, даже индийская космологическая идея о существовании иных планов бытия, помимо легко воспринимаемого чувствами царства Материи, будет реабилитирована в не столь уж отдаленном будущем? Но позитивистскому уму можно не опасаться – он еще далеко не утратил свою власть, он все еще претендует на интеллектуальную ортодоксальность и престиж; множеству потоков еще предстоит слиться воедино, прежде чем могучая волна объединяющей мысли сокрушит его и понесет человечество к тайным берегам Духа.
3
Пока что критика не слишком убедительна, и ее острие – если, помимо нежелания правильно понять, таковое имеется – обращается против самого же критика. Высокая оценка роли философии в исследовании глубочайших тайн бытия, обратила действенную философскую мысль к жизни и призвала мыслителей, людей с огромным духовным опытом, с возвышенным образом мысли, с наибольшими знаниями к руководству обществом; верования и догмы подверглись проверке философской мыслью; религия получила в качестве основы духовную интуицию, философское знание и психологический опыт – все это говорит не о варварстве, не о скудной и невежественной культуре, это признаки высочайшего из возможных типов цивилизации. Нет ничего такого, что заставило бы нас склониться перед идолами позитивистского разума или оценить дух и цели индийской культуры ниже духа и целей западной цивилизации, идет ли речь о высотах ее древнего периода рационального просвещения и умозрительной философии или о современном периоде широкого и детального изучения феноменального мира и мощного развития прикладной науки. Индийская культура другая, но она отнюдь не ниже. Скорее, напротив: в ней можно выделить отчетливый элемент превосходства – уникальную возвышенность мотиваций и духовное благородство исканий.
Подчеркнуть величие духа и целей полезно не только потому, что это чрезвычайно важно вообще и является первейшим критерием ценности культуры, но еще и потому, что противник использует преимущество, почерпнутое из двух внешних факторов, чтобы создать искаженный образ и затемнить суть проблемы. Противники располагают огромным преимуществом: они набрасываются на Индию, когда та лежит поверженная в прах, когда в материальном смысле индийская цивилизация будто бы завершилась крахом. Пользуясь своим временным преимуществом, противники позволяют себе выказывать блистательную отвагу – они бьют копытами в пыль и грязь вокруг измученной львицы, плененной сетями охотников, и пытаются уверить мир, будто она никогда не отличалась силой и благородством. Это легкая задача в наш век благородной культуры Разума, Мамоны и Науки, выполняющей роль Молоха, когда наглый идол великой богини по имени Успех пользуется почетом, какой никогда ранее не оказывали ему культурные люди. У противников есть еще более весомое преимущество – они представляют Индию миру в период упадка ее цивилизации, когда после двух тысячелетий блистательного и многостороннего культурного развития она на время утратила все, кроме памяти прошлого и своего пусть надолго подавленного и угнетенного, но вечно живого и ныне мощно возрождающегося религиозного духа.
Мне уже приходилось касаться вопроса о том, что означает это крушение и временный упадок. Возможно, мне придется еще раз вернуться к его более детальному рассмотрению, поскольку именно это обстоятельство стало поводом для осуждения индийской культуры и индийской духовности. Но пока достаточно заметить, что о культуре нельзя судить по ее материальным достижениям, еще меньше пригоден материальный критерий для оценки духовных ценностей. Философская, эстетическая, поэтическая, интеллектуальная Греция пала, а вымуштрованный милитаристский Рим восторжествовал и победил, но никому и в голову не придет по этой причине утверждать, что победоносная имперская нация обладала более развитой цивилизацией и более высокой культурой. Разрушение Еврейского государства не перечеркнуло и не умалило религиозную культуру Иудеи, точно так же, как не возвысила и не оправдала ее коммерческая сметка, выказываемая евреями в диаспоре. Я, разумеется, признаю, как всегда признавала это и индийская философская мысль, необходимость материального и экономического развития и процветания, однако не это составляет самую высокую и существенную часть общего движения человеческой цивилизации. В материальном отношении Индия на протяжении долгого развития своей культуры была равна другим государствам древности или средневековья. Можно сказать, что до нашего времени ни один другой народ не достигал подобного великолепия, богатства, коммерческого процветания, материального комфорта, социальной организации. Об этом свидетельствует история, древние документы, записи очевидцев – отрицание этого означало бы попытку сознательного искажения перспективы, попытку при помощи воображения – или при отсутствии воображения? – ошибочно перенести нынешнюю реальность на реальность прошлого. Великолепие Азии, и не в последнюю очередь Индии, богатства Ормузда и Инда, «варварские врата, окованные золотом» – barbaricae postes squalentes auro, были некогда осуждены менее богатым Западом как знаки варварства. Странно, как поменялись местами знаки – варварскую роскошь и не слишком изящную демонстрацию богатства можно сегодня найти в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, а наготу Индии и мерзость ее нищеты нам тычут в нос, чтобы доказать никчемность индийской культуры.
В древности и в средние века Индия многого добилась в области организации политики, административного правления, обороны и экономики, существующие на сей счет документы могут рассеять незнание непосвященных и опровергнуть критику журналистов или политиков, преследующих собственные интересы. Несомненно, можно говорить также об упадке и слабости, но эти вещи почти неизбежны, если принять во внимание обилие и масштабность проблем, а также условия того времени. Но раздувать эти обстоятельства до обвинений индийской цивилизации в несостоятельности означало бы подвергать ее критике чрезмерно суровой, какую едва ли вынесли бы те немногие цивилизации, конец которых нам известен. Упадок в конце – да, но вследствие общего упадка культуры, а не ее наиболее ценных элементов. Конечное угасание даже наиболее ценных элементов цивилизации еще не доказывает отсутствия в них первоначальной ценности. Судить об индийской цивилизации следует в первую очередь по величественному развитию ее культуры на протяжении тысячелетий, а не по невежественности и слабости нескольких последних веков. О культуре следует судить прежде всего по ее духовной основе, затем – по ее лучшим достижениям и лишь в последнюю очередь – по способности выживать, обновляться и приспосабливаться к новым фазам развития расы и соответственно – к новым условиям. За нищетой, смятением и хаосом временного упадка недоброжелательный наблюдатель отказывается видеть или признать существование спасительной благородной души, благодаря которой цивилизация по-прежнему сохраняет жизнеспособность и может надеяться на могучее и яркое возрождение ее вечного идеала во всем своем величии. Но снова вступает в действие упрямая упругая сила, вековая сила приспособляемости; она не просто встает на защиту, но переходит в наступление. Будущее сулит нации не только выживание, но и победы и завоевания.
Однако наш критик не ограничивается отрицанием высоких целей и величия духа индийской цивилизации, слишком возвышенных, чтобы пострадать от невежественных и предубежденных нападок. Он ставит под вопрос ее доминирующие идеи, отказывает ей в практическом значении для жизни, порочит ее плоды, действенность, характер. Присутствует ли в этом огульном поношении некая критическая ценность или же мы имеем дело с разнузданным выражением непонимания, естественно присущим во многом отличающемуся подходу к жизни и диаметрально противоположной оценке высочайших идеалов и реальностей, свойственных нам? Анализ характера нападок и способа их выражения показывает, что речь идет не более чем об осуждении позитивистским умом, привязанным к заурядным жизненным ценностям, совершенно иных стандартов культуры, кругозор которой простирается за пределы ординарной человеческой жизни, указуя на нечто более великое, соединяя человека с вечным, нетленным и бесконечным. В Индии, говорят нам, нет духовности – весьма удивительное открытие; она, напротив, сумела убить в зародыше всю здравую и жизнеспособную духовность. Мистер Арчер очевидно вкладывает в это понятие собственный смысл, новый, интересный и чрезвычайно западный. До сих пор под духовностью понималось признание чего-то более великого, нежели ум и жизнь – устремленность к чистому, великому, божественному сознанию вне пределов нашей нормальной ментальной и витальной натуры, взлет души человека из ничтожности и порабощенности, тяготение к тому великому, что таится в самом человеке. Такова, по меньшей мере, идея, опыт, которые составляют самую суть индийского образа мысли. Однако рационалист не верит в дух, в этом смысле его величайшие боги – это жизнь, сила человеческой воли и разум. В таком случае духовность – было бы проще и логичнее отказаться от самого этого слова, если отрицается то, на чем оно зиждется, – должна получить другой смысл: тогда ее следует понимать как высокую страсть, как усилие чувств, воли и разума, направленное к конечной цели, но отнюдь не к бесконечному, к тленной цели, но отнюдь не к вечному, к бренной жизни, но отнюдь не к более великой реальности, которая и превосходит, и питает собой внешние проявления жизни. Нам говорят, что здравая и мужественная духовность заключена в тех мыслях и страданиях, которые избороздили идеальное чело Гомера. Отрешенность и сострадание Будды, восторжествовавшего над невежеством и страданием, медитация мыслителя, погруженного в транс созерцанием Вечности, возвысившегося над исканиями мысли до отождествления с высшим Светом, экстаз святого, соединенного любовью чистого сердца с трансцендентной и универсальной Любовью, воля карма-йогина, ставшего выше эгоистических желаний и страстей, достигшего внеличностности божественной, универсальной Воли, – все эти вещи, которые Индия оценила превыше всего, к которым устремлялись самые великие ее души, ни здравыми, ни мужественными не являются. Такова, с позволения сказать, чрезвычайно западная и современная идея духовности. Гомер, Шекспир, Рафаэль, Спиноза, Кант, Карл Великий, Авраам Линкольн, Ленин, Муссолини – вот кто, по всей вероятности, будет фигурировать отныне не только в качестве великих поэтов, художников, героев мысли и поступка, но и в качестве героических типов и примеров духовности. Не Будда, не Христос, не Чайтанья, не Франциск Ассизский или Рамакришна[36 - Рамакришна (1836–1886) – известный бенгальский реформатор индуизма. Стремился примирить различные мировые религии, представляя их как ступени на пути к Богу. Духовный учитель Свами Вивекананды.] – это все либо восточные полуварвары, либо те, кого коснулось женское безумие восточной религии. Впечатление, которое производят подобные высказывания на индийца, похоже на реакцию интеллектуала, услышавшего, что сытная еда, добротная одежда, надежное строительство, качественное преподавание в школе заключают в себе подлинную красоту, и достигаемые этим цели составляют правильный, здравый, мужественный эстетический культ, а литература, архитектура, скульптура и живопись есть просто бессмысленное марание бумаги, безумное вырубание чего-то из камня или женская мазня по полотну; Вобан, Песталоцци, д-р Парр, Ваталь и Бо Брюммель – вот подлинные герои художественного творчества, а не Леонардо да Винчи, Микеланджело, Софокл, Данте, Шекспир или Роден. Пускай здравомыслящие рассудят, уместны ли в сравнении эпитеты и обвинения мистера Арчера против индийской духовности. Мы же наблюдаем здесь противоположность исходных позиций и начинаем осознавать глубину различий между Западом и Индией.
Суть обвинений в адрес практической ценности индийской философии в следующем: она отворачивается от жизни, от природы, от жизненной воли и усилий человека на земле. Она полностью отрицает ценность жизни, ведет не к изучению природы, но уводит от нее. Она лишает личность свободной воли, она утверждает нереальность мира, отрешенность от земных интересов, незначительность сиюминутной жизни в сравнении с бесконечной чередой былых и будущих существований. Это расслабляющая метафизика, смешанная с ложными представлениями пессимизма, аскетизма, кармы и перевоплощения душ – идей, которые все, как одна, пагубны для того, что и есть наивысшая духовность: свободная воля личности. Это преувеличенное до гротеска и ложное представление об индийской культуре и философии достигается сугубо односторонним изложением индийской мысли в сугубо мрачных тонах – манера, которой мистер Арчер, видимо, научился у современных мастеров реализма. Тем не менее, по сути и по духу это достаточно корректное изложение представлений, сформировавшихся у европейцев в прошлом в отношении индийской мысли и культуры – иногда по незнанию, иногда вопреки свидетельствам обратного. На какое-то время европейцы даже сумели внушить эти ошибочные представления образованным индийцам. Для начала лучше всего задать изображаемому верный тон; после этого нам будет легче анализировать ту противоположность менталитета, которая и является причиной такого рода критического отношения.
Заявлять, будто индийская философия отвернулась от изучения природы, значит грубо противоречить фактам и игнорировать блистательную историю индийской цивилизации. Если под природой имеется в виду Природа физическая, то истина в том, что до современной эпохи ни одна страна на свете не уходила так далеко в научных исследованиях и не получала таких замечательных результатов, как древняя Индия. Это истина, это исторические факты, доступные для изучения всем желающим, они с большой убедительностью и весьма подробно были изложены известными индийскими учеными, они уже изучены и подтверждены европейскими исследователями, взявшими на себя труд сравнительного анализа. Индия не только занимала лидирующие позиции в математике, астрономии, химии, медицине, хирургии, во всех областях естественных наук, известных в древние времена, но и наряду с Грецией передала свои знания арабам, через которых Европа восстановила утраченные было навыки исследований, послуживших затем основой для современной науки. Во многих областях знания Индии принадлежит приоритет открытий – взять хотя бы два примера из множества: десятеричная система счисления в математике или представление о Земле как о движущемся теле в астрономии, чала притхиви стхира бхати, «Земля движется, хоть кажется неподвижной», – объявил индийский астроном за много веков до Галилея. Это великое открытие едва ли стало бы возможным для народа, чьи мыслители и ученые отвернулись от природы под влиянием метафизических убеждений. Внимание к подробностям жизни, склонность к тщательнейшему изучению фактов, их систематизированию и объединению в научные отрасли, шастры, своды систем и законов, есть поразительные черты индийского мышления. А это уж во всяком случае указывает на существование тенденции к научному подходу и ни в коем случае не может рассматриваться как признак культуры, способной создать лишь никчемную метафизику.
Совершенно справедливо, что примерно к XIII веку развитие индийской научной мысли резко затормозилось, наступил период темноты и бездеятельности, помешавший ее дальнейшему продвижению вперед или непосредственному участию в могучем рывке современного научного знания. Однако это произошло не в результате усиления метафизических тенденций в обществе, уводящих в сторону от физической природы, а вследствие общего спада интеллектуальной деятельности, поскольку к тому времени перестала развиваться и философская мысль. Последние выдающиеся оригинальные явления в духовной философии относятся приблизительно к одному или двум столетиям, следующим за последними крупными открытиями в науке. Справедливо также, что индийская метафизика не делала попыток, которые безуспешно предпринимала современная философия, понять истину существования главным образом в свете истин естественных наук. Древняя мудрость Индии базировалась больше на внутренней экспериментальной психологии и на глубинном изучении психического – что есть сильнейшая сторона Индии, – однако изучение ума и наших внутренних возможностей, безусловно, представляет собой исследование природы в ее более значительном аспекте, нежели чисто физический. Иначе и быть не могло, ибо Индия искала в существовании духовную истину, впрочем только этим и может заниматься любая действительно великая, прошедшая испытание временем философия. Справедливо также и то, что гармония, установленная индийской культурой между истиной философской и истиной психологической и религиозной, не распространялась в той же мере на истины физической Природы; в те времена естественные науки еще не достигли такого уровня универсальных обобщений, который сделал бы вполне возможным – как происходит сейчас – подобный синтез.
Тем не менее с самого начала, еще с ведических времен, индийская мысль признала единство общих законов и сил, действующих в духовной, психологической и физической сферах. Она открыла и универсальность жизни, осознала эволюцию души в Природе от формы растительной и животной к человеческой, утвердила на основе философской интуиции, духовного и психологического опыта многие положения, заново открываемые сейчас современной наукой при помощи своих методов. Все это не результаты бесплодной, пустопорожней метафизики и не выдумки мечтателей, с тяжеловесной тупостью созерцающих собственный пуп.
Равным образом несправедливо и утверждение, будто индийская культура отрицает ценность жизни, отворачивается от земных интересов и утверждает незначительность сиюминутного. Начитавшись таких европейских рассуждений, можно подумать, что индийская мысль целиком укладывается в рамки нигилистической школы буддизма или в монистические представления Шанкары об иллюзорности мира, что индийское искусство, литература и вся социальная мысль Индии – всего лишь выражение отвращения к неистинности и бренности бытия. Если среднему европейцу известно об Индии именно это, поскольку именно это больше всего интересует и поражает в индийской философии ее европейского исследователя, это еще не означает, что данные философские направления вобрали в себя всю индийскую мысль, сколь бы значительно ни было их влияние. Древняя цивилизация Индии четко строится на четырех аспектах человеческих интересов: прежде всего, желание и наслаждение, затем материальные и экономические цели и потребности разума и тела, далее – этическое поведение и правильный путь индивида и общества, ну и наконец духовное освобождение: кама, артха, дхарма, мокша. Задача культуры и социальной организации заключалась в том, чтобы развивать, удовлетворять, поддерживать в человеке эти ценности и созидать гармонию форм и мотиваций. За исключением редчайших случаев, удовлетворение трех земных целей должно предшествовать четвертой – полнота жизни должна предшествовать восхождению за ее предел. Нельзя уклоняться от исполнения долга по отношению к семье, к общине, к богам, земля должна получить свое, все прочее по сравнению с этим – игра, даже если за ее пределом существует величие небес и покой Абсолюта. Никто не призывал ко всеобщему поспешному уходу в пещеры, к отрешению от повседневности.
Симметричный характер жизни древней Индии и яркое многообразие литературы тех времен никак не свидетельствуют об исключительной устремленности к потустороннему. Огромный корпус санскритской литературы – это литература о человеческой жизни; определенные философские и религиозные произведения провозглашают уход от жизни, но, как правило, даже в них нет пренебрежения к ее ценности. Если индийская мысль придавала высочайшее значение духовному освобождению – а что бы ни говорили позитивисты, духовное освобождение того или иного рода есть самое высокое, на что способен человек, – освобождение не было единственным предметом ее интереса. Индийская мысль в равной степени проявляла интерес к этике, юриспруденции, политике, обществу, науке, искусству и ремеслам, ко всему, что сопряжено с человеческой жизнью. Индия глубоко и проницательно размышляла об этих вещах, Индия писала о них с убежденностью и знанием дела. Возьмем только один пример – какой великолепный памятник политическому и административному гению представляет собой шукра-нити[37 - «Шукра-нити-сара» («Суть блистательной политики») – трактат на санскрите, составленный в первой половине XIX в. Посвящен теории политики и общественного устройства.] и как эта концепция отражает в себе практическую организацию великого цивилизованного народа! Индийское искусство никогда не было целиком иератическим – так может показаться потому, что сохранилось главным образом находившееся в храмах и в пещерных соборах; но, как свидетельствует литература прошлого, как явствует из раджпутской и могольской миниатюрной живописи, индийское искусство было связано со двором и с городом, с культурными идеями и народной жизнью не меньше, чем с храмом и монастырем. Индийская система образования, охватывавшая и женщин и мужчин, была богаче, шире и многосторонней, чем любая другая из существовавших до современного периода. Документы, подтверждающие это, ныне доступны всякому, кто пожелает их изучить. И хватит повторять, на манер попугаев, что индийская цивилизация непрактична, метафизична, пассивна и антижизненна – пора заняться настоящей и грамотной ее оценкой.
Совершенно верно, однако, что индийская культура всегда отводила наивысшее место в человеке тому, что поднимается над земными хлопотами, полагая вершиной человеческих устремлений возвышенный и трудный выход за пределы земного. Духовная жизнь ставилась выше власти и наслаждений, мыслитель почитался более великим, чем человек действия, а человек духа – более великим, чем мыслитель. Душа, живущая в Боге, совершеннее, нежели душа, живущая одним умом, направленным вовне, и только ради устремлений и радостей мысли и бытия. Именно в этом и заключено различие между типично западным и типично индийским менталитетом. Для Запада религиозность есть скорее нечто обретенное, чем прирожденное, и он всегда с некоторой небрежностью относился к своему обретению. Индия всегда верила в существование иных миров, для которых материальный мир всего лишь преддверие. Индия постоянно видела в человеке нечто более великое, чем ум и тело, более великое, чем эго. Ее интеллект, ее сердце всегда склонялись перед близким и постоянным присутствием Вечного, в котором и существует бренная жизнь, к которому все сильнее тянется человек, чтобы превзойти себя. Подлинно индийское отношение к жизни лучше всего передают строки бенгальского поэта, замечательного певца и пылкого почитателя Божественной Матери:
Сколь тучная земля лежит без дела в человеке!
Будь вспахана, златой она дала бы урожай.
Сильнее всего волнует Индию мысль о неиспользуемых духовных возможностях, которыми изо всех земных существ наделен один только человек. Древняя арийская культура принимала весь человеческий потенциал, но эту возможность ставила превыше всего и жизнь делила по степени реализации духовного потенциала на четыре класса и на четыре стадии. Буддизм поначалу неумеренно подчеркивал идеал аскезы и монастырской жизни, отказываясь от постепенности реализации, нарушая жизненное равновесие. Победившая система оставила только две категории людей: семьянин и отшельник, монах и мирянин – это деление сохраняется и по сей день. За нарушение равновесия Дхармы буддизм и критикуется столь резко в «Вишну-пуране», ибо в конечном счете неумеренное преувеличение аскезы и жесткая система противоположностей привели к ослаблению социальной жизни. Но в буддизме была и другая сторона, сторона, обращенная к действию и к сотворению, которая вносила в жизнь новый свет, новый смысл и давала ей новые моральные силы и идеи. На исходе двух величайших тысячелетий индийской культуры появился Шанкара с его возвышенной концепцией иллюзорности земного. Отныне ценность жизни упала, ибо жизнь стала нереальностью или явлением относительным, в конечном счете не стоило и жить, не стоило ни стремиться, ни упорствовать в достижении устремлений. Однако эту догму не все принимали, она встретила сильное противодействие: противники Шанкары даже объявляли его замаскированным буддистом. Позднее на индийскую философскую мысль оказала сильнейшее влияние концепция Майи, однако нельзя сказать, что народная мысль и чувство были полностью сформированы ею. НародуоказаласьближерелигияпылкойлюбвикБожеству, которая рассматривает жизнь как Божественную игру, Лилу, а не как мираж светотеней, искажающий белое безмолвие вечности. Если народ не противился суровому идеалу, то он его очеловечивал. Образованная Индия только недавно согласилась с мыслями английских и немецких ученых, некоторое время полагавших, будто шанкаровская Майявада есть наивысшее достижение нашей философии, если не вся философия, отведя Шанкаре исключительное место. Но и эта тенденция вызывает сейчас растущее неприятие, и речь идет не о замене духа без жизни на жизнь без духа, а об одухотворении ума, жизни и материи. Справедливо однако и то, что аскетический идеал, который в величественном здании нашей древней культуры играл роль тонкого шпиля жизни, вонзавшегося в вечное бытие, позднее превратился в тяжеловесный купол, под бременем отрешенной монументальности которого могло обрушиться все здание.
Но и здесь нам необходим правильный взгляд на вещи, свободный от преувеличений и ложных акцентов. Мистер Арчер втискивает в свой список антижизненных индийских идей также и идеи кармы и реинкарнации. Это просто нелепо, это глупо – говорить о реинкарнации как о доктрине ничтожности сиюминутной жизни по сравнению с бесконечной чередой былых и будущих рождений. Доктрина переселения душ и кармы объясняет нам, что у души есть прошлое, которым и обусловлено наше нынешнее рождение и существование; у души есть будущее, которое формируется нашими нынешними поступками; наше прошлое уже приняло, а наше будущее еще примет форму повторяющихся земных рождений, карма же, то есть наши собственные деяния, есть та сила, которая своей преемственностью и развитием, субъективно и объективно, определяет природу и характер этих повторяющихся рождений. Нет здесь ничего, что принижало бы значение нынешней жизни. Напротив, доктрина открывает огромные перспективы и в очень большой степени подчеркивает ценность усилия и действия. Характер сиюминутного поступка приобретает колоссальное значение, потому что он предопределяет собой не только наше непосредственное, но и более отдаленное будущее. Индийская литература буквально пронизана мыслью, глубоко проникшей и в народное сознание, мыслью о том, что сосредоточение всех душевных сил и энергии на совершаемом действии, тапасья, придает ему чудодейственную силу для достижения желаемого, исполнения материальных или духовных желаний. Несомненно, наша нынешняя жизнь утрачивает исключительное значение, которое мы ей придаем, когда рассматриваем ее только как нечто мимолетное во Времени, нечто, больше никогда не повторимое, как наш единственный шанс, не имеющий никакого продолжения. Но преувеличенная, настойчивая сосредоточенность только на настоящем заключает душу человека в темницу текущего момента, она способна сообщить действию лихорадочную напряженность, но пагубна для покоя, радости и величия духа. Несомненно также, что представление о наших нынешних бедах как о результате наших собственных деяний в прошлом придает индийскому уму спокойствие, примиренность и покорность, которые несдержанный западный разум находит трудными для понимания или вообще непереносимыми. Эти черты могут выродиться в национальную слабость, привести к временам упадка и бед, превратиться в квиетистский фатализм, способный угасить пламя устремленности к возрождению. Однако такой ход событий отнюдь не неизбежен и не он прослеживается в анналах более могучего прошлого нашей культуры. Там акцент делается на действии, на тапасье. Правда, эти настроения со временем усилились под влиянием буддистской догмы о последовательности рождений как о кармической цепи, из которой душа может вырваться только в вечное безмолвие. Доктрина оказала сильное воздействие на индуизм, но ее мрачноватый аспект связан не с самой идеей перевоплощения душ, а с другими элементами, заклейменными виталистической мыслью Европы в качестве аскетического пессимизма.
Пессимизм не является особенностью индийской мысли – это составная часть философии любой развитой цивилизации. Это признак культуры уже состарившейся, плод ума, который долго жил, многое испытал, познал жизнь и обнаружил, что она полна страдания, познал радость и победу и пришел к выводу, что все это суета, суета сует и томление духа, что нет ничего нового под солнцем, а если и есть, то лишь день длится новизна, не более. Пессимизм так же широко распространялся в Европе, как и в Индии, и уж конечно поразительно, что материалистичнейший из народов обращает против индийской духовности обвинение в небрежении ценностью бытия. Ибо что может быть мрачнее материалистического взгляда на человеческую жизнь, как на нечто чисто физическое и эфемерное. В самой аскетичной индийской мысли нет ничего равного черной тоске иных разновидностей европейского пессимизма, этого города беспросветной ночи, где нет радости сейчас и нет надежд на то, что после; и в индийской литературе нет ничего похожего на смертную тоску и страх перед смертью и распадом плоти, которыми буквально пронизана литература Запада. Нота аскетического пессимизма, часто звучащая в христианстве, звучит на чисто западный лад, ибо ее нет в учении самого Христа. Средневековая религия с ее крестом, спасением через страдание, миром, где правит Сатана и плоть, где в загробной жизни человека ожидает адский огонь, полна боли и ужаса, чуждых индийскому уму, которому вообще непонятно, что такое религиозный страх. Земное страдание существует, но за гранью скорби оно растворяется в блаженстве духовного покоя или экстаза. Учение Будды подчеркивало скорбную долю человека и бренность мира, но буддистская Нирвана, которая завоевывается героическим духом морального самообуздания и покойной мудрости, есть состояние вечного блаженства и покоя; в отличие от христианских небес Нирвана доступна не избранным, но каждому; это не тупое облегчение, достигнутое механическим освобождением от боли и страдания, жалкая нирвана западного пессимизма, животное окончание жизни материалиста. Даже доктрина иллюзорности мира не есть священное писание скорбей, но представление о конечной нереальности и радости, и горя, и всего земного существования. Она признает практическую реальность жизни и допускает ее ценности для тех, кто живет в Неведении. И как вся индийская аскетическая философия, эта доктрина тоже открывает перед человеком возможность совершить великое усилие, укрепиться в светоносном знании и могучм усилием воли подняться к абсолютному покою или абсолютному блаженству. Индийская мысль знает благородный пессимизм в отношении повседневной человеческой жизни, глубокое чувство человеческого несовершенства, отвращение к его суетливой невежественности и ничтожности, но другая сторона медали – это непобедимый оптимизм в отношении духовных возможностей человека. Если философ этой школы и не верит в идеал гигантского материального прогресса расы или в совершенствование заурядного приземленного человека, то он убежден в возможности духовного прогресса каждого и в конечном совершенстве, неуязвимом для ударов жизни. И этот пессимизм в отношении жизни не есть единственная тема индийской религиозной мысли: в своих наиболее популярных формах она воспринимает жизнь как Божественную игру и прозревает за условиями земного существования извечную близость каждого человека к Богу. Светоносное восхождение в Божественное всегда считалось венцом самореализации человека, однако вполне посильным для него. Едва ли такая теория бытия может рассматриваться как мрачная или пессимистическая.
Не бывает великой и завершенной культуры без некоторого элементы аскезы, ибо аскетизм означает самоотрицание и победу над собой, которую человек одерживает, подавляя в себе низменное во имя возвышенных свойств своей натуры. Индийский аскетизм – не постоянное напоминание о скорбях и не мучительное умерщвление плоти в мрачном покаянии, но благородное стремление к возвышенной радости и к полному овладению духом. Великая радость победы над собой, светлая радость внутреннего покоя и пылкая радость выхода за пределы своего «я» составляют суть этого переживания. Только ум, поглощенный заботами плоти, без памяти влюбленный во внешние проявления жизни, увлеченный ее суетой и несовершенными радостями, способен отрицать благородство или идеалистическую возвышенность такого аскетизма. Но в этом мире все идеалы в той или иной степени подвергаются искажению. И чем труднее достижим для человека идеал, тем большим искажениям он подвержен; аскетизм может превращаться в фанатичное самоистязание, в примитивное подавление природного, в усталый побег от существования или в ленивый уход от сложностей жизни и исполненное слабости уклонение от обязанностей, налагаемых на мужчину. Когда к аскезе прибегают не избранные единицы, когда ее экстремальные формы пропагандируются для всех и принимаются тысячами неспособных на это усилие людей, тогда ее суть может быть извращена, от нее остается лишь пустая форма, а жизненная сила общества может утратить свою гибкость и целеустремленность. Напрасно было бы делать вид, будто такие вещи не происходили в Индии. Я не принимаю аскетический идеал в качестве окончательного решения проблемы человеческого существования, но даже за его крайними формами скрывается дух, более благородный, чем за крайними формами витализма, являющегося противоположным нашему недостатком западной культуры.
В конечном же счете философия аскетизма и доктрина иллюзорности бытия не первостепенны. Суть, на которой надо настаивать, заключается в том, что индийская духовность в эпоху своего величайшего расцвета и в своих важнейших проявлениях не была ни утомленным квиетизмом, ни монашеством – это была возвышенная попытка человеческого духа подняться над жизнью желаний и витальных удовольствий, достичь высшей точки духовного равновесия, величия, силы, просвещения, божественной реализации, устойчивого покоя и блаженства. Вопрос, вставший перед культурой Индии и лихорадочной секулярной деятельностью современного разума, заключается в следующем: существенна или нет такая попытка для совершенствования человека? А если она существенна, то возникает следующий вопрос: является ли она исключительным уделом редких душ или может стать главным побудительным мотивом великой и совершенной человеческой цивилизации.
4
Правильное суждение о жизненной ценности индийской философии теснейшим образом связано с правильным пониманием жизненной ценности индийской религии; в данной культуре религия и философия сплетены воедино и их немыслимо рассматривать по отдельности. Индийская философия не есть чисто рациональная гимнастика спекулятивной логики, утонченнейший процесс игры мысли и игры слов – в отличие от большей части европейской философии; это организованная интеллектуальная теория упорядоченных интуитивных восприятий всего, что представляет собой душу, мысль, динамичную истину, сердце чувств и сил индийской религии. Индийская религия есть индийская духовная философия в действии и переживании. То, что в религиозной мысли и практике, в огромной, богатой, многообразной, невероятно гибкой, но жестко структурированной системе, именуемой индуизмом, не соответствует этому определению по идее – какой бы ни была практика – должно быть отнесено либо к социальным факторам, либо к ритуальным формальностям, либо к уцелевшим пережиткам древности. Возможно наслоение искажений, извращений истины и смысла вульгарным умом, от чего не свободна мысль и практика ни одной религии. В некоторых случаях это закосневшие привычки, накопившиеся в период застоя, следы посторонних воздействий, ассимилированных в гигантский корпус индуизма. Внутренний принцип индуизма – наиболее терпимой и открытой из всех религиозных систем – отличается от жесткой исключительности таких религий, как христианство или ислам; индуизм всегда был религией синтеза и ассимиляции в той степени, в какой это возможно без утраты собственного своеобразия и законов своего бытия. Индуизм всегда вбирал в себя влияния извне, полагаясь на свои ассимиляционные способности, никогда не угасающие в его духовной сердцевине и преобразующие даже наименее обещающий материал в формы выражения его духа.
Однако прежде чем рассмотреть, что же в индийской религиозной философии приводит в такое бешенство и отчаяние враждебно настроенного западного критика, полезно обратиться и к тому, что он говорит о других аспектах индуизма – древнего, существующего с незапамятных времен, полного жизни, вечно растущего и все ассимилирующего. А говорит он множество немилосердных и несообразных вещей. Это не поток опьяненно-разнузданной брани и клеветы, порождение ненависти, нетерпимости и всего низменного, нечистоплотного и антидуховного, что свойственно для определенного типа «христианской литературы» на эту тему (примером может служить блистательный образчик такого злословия, цитируемый сэром Джоном Вудроффом из писаний мистера Хэролда Бегби), вероятно «мужественных», если мужественно насилие, но ни в коем случае не здравых. Но и в нашем случае налицо все то же нагромождение немилосердных обвинений, грубо преувеличенных там, где для этого находятся хоть какие-то основания, хладнокровно нелогичных в блаженном наслаждении сознательным искажением фактов. Однако из огромного нагромождения все-таки можно выделить значительные и типические антипатии, вызывающие доверие и тех, кто не расположен к критике, и даже иных людей с острым критическим умом. Процесс этот пойдет нам на пользу.
Главная тема нападок – полная иррациональность индуизма. Мистер Арчер мимоходом признает наличие философского, а следовательно, можно предположить, и рационального элемента в религии Индии, но отрицает доминирующие идеи этой религиозной философии как лживые и явно вредные – как он их понимает или думает, будто понимает. Иррациональный характер индуизма он объясняет тем, что индийцы якобы всегда тяготели скорее к форме, нежели к содержанию, скорее к букве, нежели к духу. Можно, разумеется, сказать, что такого рода тяготение есть достаточно универсальное свойство человека не только в религии, но также и в общественных делах, политике, искусстве, литературе и даже в науке. В любой области человеческой деятельности культ формы и забвение духа, тяготение к условному, внешнему, к бездумной догме типичны повсеместно – от Китая до Перу, не исключая и Европу. Европа, где постоянно сражались, убивали, пытали, сжигали, бросали в тюрьмы, подвергали всем преследованиям, какие только может измыслить человеческая глупость и жестокость, – во имя догм, слов, обрядов и форм церковной практики, Европа, где эти вещи по сути заменили собой духовность и религию, едва ли в состоянии похвастаться прошлым, которое позволяло бы ей бросать подобные упреки в лицо Востоку. Но, говорят нам, такого рода склонность нанесла больший ущерб индийской религии, нежели прочим. Вряд ли можно признать существующим Высокий Индуизм, если не считать некоторые мелкие реформаторские секты, а народный индуизм – это чудовищный фольклорный культ, подавляющий и парализующий воображение (правда, опять-таки индийскую мысль скорее можно обвинить в избытке воображения, чем в подавлении его). Основные черты здесь – это анимизм и магия. Индийцы доказали, как они умеют тормозить движение мысли, материализируя, формализируя и принижая свою религию. Если и были в Индии великие мыслители, все равно Индия не сумела создать на основе их мыслей рациональную и облагораживающую религию: вера испанского или русского крестьянина выглядит рациональной и просвещенной по сравнению с тем, как веруют в Индии. Иррационализм, антирационализм составляют постоянный рефрен натужных и надуманных обвинений, главную тему арчеровской песни.
Феномен, больше всего поражающий и возмущающий критика, – это упрямая живучесть древнего религиозного духа и древних религиозных архетипов, не захлестнутых волнами модернизма с его разрушительным утилитарным вольномыслием. Индия, сообщает он нам, продолжает цепляться за вещи, которые давным-давно устарели не только в Европе, но также в Китае и Японии. Религия есть предрассудок, религиозное выражение богопочитания отвратительно для свободного, просвещенного секулярного ума современного человека. Ее повседневная практика отводит Индию далеко за пределы цивилизованного мира. Возможно, будь эта практика ограничена приличествующим посещением церкви по воскресеньям, брачными и похоронными обрядами, короткой молитвой перед принятием пищи, она могла бы быть сочтена гуманной и терпимой! В том же виде, в каком она существует, – это просто великий анахронизм в современном мире. Тридцать столетий не расчищались эти завалы, это язычество – самое настоящее язычество в неотфильтрованном виде, склонное скорее к усугублению своей дремучести, нежели к просвещению, – все это ставит индуизм куда ниже всех прочих вероисповеданий на свете. И тут же предлагается оригинальный выход из положения. В Европе язычество было уничтожено христианством; поскольку незамедлительный или даже скорый триумф скептического свободомыслия едва ли возможен, то нам, необразованным, испорченным, нечистым индусам, предлагается в качестве временной меры перейти в христианство, хотя в ярком свете позитивистского разума христианство тоже выглядит жалким иррационализмом, темным и деформированным, но все равно христианство, особенно в его протестантском варианте, может стать хорошим подспорьем на пути к благородному свободомыслию и незапятнанной чистоте атеизма и агностицизма. Если же нельзя надеяться даже на такую малость, вопреки многочисленным обращениям в христианство во время голода, то по крайней мере следует как-то отфильтровать индуизм, а пока не будет проделана эта гигиеническая процедура, Индия не может быть равноправным партнером в среде цивилизованных народов.
Кстати, обвинение в иррационализме и сопутствующее обвинение в язычестве сопровождается еще и третьим, самым убийственным – мы и наша религиозная культура не знаем, что такое мораль и этика. Даже Европа сейчас все в большей степени начинает ощущать, что не разум есть последнее слово в человеке, не разум открывает единственный суверенный путь к истине и уж, конечно, он не единственный судия религиозной и духовной истины. Обвинения в язычестве тоже не решают вопроса, ибо многие образованные умы прекрасно понимают, сколько великого, истинного и прекрасного было в тех религиях древности, которые христианство в своем невежестве огульно порицает. Нельзя сказать и что мир так уж выиграл от утраты древних форм и мотиваций. Однако какой бы ни была человеческая практика – а в этом отношении обычный человек представляет собой странное соединение искреннего, но совершенно бессильного, едва удерживающегося на грани приличий, потенциально этического существа и наполовину ханжеского, лгущего себе фарисея – к моралистическим предубеждениям взывать можно всегда. Все религии высоко вздымают знамя моральности, и человек – неважно, религиозный или секулярно мыслящий – заявляет о своем следовании этим стандартам или хотя бы признает их существование, за исключением разве что бунтарей и циников. Таким образом, вышеупомянутое обвинение попадает в разряд самых сильных предубеждений. Самозванный прокурор, чью филиппику мы рассматриваем, не стесняет себя рамками добросовестности и умеренности. Он обнаружил, что индуизм – религия не облагораживающая и даже не помогающая укреплению моральности, и, хотя в ней много рассуждений о добродетели, она никогда не считала моральное воспитание одной из своих функций. Религия, усиленно проповедующая добродетель, но отказывающаяся от морального воспитания верующих, – это похоже на квадрат, не имеющий права на квадратность. Но оставим это. Если индус относительно свободен от самых низких западных пороков – пока свободен, до той поры, пока он не вошел в «круг цивилизации» в результате принятия христианства или как-то еще – то вовсе не потому, что он особо этичен по натуре, а лишь потому, что не сталкивается с этими пороками. Он живет в социальной системе, построенной на варварской идее Дхармы, включающей в себя божественные и человеческие, всеобщие и индивидуальные, этические и социальные предписания, которые со всех сторон ограждают его и глупейшим образом мешают ему сбиться с пути истинного – лишают его тех возможностей, которые так щедро предлагает западная цивилизация! Тем не менее, как нам ничтоже сумняшеся сообщают, индуизм по своему характеру – который есть и характер народа – прискорбно тяготеет ко всему уродливому и болезненному! На этой высокой ноте бесстыдного злословия мы оставим мистера Арчера бесноваться над телом якобы поверженного врага, обратившись к выяснению глубинных причин его отвращения и злобы.
Две характерные черты отличают средний европейский ум – ибо мы должны в данном случае оставить в стороне великие души, великих мыслителей, отдельные периоды повышенной сверх нормы религиозности и сосредоточить внимание на доминирующих тенденциях. Двумя характерными особенностями являются культ ищущего, определяющего, эффективного, практического разума и культ жизни. Великие идеи европейской цивилизации, греческой культуры, римского мира до Константина, Возрождения, современности с двумя ее колоссальными идолами: Индустриализмом и Естественной Наукой – обрушились на Европу волной удвоенной силы этих культов. Всякий раз, как волна откатывалась, европейский ум погружался в смятение, тьму и ослабевал. Христианство не сумело одухотворить Европу, хоть и гуманизировало ее в определенных этических аспектах, именно потому, что шло против двух этих доминирующих инстинктов – отрицало превосходство разума и предавало анафеме удовлетворенную или насыщенную полноту жизни. Азия же никогда не устанавливала превосходство разума, не было там и культа жизни, соответственно, речи не могло быть о несоответствии этих двух сил и религиозного духа. Великие азиатские эпохи, мощные кульминации азиатских цивилизаций и культур – высокое ведическое начало Индии, блистательное духовное движение времен Упанишад, широкий разлив буддизма, веданты, санкхьи, пуранических[38 - Пураны («старые истории») обычно состоят из генеалогий царей, космологических мифов и пр. Составлены примерно в III–X вв. Считаются «пятой ведой», доступны женщинам и членам низших каст. В пуранах эмоциональное отношение к Богу, стремление установить с ним «према», любовь, нередко замещают традиционные ритуалы и культовую практику. «Вишну-пурана» (I–II в.) и «Бхагавата-пурана» (Х в.) были особенно популярны у вайшнавов.] и тантристских культов, расцвет вишнуизма[39 - Вишнуизм — одно из направлений индуизма. Объединяет ряд сект, признающих бога Вишну как верховное божество. Обычно почитают его в виде аватаров (воплощений). Число аватаров в вишнуизме варьируется; чаще всего говорят о десяти перевоплощениях. Обычно вишнуиты почитают Вишну в виде двух его аватаров – Кришны или Рамы.] и шиваизма[40 - Шиваизм – одно из направлений индуизма, названное по имени главного божества (Шивы). Истоки шиваизма коренятся в верованиях автохтонного доарийского населения. В шиваизме сохранились пережитки древнего культа плодородия. С ним связаны представления о творческом начале всего живого в природе и почитание мужских и женских детородных органов (лингама и йони).] в государствах Юга – все это неизменно приходило вместе со светом духа, с устремленностью религиозной или религиозно-философской мысли к вершинам, к благороднейшей реальности, к богатству озарений и опыта. В эти же периоды наблюдался расцвет интеллектуальной деятельности, науки, поэзии, искусств и материальной жизни. Напротив, всякий упадок духовности приводил к ослаблению и других аспектов жизни, к симптомам снижения деятельности, иногда и к развалу. Это и есть ключ к пониманию расхождений между Востоком и Западом.
Человек должен тянуться к духу – даже если не дотягивается – иначе он лишается источника силы. Однако есть различные подходы к этим тайным силам. Похоже, будто Европе требуется пробиваться через жизнь и разум, обнаруживая духовную истину, как их венец и озарение; Европа не может силой взять царствие небесное, как призывал людей Христос. Такая попытка сбивает Европу с толку, туманит ее разум, вступает в противоречие с ее жизненными инстинктами и приводит к бунту, к отрицанию, возвращает к собственным законам жизни. Азия же, или во всяком случае Индия, естественно живет духовными наитиями, и только они вызывают к действию высшие силы ее ума и жизни. Два континента – как две половинки единой человеческой сферы, и, прежде чем соединиться и сойтись воедино, каждая должна двигаться к прогрессу и кульминации своего духа по законам собственного существования, в соответствии с собственной Дхармой. Односторонний мир был бы обеднен однообразием и монотонностью одной культуры, необходимо разнообразие путей продвижения, прежде чем мы поднимем головы к той бесконечности духа, где свет разлит достаточно широко, чтобы соединить всех и примирить всех на высочайших путях мышления, чувствования и существования. Вот истина, которую дружно игнорируют и яростный индийский противник материалистической Европы, и надменный, холодный критик всего азиатского или индийского. На самом деле, вопрос не в различиях между варварством и цивилизованностью, ибо массы людей всегда варвары, старающиеся цивилизовать себя. Это лишь одно из динамических различий, необходимых, чтобы расширяющаяся сфера всечеловеческой культуры приобрела завершенность.
Пока что, к сожалению, различия выливаются в постоянное враждебное противостояние подходов как в области религии, так почти во всем прочем, а противостояние приводит к большей или меньшей невозможности взаимного понимания, даже к откровенной враждебности и взаимному отвращению. Западный ум ставит во главу угла жизнь, прежде всего в ее внешних проявлениях, все видимое, ощутимое, досягаемое. Внутренняя жизнь рассматривается только как отражение внешнего мира в разуме, при этом разум играет роль начала, придающего вещам форму, осведомленного критика, строителя, доводящего до кондиции материал из внешнего мира, поставляемый Природой. Все, чем поглощена Европа, – это сиюминутность бытия, полное использование земной жизни – в ней самой и ради нее самой. Жизнь личности, продолжение физического существования, развитие ума и знания составляет первейший всепоглощающий интерес Европы. Даже от религии Запад требует, чтобы ее цели и задачи были подчинены утилитарным потребностям зримого мира. Греки и римляне видели в религиозных культах освящение жизни «полиса» или силу, укрепляющую прочность и стабильность Государства. Средние века, когда христианская идея достигла своих высот, можно рассматривать как период междуцарствия, то был период, когда Запад пытался ассимилировать восточный идеал в свои эмоции и разум. Однако постоянно жить им Запад так и не сумел, он был вынужден отбросить его или оставить лишь в качестве объекта словесного почитания. В настоящее время Азия тоже переживает период междуцарствия, период, который характеризуется ее попытками, вопреки своей бунтарской душе и темпераменту, ассимилировать в свой интеллект и образ жизни мировоззрение и приземленный идеал Запада. Можно с уверенностью предсказать, что Азия тоже не сумеет долго или устойчиво жить по законам чужой жизни. Но в Европе даже христианская идея, в своем чистом виде отмеченная ярко выраженной тенденцией к интроспекции и бескомпромиссной направленностью к миру иному, вынуждена была подчиниться потребностям западного темперамента, а сделав это, утратила свое внутреннее царство. Одержал победу подлинный темперамент Запада, который во все возрастающей степени рационализировал, секуляризировал и почти уничтожил религиозный дух. Религия становилась все более бледной тенью, место которой отводилось в дальнем углу жизни, в еще более тесном уголке природы, где она и ожидала смертного приговора или ссылки, а перед вратами побежденной Церкви победоносным маршем проходили силы секуляризированной жизни, позитивистского разума и материалистической науки.
Секуляристская тенденция есть неизбежное последствие культа жизни и разума, отрешенного от взгляда глубоко внутрь себя. В древней Европе религия и жизнь не были разделены, но лишь потому, что в разделении не было нужды. Европейская религия сразу по освобождении от мистического восточного элемента превратилась в секуляризированный институт, не интересовавшийся тем, что глубже определенной грани за пределами физического, и служивший удобным орудием для управления земной жизнью. При этом сохранилась тенденция истреблять при помощи философии и разума остатки былого религиозного духа, изгонять легкие тени, отбасываемые распростертыми крылами недосягаемых для разума таинств, и выбираться на яркий солнечный свет логического и практического интеллекта. Современная Европа пошла еще дальше, почти до самого конца пути. Чтобы окончательно отделаться от навязчивой христианской идеи, которая, как и вся религиозная мысль Востока, была тесно переплетена с жизнью и, вопреки преградам, возникавшим на ее пути из-за неисправимой витальной натуры человека животного, направлена на одухотворение всего его существа и всех его действий, современная Европа отделила религию от жизни, от философии, от искусства и науки, от политики, от значительной части социального действия и социального бытия. Европа также секуляризовала и рационализировала этические потребности так, что они могли отныне сохранять собственную основу без помощи религиозных санкций или мистических устремлений. Так возникла антиномическая тенденция, снова и снова дающая о себе знать в европейской истории и заметно проявляющаяся в настоящее время. Эта сила тоже стремится к устранению этики, правда, не поднявшись выше этических норм в абсолютную чистоту духа, как это происходит в мистическом опыте, но пытаясь сокрушить ее барьеры снизу и предоставляя желанную свободу игре жизненного начала. Религия осталась в стороне от этой эволюции – обедненная система представлений и ритуалов, которую можно принимать или не принимать, поскольку от этого мало что меняется в движении человеческого ума и жизни. Ее проникающая действенная сила свелась к малозначащему минимальному влиянию, к поверхностному окрашиванию догматов, сантиментов и эмоций – вот все, что осталось в результате упомянутого процесса. Интеллектуализм настоял на том, чтобы даже жалкий уголок, все еще ей отведенный, был как можно ярче освещен прожекторами разума. Тенденция заключалась в том, чтобы свести на нет не только инфрарациональное, но равным образом и супрарациональное прибежище религиозного духа. Символика древнего языческого многобожия воплотила в прекрасные фигуры идею божественного Присутствия, наличия сверхъестественной Жизни и Силы во всей Природе, в каждой частичке жизни и материи, во всем животном существовании и в умственной деятельности человека, но эта идея, которая секуляризованному разуму представляется просто интеллектуализированным анимизмом, уже была беспощадно отметена. Божество покинуло землю и поселилось где-то в заоблачном далеке иных миров, в небесном царстве святых и бессмертных духов. А почему должны существовать иные миры? Я признаю, восклицал прогрессирующий интеллект, только вот этот материальный мир, удостоверяемый нашим разумом и ощущениями. Туманная тусклая абстракция духовного существования без места проживания, без ощущения динамичной близости была оставлена как отмирающий пережиток смутных духовных ощущений или фантастических иллюзий прошлого. Остался пустой, чуть тепленький теизм, рационализированное христианство без имени Христа и без его присутствия. Но к чему критическому свету интеллекта оставлять даже это? Разум или Сила, именуемая Богом за неимением лучшего названия, представленная моральным и физическим законом в материальной вселенной – этого совершенно достаточно для любого рационального ума, и, таким образом, мы уже получаем деизм, пустопорожнюю интеллектуальную формулировку. А зачем вообще нужен Бог? Разум и ощущения сами по себе не свидетельствуют о существовании Бога, они от силы могут счесть его правдоподобной гипотезой. Но нет нужды и в недоказанных гипотезах, ибо вполне достаточно Природы, к тому же она – единственное, что нам известно. Таким путем мы с неизбежностью приходим к атеистическому или агностическому культу секуляризма, к высшей точке отрицания, к зениту позитивного миропонимания. А здесь уже могут обосноваться разум и жизнь, они могут удовлетворенно править побежденным миром – если только это неудобное, скрытое, двусмысленное, бесконечное Нечто оставит их в покое в будущем!
Такого рода темперамент, такого рода миропонимание, разумеется, не может терпеть искренней устремленности ко всему выходящему за пределы обычного разума и бесконечному. Другое дело – игра в приятные галлюцинации (в умеренных рамках), невинное развлечение спекулятивного ума или художественного воображения, при условии, что она не слишком серьезна и не затрагивает жизни. Но аскетичность и тяготение к потустороннему непереносимы для такого темперамента и пагубны для такого миропонимания. Жизнь есть нечто, чем следует владеть, чем следует наслаждаться – рационально или страстно в зависимости от склонностей, но эта земная жизнь – то единственное, что нам известно, наш единственный удел. В самом крайнем случае допустим интеллектуальный и этический аскетизм, простота, скромная жизнь и высокие мысли, но экстатический духовный аскетизм – это оскорбление для разума, почти преступление. Пессимизм виталистического типа – это лишь сиюминутное настроение, ибо такой пессимист признает, что жизнь есть зло, но ее надо прожить, и не обрубает ее корни. Очевидно однако, что правильный подход заключается в том, чтобы принимать жизнь как она есть, стараться взять как можно больше от нее либо практически, упорядочивая смешанные в ней добро и зло, либо идеально – в надежде на относительное совершенство. Если есть смысл в духовности, то он только в труде возвышенного ума, в рациональной воле, ограниченной красоте и моральном добре, при помощи которых надо постараться наилучшим образом использовать ту жизнь, какая есть, но совершенно ни к чему понапрасну пытаться заглянуть за ее пределы в поиске некоего нечеловеческого, недосягаемого, бесконечного или абсолютного удовлетворения. Если религии суждено выжить, то пусть ее функцией станет служение вот такой духовной цели, наставление в хорошем поведении, пусть она вносит красоту и чистоту в наше бытие, но пусть она учит только этой мужественной и здравой духовности, пусть остается в рамках практического разума и земного интеллекта. Без сомнения, мое описание выделяет основные направления и оставляет в стороне отклонения как в ту, так и в другую сторону, но отклонения (порой самого крайнего характера) – в природе человека. И все же мне кажется, что в этом описании нет ничего несправедливого или преувеличенного, это описание четкой тенденции и характерного западного темперамента с его мировоззрением и нормальной уравновешенностью его интеллекта. Это самодостаточная статичная уравновешенность, если она не переходит в стремление превзойти свои возможности, к которому естественно склоняется человек по достижении высшей точки своей обычной натуры. Ибо в его натуре скрыта сила, которая должна либо найти себе выход, либо распылиться и перестать существовать; пока человек сам не обнаружит это, он не обретет устойчивого равновесия и надежной обители для своего духа.
Когда же такой западный ум приходит в соприкосновение со все еще живой силой индийской религии, мысли, культуры, он обнаруживает, что все его стандарты отвергнуты или превзойдены ею, все, что он почитает, отодвинуто на задний план, а то, что он отбросил за ненадобностью, здесь по-прежнему в почете. Философия здесь основывается на непосредственной реальности Бесконечного и развивается под настоятельным давлением Абсолютного. И это не просто темы для размышлений, но реальное Присутствие и постоянная Сила, которая требует человеческой души и призывает ее. Здесь ум осознает Божество в Природе, в человеке, в животном и в неодушевленном предмете, видит Бога в начале, Бога посредине, Бога в конце, Бога повсюду. И все это не просто допустимая поэтическая игра воображения, которую незачем принимать всерьез, это мировоззрение, которым следует жить, которое нужно реализовать, обратить в основу поступков, содержание мыслей, чувств и поведения! Этой цели служили целые дисциплины, которые и по сей день практикуются людьми! Люди жертвуют своими жизнями в стремлении к верховному Существу, к универсальному Божеству, к Единому, к Абсолюту, к Бесконечному. Во имя этой нематериальной цели они по сей день готовы отказаться от жизненных благ, расстаться с обществом, с домом, с семьей, со всем, что им дорого и что для рационального ума обладает существенной и определимой ценностью! Это целая страна, до сих пор ярко окрашенная шафранным цветом отшельнического одеяния, где Запредельное до сих пор проповедуется как истина, а люди живут верой в иные миры, в перевоплощение душ, во все эти устарелые идеи, истинность которых невозможно установить с помощью инструментария естественных наук. Здесь опыт йоги признается столь же достоверным, пожалуй даже более достоверным, чем данные лабораторных экспериментов. Ну что это, как не мысли о немыслимом, поскольку даже Запад уже перестал размышлять об этом? Не попытка познать непознаваемое, которое современный ум отказывается даже пытаться познать? А эти иррациональные полудикари все еще пытаются превратить нечто совершенно нереальное в цель жизни, в руководящую силу, в формообразующую искусства, культуры и образа жизни. Но искусство, культура и образ жизни, подсказывает нам рациональный ум, есть вещи, которых, по логике, совершенно не должны касаться духовность и религия, поскольку они-то как раз относятся к области конечного и могут базироваться только на интеллектуальном разуме, на практическом подходе и на условиях физической природы. Здесь и открывается перед нами в первородном виде пропасть, разделяющая два разных образа мышления, и пропасть эта кажется непреодолимой. Хотя, пожалуй, индийский ум способен в достаточной степени понять, если не принять, позитивистский подход западного разума, но сам он при этом останется для Запада если не проклятием, то чем-то совершенно ненормальным и невнятным. Еще более невыносимы для западного критика плоды воздействия индийского религиозно-философского мировоззрения на жизнь. Его разум и без того оскорблен индийской склонностью к супрарациональному, которая представляется ему антирациональностью, а тут еще и сильнейшие инстинкты его темперамента потрясает столкновение с другими, прямо им противоположными и контрастными. Жизнь, составляющая для него самую большую и безусловную ценность, здесь ставится под вопрос. Ценность жизни принижена крайним выражением одной из сторон индийского взгляда на мир, точнее взгляда из мира, и вообще жизнь не считается самоценной. Здесь повсеместно царствует аскетизм, он здесь почитается превыше всего, он бросает тень на жизненные инстинкты, его адепты призывают человека выйти за пределы телесной сферы и даже за пределы сферы умственной воли и разума. Запад придает чрезвычайное значение силе личности, личной воле, видимому человеку и желаниям и потребностям, диктуемым его натурой. Здесь же, наоборот, все внимание уделяется возвышенному развитию внеличностного, расширению личного до слияния с универсальной волей, до выхода за пределы видимого человека с его ограниченностью. Расцвет ментального и витального эго или, на худой конец, его подчинение большему эго общины есть культурный идеал Запада. А здесь эго рассматривается как главная помеха совершенствованию души, место эго должно быть занято не конкретным общинным «я», но чем-то внутренним, абстрактным, трансцендентным, чем-то выходящим за пределы умственного и физического, но абсолютно реальным. Западный темперамент «раджасичен» – кинетичен, прагматичен, активен, для него мысль всегда должна обращаться в действие, собственно, без этого ценность мысли невелика, разве что ради приятной игры ума. А здесь в качестве примера для подражания предлагается человек «саттвического» склада, умеющий владеть собой, для которого важнее всего спокойствие мысли, духовное знание и внутренняя жизнь, а действие имеет значение не из-за вознаграждения и плодов, а благодаря влиянию на внутренний рост. В этом тоже кроется обескураживающий квиетизм, имеющий своей целью прекращение – или Нирвану – мыслительного процесса и действия в тишине вечного покоя и света. Не приходится удивляться, что критик с жестким западным образом мышления взирает на эти контрасты с глубочайшим неудовлетворением, испытывает к ним антипатию и чуть ли не яростное отвращение.
Но, во всяком случае, как бы далеки ни были эти вещи от его понимания, в них есть нечто возвышенное и благородное. Он может называть их неверными, антирациональными и мрачными, но не может осуждать их за порочность и неблагородство. Последнее возможно только при помощи подтасовок типа тех, с которыми мы сталкиваемся в наиболее безответственных обвинениях мистера Арчера. Они свидетельствуют, скорее, об устаревшем образе мышления, но никак не о «варварстве» культуры, их породившей. Однако, переходя к анализу форм религии, которые ими освещаются и оживляются, он видит чистейшее варварство, дикарскую, невежественную мешанину. Ибо здесь щедро представлено именно то, от чего в собственной культуре он давно и последовательно очищал религию, удовлетворенно именуя образовавшуюся в ней пустоту реформацией, просвещением и рациональным пониманием истинной природы вещей. Здесь же он видит невероятный политеизм, колоссальное нагромождение того, что его разум воспринимает как дичайшие суеверия, беспредельную готовность верить в вещи, ему представляющиеся бессмысленными и иллюзорными. Принято считать, что у индуса три миллиона богов, а то и больше, которые так же плотно населяют многочисленные небеса, как люди единственный земной субконтинент – Индию, при этом индус готов, в случае надобности, еще добавить к этой толпе небожителей. Здесь повсюду храмы, изваяния, жрецы, масса непонятных обрядов и церемоний, каждодневное повторение санскритских мантр и молитв, иные из которых относятся к временам доисторическим, вера во всякого рода сверхъестественные существа и силы, святых, гуру, священные дни, обеты, запреты, жертвоприношения, постоянное соотнесение жизни с силами и воздействиями, которые недоказуемы физически, – вместо рациональной, научно обоснованной зависимости от материальных законов, единственно управляющих существованием смертных. Для западного критика все это просто невнятица и хаос, анимизм, чудовищно запутанный фольклор. Смысл, который вкладывает во все эти проявления индийская мысль, духовное значение увиденного остается вне поля его зрения, вызывает у него недоверие или воспринимается как безумная и пустая символика, изощренная, но бессмысленная. И не в том только дело, что культ кажется пережитком далеких времен или средневековья – он еще занимает несообразное место в жизни. Вместо того, чтобы отвести религии неприметный уголок, где она никому не мешает, индийская мысль притязает – самым нелепейшим образом, поскольку рациональный человек уже навсегда перерос эти притязания – на заполнение всего жизненного пространства.
Было бы чрезвычайно трудно внушить чересчур позитивному среднему европейскому разуму, «переросшему» религиозное сознание или пробирающемуся обратно к нему после еще не вполне завершившегося банкротства рационалистического материализма, что формы индийской религии содержат в себе глубокий смысл и истину. Хорошо сказано – эти формы есть ритмы духа, но кто не ощущает дух, тому не уловить и связи между духом и его ритмами. Каждый индус знает, что боги, которым он поклоняется, это могущественные имена, божественные образы, динамические сущности, живые аспекты единого Бесконечного. Каждое Божество есть форма, или ипостась, или производная сила верховной Троицы, каждая Богиня – форма универсальной Энергии, Силы-Сознания, или Шакти. Но для логического европейского ума монотеизм, политеизм и пантеизм есть непримиримо враждебные концепции; единство, множество, всеобщность не являются и не могут являться различными, но согласующимися аспектами вечной Бесконечности. Вера в единое Божественное существо, которое превыше космоса, которое есть весь космос, которое проявляется через множество божественных форм, – это невнятица, путаница, смешение идей, поскольку синтез, интуитивное прозрение, внутренний опыт не есть сильная сторона этого направленного вовне, сугубо аналитического и логического ума. Для индуса изображение Бога – это физический символ, опора для сверхфизического, основа для встречи вочеловеченного ума и человеческих чувств со сверхфизической силой или присутствием, которому индус поклоняется и с которым желает вступить в контакт. Но средний европеец с трудом верит в бесплотные сущности, а коли таковые есть, то он выделяет их в особую категорию, в иной мир, не связанный с этим, в отдельное существование. Соединение физического со сверхфизическим, с его точки зрения, есть бессмысленная игра ума, допустимая разве что в поэтическом воображении или в романтических грезах.
Обряды, церемонии, культ и система богопочитания индуизма могут быть поняты, только если помнить его фундаментальные характеристики. Прежде всего индуизм есть недогматическая, инклюзивная религия, готовая вобрать в себя даже ислам и христианство, если они выдержат этот процесс. Индуизм вбирал в себя все, с чем сталкивался, если только бывал в состоянии сочетать новые формы с истиной сверхфизических миров и с истиной Бесконечного. В глубине души индуизм всегда понимал, что религия как реальность для масс, а не для горсточки святых и мыслителей, должна апеллировать ко всему существу, ко всему, а не к сверхрациональному и рациональному исключительно. Воображение, эмоции, эстетическое чувство, даже инстинкты и подсознание – все должно быть охвачено религиозным воздействием. Религия должна вести человека к супрарациональному, к духовной истине, опираясь и на просвещенный разум, но ни в коем случае не пренебрегая и всем прочим в нашей сложной природе – человек должен целиком стремиться к Богу. Кроме того, религия должна взять каждого там, где он есть, и одухотворить его доступным ему способом, а не навязывать человеку того, что он пока не в состоянии распознать в качестве подлинной и живой силы. Вот в чем смысл и назначение тех частей индуизма, которые позитивистский интеллект особенно клеймит как иррациональные или антирациональные. Их очевидную необходимость европейский ум так и не понял – или понял, но предпочел пренебречь ею. Он настаивает на «очищении» религии – разумом, а не духом и ее «реформировании» – при помощи разума, а не духа. Сегодня в Европе можно наблюдать результаты очищения и реформирования такого типа. Неизбежным результатом такого невежественного вмешательства становится сначала обеднение религии, а потом ее медленное умирание; больной пал жертвой лечения, хотя мог прекрасно перенести болезнь и поправиться.
Обвинение в недостатке этического содержания чудовищно по своей нелепости, оно полностью противоречит истинному положению дел, но поскольку оно не ново, то объяснение следует искать в одном из типических взаимонепониманий. Литературу и искусство индусов скорее можно обвинить в этической тирании – в них непрестанно повторяется этическая нота. Идея Дхармы наряду с идеей Бесконечного образует главный аккорд: вслед за духом Дхарма представляет собой основу бытия. Едва ли существует этическая идея, которая не была бы акцентирована литературой, представлена в предельно идеальной и императивной форме, подкреплена наставлениями, призывами, притчами, художественными образами, примерами для подражания. Правдивость, достоинство, преданность, верность, отвага, чистота, любовь, долготерпение, самопожертвование, мягкость, способность прощать, сострадание, добронравие, щедрость – вот постоянные темы, понятия, которые считаются первоосновами праведной жизни, сутью Дхармы человека. Буддизм с его возвышенной и благородной этикой, джайнизм с его суровым идеалом самоконтроля, индуизм с блестящими примерами, иллюстрирующими все стороны Дхармы, ничуть не ниже и не хуже этических учений и практики любой другой религии или системы верований; напротив, их требования даже выше, а эффективность больше. Есть множество свидетельств, как индийских, так и иноземных, тому, как практиковались эти добродетели в минувшие времена. Их влияние все еще ощутимо, несмотря на известное вырождение, в особенности коснувшееся чисто воинских качеств, способных достигать полного расцвета только на свободной почве. Легенда об обратном начала формироваться в умах английских ученых христианского толка, которых ввело в заблуждение предпочтение, отданное индийской философией знанию по сравнению с действием как средству спасения души. Они не приняли во внимание или не поняли сути правила, столь хорошо известного всем индийским искателям духа, – чистый саттвический ум и образ жизни являются сами по себе первым шагом к божественному знанию: творящие зло не найдут меня, говорится в Гите. Эти ученые не смогли понять, что знание истины для индийской мысли означает не интеллектуальное ознакомление или приятие, но появление нового сознания и жизнь в соответствии с истиной Духа. Для Запада мораль преимущественно связана с внешним рисунком поведения, для индийского же ума поведение есть один из способов выражения и признак состояния души. Индуизм лишь мимоходом называет заповеди, которым положено следовать, свод моральных законов, он домогается большего – духовной и этической чистоты ума, внешним свидетельством чего могут быть поступки. Он настойчиво, пожалуй даже излишне настойчиво, требует: не убий! – но сопровождает это не менее настойчивым требованием: не поддавайся ненависти, жадности, ярости или злонравию, ибо они побуждают убивать. И еще индуизм признает относительность стандартов – мудрость, слишком непонятная для европейского ума. Ненасилие[41 - Ненасилие (ахимса) объявляется одним из важнейших этических принципов индуизма. В джайнизме и отчасти буддизме считается наиважнейшим принципом.] – высший из законов: ахимса парамо дхармах; вместе с тем этот закон не распространяется на физическое действие воина, при этом однако настойчиво требуя от него милосердия, уважения чужого достоинства, милости к несражающимся, к слабым, к безоружным, к побежденным, к пленным, к раненым, к отступающим; таким образом, индуизм избегает непрактичности абсолютистского требования о сохранении всякой жизни. Непонимание этой мудрой относительности, пожалуй, повинно во многих неправильных истолкованиях. Этическому человеку Запада хочется иметь высокий стандарт как меру совершенства, меньше волнует его вопрос о том, что человек чаще воспринимает такой стандарт, нарушая его, чем соблюдая; индийская этика поднимает планку так же высоко, если не выше, но ее больше занимает правда жизни, чем высокие словеса; индийская этика допускает поэтапный прогресс и готова на низших стадиях удовольствоваться морализаторством в отношении тех, кому еще не доступны самые высокие этические концепции и практика.
Таким образом оказывается, что все обвинения против индуизма либо неверны фактически, либо несостоятельны по природе. Нам остается посмотреть, является ли справедливым – полностью или отчасти – следующее и более распространенное обвинение: тяжкое обвинение индийской культуры в том, что она подавляет жизненные силы, парализует волю, не наделяет человека большой или динамичной силой, не дает ему жизненного стимула, не вносит в человеческую жизнь укрепляющую и облагораживающую мотивацию.
5
Вопрос, стоящий перед нами, заключается в следующем: обладает ли индийская культура достаточной силой, чтобы укрепить и облагородить обычное человеческое бытие? Помимо целей трансцендентальных, есть ли в ней прагматическая, не аскетическая, динамичная ценность, сила для расширения жизни и правильного контроля над ней? Это вопрос первостепенной значимости. Ибо если ничего этого она нам дать не может, то какими бы великими ни были ее иные свершения, она не сможет жить. Она превращается в анормальное великолепие транс-гималайской оранжереи, цветы которой выживают в тепличных условиях субконтинента, но обречены на гибель в разреженном воздухе современной борьбы за жизнь. Антижизненная культура обречена на смерть. Избыточно интеллектуальная или избыточно эфемерная цивилизация, которой недостает мощных жизненных стимулов и мотиваций, обречена на прозябание из-за недостатка жизненных соков и крови. Культура, чтобы постоянно и всесторонне служить человеку, должна давать ему больше, чем некое редкостное трансцендентальное тяготение к выходу за пределы всех ценностей земной жизни. Не может она ограничиться и тем, чтобы украшать долгую стабильность и упорядоченное благоденствие старого, зрелого, человеческого общества любознательностью знания, науки и философских исканий или же ярким светом и блеском искусства, поэзии, архитектуры. Индийская культура все это делала в прошлом для благородной цели. Но культура должна еще пройти проверку прогрессивной жизненной силой. В ней должно быть нечто, вдохновляющее земные старания человека, – объект, стимул, сила развития и воля к жизни. Что бы ни было нам суждено в конце – безмолвие или нирвана, духовное угасание или физическая смерть, нет сомнения, что сам мир есть грандиозный труд могучего Духа Жизни, а человек – нынешний сомнительный венец земли, сражающийся, но все еще далекий от победы герой и исполнитель главной роли в драме жизни. Великая человеческая культура должна с достаточной полнотой понимать это и придавать сознательную и идеальную силу самореализации человека в его великом труде. Недостаточно заложить прочную основу жизни, недостаточно украшать жизнь, недостаточно тянуться к вершинам вне ее пределов – необходимо в такой же мере уделять внимание величию и развитию расы на земле. Игнорирование этой великой промежуточной реальности – серьезнейшее упущение, которое свидетельствует о несостоятельности культуры.
Наши критики утверждают, что весь корпус индийской культуры отмечен печатью именно такой несостоятельности. На Западе уже давно сложилось впечатление, будто индуизм есть целиком метафизическая, устремленная в потустороннее система взглядов, мечтания о чем-то за пределами земного и пренебрежение к тому, что есть здесь и сейчас; мрачное ощущение нереальности земного бытия и опьяненность Бесконечным заставляют его отвернуться от благородства, полнокровия и величия человеческих стремлений и земных трудов. Пусть индийская философия возвышенна, пусть пылок индийский религиозный дух, пусть прочна, симметрична и стабильна ее древняя социальная структура, пусть по-своему хороши индийское искусство и литература, но нет во всем этом соли жизни, дыхания силы воли, страстного стремления жить. Новый Аполлон от журналистики, наш Арчер, направивший свои стрелы на змеиные кольца индийского варварства, не перестает твердить об этом. Но если это справедливо, значит Индия и не могла дать миру ничего великого, влить животворную силу в человеческую жизнь, породить людей могучей воли, сильные личности, жизненные фигуры в искусстве и поэзии, в архитектуре и скульптуре. Именно это ничтоже сумняшеся и излагает адвокат дьявола в недвусмысленных терминах. Он сообщает нам, что для этой религии и философии характерна общая недооценка жизни и земных трудов. Жизнь выглядит безбрежным пространством, в котором поколения вздымаются и опадают так же безвольно и бесцельно, как волны в океане, роль личности сведена на нет, один только Гаутама Будда, великий человек, который, впрочем, «возможно, никогда не существовал», составляет единственный вклад Индии в мировой пантеон, ну можно еще добавить сюда и бледный, безликий образ императора Ашоки. Образы индийской драматургии и поэзии – это нереальные гротескные персонажи или марионетки, управляемые сверхъестественными силами, индийское искусство не связано с реальной жизнью – таков жалкий итог индийской культуры. Всякий, кто знает и чувствует индийскую литературу, кто изучал историю, кто исследовал цивилизацию Индии, увидит в этой оценке грубейшее искажение, злобную карикатуру, нелепую ложь. Однако, на самом деле, таково представление об Индии, сложившееся у европейца, изложенное здесь в крайней и бессовестно примитивной форме, следовательно, как и в предыдущих случаях, мы должны постараться понять, почему разные глаза видят один и тот же объект в совершенно разных красках. В основе – все то же фундаментальное непонимание. Индия жила богатой, блистательной, прекрасной жизнью, но цель этой жизни была отличной от той, которую поставила перед собой Европа. Идея и план жизни оригинальны и единственны в своем роде, они отвечают индийскому темпераменту. Ценности индийской жизни достаточно трудно понять со стороны, напротив, невеждам легко толковать их в превратном свете именно потому, что они слишком возвышенны для обыкновенного, неподготовленного ума и могут оказаться вне пределов его понимания.
Для оценки жизненных ценностей культуры необходимо понимание трех факторов. Прежде всего, это изначальная концепция жизни, затем формы, типы и ритмы, заданные жизни культурой, и наконец, это вдохновение, энергия, сила воплощения в жизнь мотиваций, их проявление через реальную жизнь людей и общества, процветающего под воздействием данной культуры. Сейчас мы, индийцы, очень хорошо знакомы с европейской концепцией жизни, поскольку наши мысли и усилия затемнены ее тенью – если не заполнены ее присутствием. Мы изо всех сил старались ассимилировать все то ценное, что смогли обнаружить в ней, даже реорганизовать себя, в особенности политику, экономику и внешнее поведение, подражая ее формам и ритмам. Европейская концепция заключается в ориентации на Силу, проявляющую себя в материальной вселенной, и Жизнь в ней, едва ли не единственным распознаваемым смыслом которой является человек. Этот антропоцентрический подход не изменился от недавнего усиления роли Науки на фоне тусклого безразличия механической, лишенной сознания Природы. Что касается человека, выделяющегося, таким образом, своей уникальностью из инертности Природы, то весь смысл Жизни заключается в том, чтобы он обрел свет и гармонию через упорядочивающий разум, эффективную рациональную силу, украшающую бытие красоту, высокую утилитарность результатов, жизненные радости и экономическое благосостояние. Свободная сила индивидуального эго и организованная воля эго корпоративного выступают в качестве необходимых факторов. Они очень важны для европейского идеала: развитие личности и эффективно организованная национальная жизнь. Обе силы росли, рвались вперед, подчас выходили из-под контроля. Именно им обязана Европа неспокойным, часто бурным движением своей яркой истории, богатством своего литературного и художественного творчества. Наслаждение жизнью и силой, галоп эгоистических страстей и жизненных радостей стали постоянной, ярко выраженной мотивацией Европы. Ей противостоит противоположная тенденция, стремление направлять жизнь при помощи разума, науки, этики и искусства, где мотивацией является стремление к сдерживающей и гармонизирующей утилитарности. В разные времена брали верх то одна, то другая мотивация. Христианская религиозность внесла собственную тональность, повлияла на одни тенденции, углубила другие. Каждая эпоха и каждый период вносили в первоначальную концепцию свой вклад и силу, обогащая и усложняя ее. В настоящее время восторжествовало чувство корпоративной жизни, которому служит и идея великого интеллектуального и материального прогресса, усиления роли политической и социальной организации на научной основе. Вырабатывается идеал разумной утилитарности, свободы и равноправия или же идеал жесткой организованности и эффективности, скрупулезного и целенаправленного сосредоточения всех возможных сил в упорном непрерывном продвижении ко всеобщему благоденствию. Внешне это стремление Европы выглядит ужасающе поверхностным и механистичным, однако обновленная сила более гуманной идеи снова пытается пробить себе путь, так что, возможно, вскоре человек откажется быть прикованным к колесу им же созданной машины и подчиняться ее требованиям. Во всяком случае, тому, что происходит на нынешней фазе развития, не стоит придавать чрезмерного значения. Общая и постоянная европейская концепция жизни сохраняется – в своих рамках это концепция великая и жизнеутверждающая, но несовершенная, узкая в своей верхней части, придавленная тяжелой крышкой, неширокая по охвату, чересчур приземленная, но вместе с тем вдохновляемая сильным и благородным чувством.
3
Пока что критика не слишком убедительна, и ее острие – если, помимо нежелания правильно понять, таковое имеется – обращается против самого же критика. Высокая оценка роли философии в исследовании глубочайших тайн бытия, обратила действенную философскую мысль к жизни и призвала мыслителей, людей с огромным духовным опытом, с возвышенным образом мысли, с наибольшими знаниями к руководству обществом; верования и догмы подверглись проверке философской мыслью; религия получила в качестве основы духовную интуицию, философское знание и психологический опыт – все это говорит не о варварстве, не о скудной и невежественной культуре, это признаки высочайшего из возможных типов цивилизации. Нет ничего такого, что заставило бы нас склониться перед идолами позитивистского разума или оценить дух и цели индийской культуры ниже духа и целей западной цивилизации, идет ли речь о высотах ее древнего периода рационального просвещения и умозрительной философии или о современном периоде широкого и детального изучения феноменального мира и мощного развития прикладной науки. Индийская культура другая, но она отнюдь не ниже. Скорее, напротив: в ней можно выделить отчетливый элемент превосходства – уникальную возвышенность мотиваций и духовное благородство исканий.
Подчеркнуть величие духа и целей полезно не только потому, что это чрезвычайно важно вообще и является первейшим критерием ценности культуры, но еще и потому, что противник использует преимущество, почерпнутое из двух внешних факторов, чтобы создать искаженный образ и затемнить суть проблемы. Противники располагают огромным преимуществом: они набрасываются на Индию, когда та лежит поверженная в прах, когда в материальном смысле индийская цивилизация будто бы завершилась крахом. Пользуясь своим временным преимуществом, противники позволяют себе выказывать блистательную отвагу – они бьют копытами в пыль и грязь вокруг измученной львицы, плененной сетями охотников, и пытаются уверить мир, будто она никогда не отличалась силой и благородством. Это легкая задача в наш век благородной культуры Разума, Мамоны и Науки, выполняющей роль Молоха, когда наглый идол великой богини по имени Успех пользуется почетом, какой никогда ранее не оказывали ему культурные люди. У противников есть еще более весомое преимущество – они представляют Индию миру в период упадка ее цивилизации, когда после двух тысячелетий блистательного и многостороннего культурного развития она на время утратила все, кроме памяти прошлого и своего пусть надолго подавленного и угнетенного, но вечно живого и ныне мощно возрождающегося религиозного духа.
Мне уже приходилось касаться вопроса о том, что означает это крушение и временный упадок. Возможно, мне придется еще раз вернуться к его более детальному рассмотрению, поскольку именно это обстоятельство стало поводом для осуждения индийской культуры и индийской духовности. Но пока достаточно заметить, что о культуре нельзя судить по ее материальным достижениям, еще меньше пригоден материальный критерий для оценки духовных ценностей. Философская, эстетическая, поэтическая, интеллектуальная Греция пала, а вымуштрованный милитаристский Рим восторжествовал и победил, но никому и в голову не придет по этой причине утверждать, что победоносная имперская нация обладала более развитой цивилизацией и более высокой культурой. Разрушение Еврейского государства не перечеркнуло и не умалило религиозную культуру Иудеи, точно так же, как не возвысила и не оправдала ее коммерческая сметка, выказываемая евреями в диаспоре. Я, разумеется, признаю, как всегда признавала это и индийская философская мысль, необходимость материального и экономического развития и процветания, однако не это составляет самую высокую и существенную часть общего движения человеческой цивилизации. В материальном отношении Индия на протяжении долгого развития своей культуры была равна другим государствам древности или средневековья. Можно сказать, что до нашего времени ни один другой народ не достигал подобного великолепия, богатства, коммерческого процветания, материального комфорта, социальной организации. Об этом свидетельствует история, древние документы, записи очевидцев – отрицание этого означало бы попытку сознательного искажения перспективы, попытку при помощи воображения – или при отсутствии воображения? – ошибочно перенести нынешнюю реальность на реальность прошлого. Великолепие Азии, и не в последнюю очередь Индии, богатства Ормузда и Инда, «варварские врата, окованные золотом» – barbaricae postes squalentes auro, были некогда осуждены менее богатым Западом как знаки варварства. Странно, как поменялись местами знаки – варварскую роскошь и не слишком изящную демонстрацию богатства можно сегодня найти в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, а наготу Индии и мерзость ее нищеты нам тычут в нос, чтобы доказать никчемность индийской культуры.
В древности и в средние века Индия многого добилась в области организации политики, административного правления, обороны и экономики, существующие на сей счет документы могут рассеять незнание непосвященных и опровергнуть критику журналистов или политиков, преследующих собственные интересы. Несомненно, можно говорить также об упадке и слабости, но эти вещи почти неизбежны, если принять во внимание обилие и масштабность проблем, а также условия того времени. Но раздувать эти обстоятельства до обвинений индийской цивилизации в несостоятельности означало бы подвергать ее критике чрезмерно суровой, какую едва ли вынесли бы те немногие цивилизации, конец которых нам известен. Упадок в конце – да, но вследствие общего упадка культуры, а не ее наиболее ценных элементов. Конечное угасание даже наиболее ценных элементов цивилизации еще не доказывает отсутствия в них первоначальной ценности. Судить об индийской цивилизации следует в первую очередь по величественному развитию ее культуры на протяжении тысячелетий, а не по невежественности и слабости нескольких последних веков. О культуре следует судить прежде всего по ее духовной основе, затем – по ее лучшим достижениям и лишь в последнюю очередь – по способности выживать, обновляться и приспосабливаться к новым фазам развития расы и соответственно – к новым условиям. За нищетой, смятением и хаосом временного упадка недоброжелательный наблюдатель отказывается видеть или признать существование спасительной благородной души, благодаря которой цивилизация по-прежнему сохраняет жизнеспособность и может надеяться на могучее и яркое возрождение ее вечного идеала во всем своем величии. Но снова вступает в действие упрямая упругая сила, вековая сила приспособляемости; она не просто встает на защиту, но переходит в наступление. Будущее сулит нации не только выживание, но и победы и завоевания.
Однако наш критик не ограничивается отрицанием высоких целей и величия духа индийской цивилизации, слишком возвышенных, чтобы пострадать от невежественных и предубежденных нападок. Он ставит под вопрос ее доминирующие идеи, отказывает ей в практическом значении для жизни, порочит ее плоды, действенность, характер. Присутствует ли в этом огульном поношении некая критическая ценность или же мы имеем дело с разнузданным выражением непонимания, естественно присущим во многом отличающемуся подходу к жизни и диаметрально противоположной оценке высочайших идеалов и реальностей, свойственных нам? Анализ характера нападок и способа их выражения показывает, что речь идет не более чем об осуждении позитивистским умом, привязанным к заурядным жизненным ценностям, совершенно иных стандартов культуры, кругозор которой простирается за пределы ординарной человеческой жизни, указуя на нечто более великое, соединяя человека с вечным, нетленным и бесконечным. В Индии, говорят нам, нет духовности – весьма удивительное открытие; она, напротив, сумела убить в зародыше всю здравую и жизнеспособную духовность. Мистер Арчер очевидно вкладывает в это понятие собственный смысл, новый, интересный и чрезвычайно западный. До сих пор под духовностью понималось признание чего-то более великого, нежели ум и жизнь – устремленность к чистому, великому, божественному сознанию вне пределов нашей нормальной ментальной и витальной натуры, взлет души человека из ничтожности и порабощенности, тяготение к тому великому, что таится в самом человеке. Такова, по меньшей мере, идея, опыт, которые составляют самую суть индийского образа мысли. Однако рационалист не верит в дух, в этом смысле его величайшие боги – это жизнь, сила человеческой воли и разум. В таком случае духовность – было бы проще и логичнее отказаться от самого этого слова, если отрицается то, на чем оно зиждется, – должна получить другой смысл: тогда ее следует понимать как высокую страсть, как усилие чувств, воли и разума, направленное к конечной цели, но отнюдь не к бесконечному, к тленной цели, но отнюдь не к вечному, к бренной жизни, но отнюдь не к более великой реальности, которая и превосходит, и питает собой внешние проявления жизни. Нам говорят, что здравая и мужественная духовность заключена в тех мыслях и страданиях, которые избороздили идеальное чело Гомера. Отрешенность и сострадание Будды, восторжествовавшего над невежеством и страданием, медитация мыслителя, погруженного в транс созерцанием Вечности, возвысившегося над исканиями мысли до отождествления с высшим Светом, экстаз святого, соединенного любовью чистого сердца с трансцендентной и универсальной Любовью, воля карма-йогина, ставшего выше эгоистических желаний и страстей, достигшего внеличностности божественной, универсальной Воли, – все эти вещи, которые Индия оценила превыше всего, к которым устремлялись самые великие ее души, ни здравыми, ни мужественными не являются. Такова, с позволения сказать, чрезвычайно западная и современная идея духовности. Гомер, Шекспир, Рафаэль, Спиноза, Кант, Карл Великий, Авраам Линкольн, Ленин, Муссолини – вот кто, по всей вероятности, будет фигурировать отныне не только в качестве великих поэтов, художников, героев мысли и поступка, но и в качестве героических типов и примеров духовности. Не Будда, не Христос, не Чайтанья, не Франциск Ассизский или Рамакришна[36 - Рамакришна (1836–1886) – известный бенгальский реформатор индуизма. Стремился примирить различные мировые религии, представляя их как ступени на пути к Богу. Духовный учитель Свами Вивекананды.] – это все либо восточные полуварвары, либо те, кого коснулось женское безумие восточной религии. Впечатление, которое производят подобные высказывания на индийца, похоже на реакцию интеллектуала, услышавшего, что сытная еда, добротная одежда, надежное строительство, качественное преподавание в школе заключают в себе подлинную красоту, и достигаемые этим цели составляют правильный, здравый, мужественный эстетический культ, а литература, архитектура, скульптура и живопись есть просто бессмысленное марание бумаги, безумное вырубание чего-то из камня или женская мазня по полотну; Вобан, Песталоцци, д-р Парр, Ваталь и Бо Брюммель – вот подлинные герои художественного творчества, а не Леонардо да Винчи, Микеланджело, Софокл, Данте, Шекспир или Роден. Пускай здравомыслящие рассудят, уместны ли в сравнении эпитеты и обвинения мистера Арчера против индийской духовности. Мы же наблюдаем здесь противоположность исходных позиций и начинаем осознавать глубину различий между Западом и Индией.
Суть обвинений в адрес практической ценности индийской философии в следующем: она отворачивается от жизни, от природы, от жизненной воли и усилий человека на земле. Она полностью отрицает ценность жизни, ведет не к изучению природы, но уводит от нее. Она лишает личность свободной воли, она утверждает нереальность мира, отрешенность от земных интересов, незначительность сиюминутной жизни в сравнении с бесконечной чередой былых и будущих существований. Это расслабляющая метафизика, смешанная с ложными представлениями пессимизма, аскетизма, кармы и перевоплощения душ – идей, которые все, как одна, пагубны для того, что и есть наивысшая духовность: свободная воля личности. Это преувеличенное до гротеска и ложное представление об индийской культуре и философии достигается сугубо односторонним изложением индийской мысли в сугубо мрачных тонах – манера, которой мистер Арчер, видимо, научился у современных мастеров реализма. Тем не менее, по сути и по духу это достаточно корректное изложение представлений, сформировавшихся у европейцев в прошлом в отношении индийской мысли и культуры – иногда по незнанию, иногда вопреки свидетельствам обратного. На какое-то время европейцы даже сумели внушить эти ошибочные представления образованным индийцам. Для начала лучше всего задать изображаемому верный тон; после этого нам будет легче анализировать ту противоположность менталитета, которая и является причиной такого рода критического отношения.
Заявлять, будто индийская философия отвернулась от изучения природы, значит грубо противоречить фактам и игнорировать блистательную историю индийской цивилизации. Если под природой имеется в виду Природа физическая, то истина в том, что до современной эпохи ни одна страна на свете не уходила так далеко в научных исследованиях и не получала таких замечательных результатов, как древняя Индия. Это истина, это исторические факты, доступные для изучения всем желающим, они с большой убедительностью и весьма подробно были изложены известными индийскими учеными, они уже изучены и подтверждены европейскими исследователями, взявшими на себя труд сравнительного анализа. Индия не только занимала лидирующие позиции в математике, астрономии, химии, медицине, хирургии, во всех областях естественных наук, известных в древние времена, но и наряду с Грецией передала свои знания арабам, через которых Европа восстановила утраченные было навыки исследований, послуживших затем основой для современной науки. Во многих областях знания Индии принадлежит приоритет открытий – взять хотя бы два примера из множества: десятеричная система счисления в математике или представление о Земле как о движущемся теле в астрономии, чала притхиви стхира бхати, «Земля движется, хоть кажется неподвижной», – объявил индийский астроном за много веков до Галилея. Это великое открытие едва ли стало бы возможным для народа, чьи мыслители и ученые отвернулись от природы под влиянием метафизических убеждений. Внимание к подробностям жизни, склонность к тщательнейшему изучению фактов, их систематизированию и объединению в научные отрасли, шастры, своды систем и законов, есть поразительные черты индийского мышления. А это уж во всяком случае указывает на существование тенденции к научному подходу и ни в коем случае не может рассматриваться как признак культуры, способной создать лишь никчемную метафизику.
Совершенно справедливо, что примерно к XIII веку развитие индийской научной мысли резко затормозилось, наступил период темноты и бездеятельности, помешавший ее дальнейшему продвижению вперед или непосредственному участию в могучем рывке современного научного знания. Однако это произошло не в результате усиления метафизических тенденций в обществе, уводящих в сторону от физической природы, а вследствие общего спада интеллектуальной деятельности, поскольку к тому времени перестала развиваться и философская мысль. Последние выдающиеся оригинальные явления в духовной философии относятся приблизительно к одному или двум столетиям, следующим за последними крупными открытиями в науке. Справедливо также, что индийская метафизика не делала попыток, которые безуспешно предпринимала современная философия, понять истину существования главным образом в свете истин естественных наук. Древняя мудрость Индии базировалась больше на внутренней экспериментальной психологии и на глубинном изучении психического – что есть сильнейшая сторона Индии, – однако изучение ума и наших внутренних возможностей, безусловно, представляет собой исследование природы в ее более значительном аспекте, нежели чисто физический. Иначе и быть не могло, ибо Индия искала в существовании духовную истину, впрочем только этим и может заниматься любая действительно великая, прошедшая испытание временем философия. Справедливо также и то, что гармония, установленная индийской культурой между истиной философской и истиной психологической и религиозной, не распространялась в той же мере на истины физической Природы; в те времена естественные науки еще не достигли такого уровня универсальных обобщений, который сделал бы вполне возможным – как происходит сейчас – подобный синтез.
Тем не менее с самого начала, еще с ведических времен, индийская мысль признала единство общих законов и сил, действующих в духовной, психологической и физической сферах. Она открыла и универсальность жизни, осознала эволюцию души в Природе от формы растительной и животной к человеческой, утвердила на основе философской интуиции, духовного и психологического опыта многие положения, заново открываемые сейчас современной наукой при помощи своих методов. Все это не результаты бесплодной, пустопорожней метафизики и не выдумки мечтателей, с тяжеловесной тупостью созерцающих собственный пуп.
Равным образом несправедливо и утверждение, будто индийская культура отрицает ценность жизни, отворачивается от земных интересов и утверждает незначительность сиюминутного. Начитавшись таких европейских рассуждений, можно подумать, что индийская мысль целиком укладывается в рамки нигилистической школы буддизма или в монистические представления Шанкары об иллюзорности мира, что индийское искусство, литература и вся социальная мысль Индии – всего лишь выражение отвращения к неистинности и бренности бытия. Если среднему европейцу известно об Индии именно это, поскольку именно это больше всего интересует и поражает в индийской философии ее европейского исследователя, это еще не означает, что данные философские направления вобрали в себя всю индийскую мысль, сколь бы значительно ни было их влияние. Древняя цивилизация Индии четко строится на четырех аспектах человеческих интересов: прежде всего, желание и наслаждение, затем материальные и экономические цели и потребности разума и тела, далее – этическое поведение и правильный путь индивида и общества, ну и наконец духовное освобождение: кама, артха, дхарма, мокша. Задача культуры и социальной организации заключалась в том, чтобы развивать, удовлетворять, поддерживать в человеке эти ценности и созидать гармонию форм и мотиваций. За исключением редчайших случаев, удовлетворение трех земных целей должно предшествовать четвертой – полнота жизни должна предшествовать восхождению за ее предел. Нельзя уклоняться от исполнения долга по отношению к семье, к общине, к богам, земля должна получить свое, все прочее по сравнению с этим – игра, даже если за ее пределом существует величие небес и покой Абсолюта. Никто не призывал ко всеобщему поспешному уходу в пещеры, к отрешению от повседневности.
Симметричный характер жизни древней Индии и яркое многообразие литературы тех времен никак не свидетельствуют об исключительной устремленности к потустороннему. Огромный корпус санскритской литературы – это литература о человеческой жизни; определенные философские и религиозные произведения провозглашают уход от жизни, но, как правило, даже в них нет пренебрежения к ее ценности. Если индийская мысль придавала высочайшее значение духовному освобождению – а что бы ни говорили позитивисты, духовное освобождение того или иного рода есть самое высокое, на что способен человек, – освобождение не было единственным предметом ее интереса. Индийская мысль в равной степени проявляла интерес к этике, юриспруденции, политике, обществу, науке, искусству и ремеслам, ко всему, что сопряжено с человеческой жизнью. Индия глубоко и проницательно размышляла об этих вещах, Индия писала о них с убежденностью и знанием дела. Возьмем только один пример – какой великолепный памятник политическому и административному гению представляет собой шукра-нити[37 - «Шукра-нити-сара» («Суть блистательной политики») – трактат на санскрите, составленный в первой половине XIX в. Посвящен теории политики и общественного устройства.] и как эта концепция отражает в себе практическую организацию великого цивилизованного народа! Индийское искусство никогда не было целиком иератическим – так может показаться потому, что сохранилось главным образом находившееся в храмах и в пещерных соборах; но, как свидетельствует литература прошлого, как явствует из раджпутской и могольской миниатюрной живописи, индийское искусство было связано со двором и с городом, с культурными идеями и народной жизнью не меньше, чем с храмом и монастырем. Индийская система образования, охватывавшая и женщин и мужчин, была богаче, шире и многосторонней, чем любая другая из существовавших до современного периода. Документы, подтверждающие это, ныне доступны всякому, кто пожелает их изучить. И хватит повторять, на манер попугаев, что индийская цивилизация непрактична, метафизична, пассивна и антижизненна – пора заняться настоящей и грамотной ее оценкой.
Совершенно верно, однако, что индийская культура всегда отводила наивысшее место в человеке тому, что поднимается над земными хлопотами, полагая вершиной человеческих устремлений возвышенный и трудный выход за пределы земного. Духовная жизнь ставилась выше власти и наслаждений, мыслитель почитался более великим, чем человек действия, а человек духа – более великим, чем мыслитель. Душа, живущая в Боге, совершеннее, нежели душа, живущая одним умом, направленным вовне, и только ради устремлений и радостей мысли и бытия. Именно в этом и заключено различие между типично западным и типично индийским менталитетом. Для Запада религиозность есть скорее нечто обретенное, чем прирожденное, и он всегда с некоторой небрежностью относился к своему обретению. Индия всегда верила в существование иных миров, для которых материальный мир всего лишь преддверие. Индия постоянно видела в человеке нечто более великое, чем ум и тело, более великое, чем эго. Ее интеллект, ее сердце всегда склонялись перед близким и постоянным присутствием Вечного, в котором и существует бренная жизнь, к которому все сильнее тянется человек, чтобы превзойти себя. Подлинно индийское отношение к жизни лучше всего передают строки бенгальского поэта, замечательного певца и пылкого почитателя Божественной Матери:
Сколь тучная земля лежит без дела в человеке!
Будь вспахана, златой она дала бы урожай.
Сильнее всего волнует Индию мысль о неиспользуемых духовных возможностях, которыми изо всех земных существ наделен один только человек. Древняя арийская культура принимала весь человеческий потенциал, но эту возможность ставила превыше всего и жизнь делила по степени реализации духовного потенциала на четыре класса и на четыре стадии. Буддизм поначалу неумеренно подчеркивал идеал аскезы и монастырской жизни, отказываясь от постепенности реализации, нарушая жизненное равновесие. Победившая система оставила только две категории людей: семьянин и отшельник, монах и мирянин – это деление сохраняется и по сей день. За нарушение равновесия Дхармы буддизм и критикуется столь резко в «Вишну-пуране», ибо в конечном счете неумеренное преувеличение аскезы и жесткая система противоположностей привели к ослаблению социальной жизни. Но в буддизме была и другая сторона, сторона, обращенная к действию и к сотворению, которая вносила в жизнь новый свет, новый смысл и давала ей новые моральные силы и идеи. На исходе двух величайших тысячелетий индийской культуры появился Шанкара с его возвышенной концепцией иллюзорности земного. Отныне ценность жизни упала, ибо жизнь стала нереальностью или явлением относительным, в конечном счете не стоило и жить, не стоило ни стремиться, ни упорствовать в достижении устремлений. Однако эту догму не все принимали, она встретила сильное противодействие: противники Шанкары даже объявляли его замаскированным буддистом. Позднее на индийскую философскую мысль оказала сильнейшее влияние концепция Майи, однако нельзя сказать, что народная мысль и чувство были полностью сформированы ею. НародуоказаласьближерелигияпылкойлюбвикБожеству, которая рассматривает жизнь как Божественную игру, Лилу, а не как мираж светотеней, искажающий белое безмолвие вечности. Если народ не противился суровому идеалу, то он его очеловечивал. Образованная Индия только недавно согласилась с мыслями английских и немецких ученых, некоторое время полагавших, будто шанкаровская Майявада есть наивысшее достижение нашей философии, если не вся философия, отведя Шанкаре исключительное место. Но и эта тенденция вызывает сейчас растущее неприятие, и речь идет не о замене духа без жизни на жизнь без духа, а об одухотворении ума, жизни и материи. Справедливо однако и то, что аскетический идеал, который в величественном здании нашей древней культуры играл роль тонкого шпиля жизни, вонзавшегося в вечное бытие, позднее превратился в тяжеловесный купол, под бременем отрешенной монументальности которого могло обрушиться все здание.
Но и здесь нам необходим правильный взгляд на вещи, свободный от преувеличений и ложных акцентов. Мистер Арчер втискивает в свой список антижизненных индийских идей также и идеи кармы и реинкарнации. Это просто нелепо, это глупо – говорить о реинкарнации как о доктрине ничтожности сиюминутной жизни по сравнению с бесконечной чередой былых и будущих рождений. Доктрина переселения душ и кармы объясняет нам, что у души есть прошлое, которым и обусловлено наше нынешнее рождение и существование; у души есть будущее, которое формируется нашими нынешними поступками; наше прошлое уже приняло, а наше будущее еще примет форму повторяющихся земных рождений, карма же, то есть наши собственные деяния, есть та сила, которая своей преемственностью и развитием, субъективно и объективно, определяет природу и характер этих повторяющихся рождений. Нет здесь ничего, что принижало бы значение нынешней жизни. Напротив, доктрина открывает огромные перспективы и в очень большой степени подчеркивает ценность усилия и действия. Характер сиюминутного поступка приобретает колоссальное значение, потому что он предопределяет собой не только наше непосредственное, но и более отдаленное будущее. Индийская литература буквально пронизана мыслью, глубоко проникшей и в народное сознание, мыслью о том, что сосредоточение всех душевных сил и энергии на совершаемом действии, тапасья, придает ему чудодейственную силу для достижения желаемого, исполнения материальных или духовных желаний. Несомненно, наша нынешняя жизнь утрачивает исключительное значение, которое мы ей придаем, когда рассматриваем ее только как нечто мимолетное во Времени, нечто, больше никогда не повторимое, как наш единственный шанс, не имеющий никакого продолжения. Но преувеличенная, настойчивая сосредоточенность только на настоящем заключает душу человека в темницу текущего момента, она способна сообщить действию лихорадочную напряженность, но пагубна для покоя, радости и величия духа. Несомненно также, что представление о наших нынешних бедах как о результате наших собственных деяний в прошлом придает индийскому уму спокойствие, примиренность и покорность, которые несдержанный западный разум находит трудными для понимания или вообще непереносимыми. Эти черты могут выродиться в национальную слабость, привести к временам упадка и бед, превратиться в квиетистский фатализм, способный угасить пламя устремленности к возрождению. Однако такой ход событий отнюдь не неизбежен и не он прослеживается в анналах более могучего прошлого нашей культуры. Там акцент делается на действии, на тапасье. Правда, эти настроения со временем усилились под влиянием буддистской догмы о последовательности рождений как о кармической цепи, из которой душа может вырваться только в вечное безмолвие. Доктрина оказала сильное воздействие на индуизм, но ее мрачноватый аспект связан не с самой идеей перевоплощения душ, а с другими элементами, заклейменными виталистической мыслью Европы в качестве аскетического пессимизма.
Пессимизм не является особенностью индийской мысли – это составная часть философии любой развитой цивилизации. Это признак культуры уже состарившейся, плод ума, который долго жил, многое испытал, познал жизнь и обнаружил, что она полна страдания, познал радость и победу и пришел к выводу, что все это суета, суета сует и томление духа, что нет ничего нового под солнцем, а если и есть, то лишь день длится новизна, не более. Пессимизм так же широко распространялся в Европе, как и в Индии, и уж конечно поразительно, что материалистичнейший из народов обращает против индийской духовности обвинение в небрежении ценностью бытия. Ибо что может быть мрачнее материалистического взгляда на человеческую жизнь, как на нечто чисто физическое и эфемерное. В самой аскетичной индийской мысли нет ничего равного черной тоске иных разновидностей европейского пессимизма, этого города беспросветной ночи, где нет радости сейчас и нет надежд на то, что после; и в индийской литературе нет ничего похожего на смертную тоску и страх перед смертью и распадом плоти, которыми буквально пронизана литература Запада. Нота аскетического пессимизма, часто звучащая в христианстве, звучит на чисто западный лад, ибо ее нет в учении самого Христа. Средневековая религия с ее крестом, спасением через страдание, миром, где правит Сатана и плоть, где в загробной жизни человека ожидает адский огонь, полна боли и ужаса, чуждых индийскому уму, которому вообще непонятно, что такое религиозный страх. Земное страдание существует, но за гранью скорби оно растворяется в блаженстве духовного покоя или экстаза. Учение Будды подчеркивало скорбную долю человека и бренность мира, но буддистская Нирвана, которая завоевывается героическим духом морального самообуздания и покойной мудрости, есть состояние вечного блаженства и покоя; в отличие от христианских небес Нирвана доступна не избранным, но каждому; это не тупое облегчение, достигнутое механическим освобождением от боли и страдания, жалкая нирвана западного пессимизма, животное окончание жизни материалиста. Даже доктрина иллюзорности мира не есть священное писание скорбей, но представление о конечной нереальности и радости, и горя, и всего земного существования. Она признает практическую реальность жизни и допускает ее ценности для тех, кто живет в Неведении. И как вся индийская аскетическая философия, эта доктрина тоже открывает перед человеком возможность совершить великое усилие, укрепиться в светоносном знании и могучм усилием воли подняться к абсолютному покою или абсолютному блаженству. Индийская мысль знает благородный пессимизм в отношении повседневной человеческой жизни, глубокое чувство человеческого несовершенства, отвращение к его суетливой невежественности и ничтожности, но другая сторона медали – это непобедимый оптимизм в отношении духовных возможностей человека. Если философ этой школы и не верит в идеал гигантского материального прогресса расы или в совершенствование заурядного приземленного человека, то он убежден в возможности духовного прогресса каждого и в конечном совершенстве, неуязвимом для ударов жизни. И этот пессимизм в отношении жизни не есть единственная тема индийской религиозной мысли: в своих наиболее популярных формах она воспринимает жизнь как Божественную игру и прозревает за условиями земного существования извечную близость каждого человека к Богу. Светоносное восхождение в Божественное всегда считалось венцом самореализации человека, однако вполне посильным для него. Едва ли такая теория бытия может рассматриваться как мрачная или пессимистическая.
Не бывает великой и завершенной культуры без некоторого элементы аскезы, ибо аскетизм означает самоотрицание и победу над собой, которую человек одерживает, подавляя в себе низменное во имя возвышенных свойств своей натуры. Индийский аскетизм – не постоянное напоминание о скорбях и не мучительное умерщвление плоти в мрачном покаянии, но благородное стремление к возвышенной радости и к полному овладению духом. Великая радость победы над собой, светлая радость внутреннего покоя и пылкая радость выхода за пределы своего «я» составляют суть этого переживания. Только ум, поглощенный заботами плоти, без памяти влюбленный во внешние проявления жизни, увлеченный ее суетой и несовершенными радостями, способен отрицать благородство или идеалистическую возвышенность такого аскетизма. Но в этом мире все идеалы в той или иной степени подвергаются искажению. И чем труднее достижим для человека идеал, тем большим искажениям он подвержен; аскетизм может превращаться в фанатичное самоистязание, в примитивное подавление природного, в усталый побег от существования или в ленивый уход от сложностей жизни и исполненное слабости уклонение от обязанностей, налагаемых на мужчину. Когда к аскезе прибегают не избранные единицы, когда ее экстремальные формы пропагандируются для всех и принимаются тысячами неспособных на это усилие людей, тогда ее суть может быть извращена, от нее остается лишь пустая форма, а жизненная сила общества может утратить свою гибкость и целеустремленность. Напрасно было бы делать вид, будто такие вещи не происходили в Индии. Я не принимаю аскетический идеал в качестве окончательного решения проблемы человеческого существования, но даже за его крайними формами скрывается дух, более благородный, чем за крайними формами витализма, являющегося противоположным нашему недостатком западной культуры.
В конечном же счете философия аскетизма и доктрина иллюзорности бытия не первостепенны. Суть, на которой надо настаивать, заключается в том, что индийская духовность в эпоху своего величайшего расцвета и в своих важнейших проявлениях не была ни утомленным квиетизмом, ни монашеством – это была возвышенная попытка человеческого духа подняться над жизнью желаний и витальных удовольствий, достичь высшей точки духовного равновесия, величия, силы, просвещения, божественной реализации, устойчивого покоя и блаженства. Вопрос, вставший перед культурой Индии и лихорадочной секулярной деятельностью современного разума, заключается в следующем: существенна или нет такая попытка для совершенствования человека? А если она существенна, то возникает следующий вопрос: является ли она исключительным уделом редких душ или может стать главным побудительным мотивом великой и совершенной человеческой цивилизации.
4
Правильное суждение о жизненной ценности индийской философии теснейшим образом связано с правильным пониманием жизненной ценности индийской религии; в данной культуре религия и философия сплетены воедино и их немыслимо рассматривать по отдельности. Индийская философия не есть чисто рациональная гимнастика спекулятивной логики, утонченнейший процесс игры мысли и игры слов – в отличие от большей части европейской философии; это организованная интеллектуальная теория упорядоченных интуитивных восприятий всего, что представляет собой душу, мысль, динамичную истину, сердце чувств и сил индийской религии. Индийская религия есть индийская духовная философия в действии и переживании. То, что в религиозной мысли и практике, в огромной, богатой, многообразной, невероятно гибкой, но жестко структурированной системе, именуемой индуизмом, не соответствует этому определению по идее – какой бы ни была практика – должно быть отнесено либо к социальным факторам, либо к ритуальным формальностям, либо к уцелевшим пережиткам древности. Возможно наслоение искажений, извращений истины и смысла вульгарным умом, от чего не свободна мысль и практика ни одной религии. В некоторых случаях это закосневшие привычки, накопившиеся в период застоя, следы посторонних воздействий, ассимилированных в гигантский корпус индуизма. Внутренний принцип индуизма – наиболее терпимой и открытой из всех религиозных систем – отличается от жесткой исключительности таких религий, как христианство или ислам; индуизм всегда был религией синтеза и ассимиляции в той степени, в какой это возможно без утраты собственного своеобразия и законов своего бытия. Индуизм всегда вбирал в себя влияния извне, полагаясь на свои ассимиляционные способности, никогда не угасающие в его духовной сердцевине и преобразующие даже наименее обещающий материал в формы выражения его духа.
Однако прежде чем рассмотреть, что же в индийской религиозной философии приводит в такое бешенство и отчаяние враждебно настроенного западного критика, полезно обратиться и к тому, что он говорит о других аспектах индуизма – древнего, существующего с незапамятных времен, полного жизни, вечно растущего и все ассимилирующего. А говорит он множество немилосердных и несообразных вещей. Это не поток опьяненно-разнузданной брани и клеветы, порождение ненависти, нетерпимости и всего низменного, нечистоплотного и антидуховного, что свойственно для определенного типа «христианской литературы» на эту тему (примером может служить блистательный образчик такого злословия, цитируемый сэром Джоном Вудроффом из писаний мистера Хэролда Бегби), вероятно «мужественных», если мужественно насилие, но ни в коем случае не здравых. Но и в нашем случае налицо все то же нагромождение немилосердных обвинений, грубо преувеличенных там, где для этого находятся хоть какие-то основания, хладнокровно нелогичных в блаженном наслаждении сознательным искажением фактов. Однако из огромного нагромождения все-таки можно выделить значительные и типические антипатии, вызывающие доверие и тех, кто не расположен к критике, и даже иных людей с острым критическим умом. Процесс этот пойдет нам на пользу.
Главная тема нападок – полная иррациональность индуизма. Мистер Арчер мимоходом признает наличие философского, а следовательно, можно предположить, и рационального элемента в религии Индии, но отрицает доминирующие идеи этой религиозной философии как лживые и явно вредные – как он их понимает или думает, будто понимает. Иррациональный характер индуизма он объясняет тем, что индийцы якобы всегда тяготели скорее к форме, нежели к содержанию, скорее к букве, нежели к духу. Можно, разумеется, сказать, что такого рода тяготение есть достаточно универсальное свойство человека не только в религии, но также и в общественных делах, политике, искусстве, литературе и даже в науке. В любой области человеческой деятельности культ формы и забвение духа, тяготение к условному, внешнему, к бездумной догме типичны повсеместно – от Китая до Перу, не исключая и Европу. Европа, где постоянно сражались, убивали, пытали, сжигали, бросали в тюрьмы, подвергали всем преследованиям, какие только может измыслить человеческая глупость и жестокость, – во имя догм, слов, обрядов и форм церковной практики, Европа, где эти вещи по сути заменили собой духовность и религию, едва ли в состоянии похвастаться прошлым, которое позволяло бы ей бросать подобные упреки в лицо Востоку. Но, говорят нам, такого рода склонность нанесла больший ущерб индийской религии, нежели прочим. Вряд ли можно признать существующим Высокий Индуизм, если не считать некоторые мелкие реформаторские секты, а народный индуизм – это чудовищный фольклорный культ, подавляющий и парализующий воображение (правда, опять-таки индийскую мысль скорее можно обвинить в избытке воображения, чем в подавлении его). Основные черты здесь – это анимизм и магия. Индийцы доказали, как они умеют тормозить движение мысли, материализируя, формализируя и принижая свою религию. Если и были в Индии великие мыслители, все равно Индия не сумела создать на основе их мыслей рациональную и облагораживающую религию: вера испанского или русского крестьянина выглядит рациональной и просвещенной по сравнению с тем, как веруют в Индии. Иррационализм, антирационализм составляют постоянный рефрен натужных и надуманных обвинений, главную тему арчеровской песни.
Феномен, больше всего поражающий и возмущающий критика, – это упрямая живучесть древнего религиозного духа и древних религиозных архетипов, не захлестнутых волнами модернизма с его разрушительным утилитарным вольномыслием. Индия, сообщает он нам, продолжает цепляться за вещи, которые давным-давно устарели не только в Европе, но также в Китае и Японии. Религия есть предрассудок, религиозное выражение богопочитания отвратительно для свободного, просвещенного секулярного ума современного человека. Ее повседневная практика отводит Индию далеко за пределы цивилизованного мира. Возможно, будь эта практика ограничена приличествующим посещением церкви по воскресеньям, брачными и похоронными обрядами, короткой молитвой перед принятием пищи, она могла бы быть сочтена гуманной и терпимой! В том же виде, в каком она существует, – это просто великий анахронизм в современном мире. Тридцать столетий не расчищались эти завалы, это язычество – самое настоящее язычество в неотфильтрованном виде, склонное скорее к усугублению своей дремучести, нежели к просвещению, – все это ставит индуизм куда ниже всех прочих вероисповеданий на свете. И тут же предлагается оригинальный выход из положения. В Европе язычество было уничтожено христианством; поскольку незамедлительный или даже скорый триумф скептического свободомыслия едва ли возможен, то нам, необразованным, испорченным, нечистым индусам, предлагается в качестве временной меры перейти в христианство, хотя в ярком свете позитивистского разума христианство тоже выглядит жалким иррационализмом, темным и деформированным, но все равно христианство, особенно в его протестантском варианте, может стать хорошим подспорьем на пути к благородному свободомыслию и незапятнанной чистоте атеизма и агностицизма. Если же нельзя надеяться даже на такую малость, вопреки многочисленным обращениям в христианство во время голода, то по крайней мере следует как-то отфильтровать индуизм, а пока не будет проделана эта гигиеническая процедура, Индия не может быть равноправным партнером в среде цивилизованных народов.
Кстати, обвинение в иррационализме и сопутствующее обвинение в язычестве сопровождается еще и третьим, самым убийственным – мы и наша религиозная культура не знаем, что такое мораль и этика. Даже Европа сейчас все в большей степени начинает ощущать, что не разум есть последнее слово в человеке, не разум открывает единственный суверенный путь к истине и уж, конечно, он не единственный судия религиозной и духовной истины. Обвинения в язычестве тоже не решают вопроса, ибо многие образованные умы прекрасно понимают, сколько великого, истинного и прекрасного было в тех религиях древности, которые христианство в своем невежестве огульно порицает. Нельзя сказать и что мир так уж выиграл от утраты древних форм и мотиваций. Однако какой бы ни была человеческая практика – а в этом отношении обычный человек представляет собой странное соединение искреннего, но совершенно бессильного, едва удерживающегося на грани приличий, потенциально этического существа и наполовину ханжеского, лгущего себе фарисея – к моралистическим предубеждениям взывать можно всегда. Все религии высоко вздымают знамя моральности, и человек – неважно, религиозный или секулярно мыслящий – заявляет о своем следовании этим стандартам или хотя бы признает их существование, за исключением разве что бунтарей и циников. Таким образом, вышеупомянутое обвинение попадает в разряд самых сильных предубеждений. Самозванный прокурор, чью филиппику мы рассматриваем, не стесняет себя рамками добросовестности и умеренности. Он обнаружил, что индуизм – религия не облагораживающая и даже не помогающая укреплению моральности, и, хотя в ней много рассуждений о добродетели, она никогда не считала моральное воспитание одной из своих функций. Религия, усиленно проповедующая добродетель, но отказывающаяся от морального воспитания верующих, – это похоже на квадрат, не имеющий права на квадратность. Но оставим это. Если индус относительно свободен от самых низких западных пороков – пока свободен, до той поры, пока он не вошел в «круг цивилизации» в результате принятия христианства или как-то еще – то вовсе не потому, что он особо этичен по натуре, а лишь потому, что не сталкивается с этими пороками. Он живет в социальной системе, построенной на варварской идее Дхармы, включающей в себя божественные и человеческие, всеобщие и индивидуальные, этические и социальные предписания, которые со всех сторон ограждают его и глупейшим образом мешают ему сбиться с пути истинного – лишают его тех возможностей, которые так щедро предлагает западная цивилизация! Тем не менее, как нам ничтоже сумняшеся сообщают, индуизм по своему характеру – который есть и характер народа – прискорбно тяготеет ко всему уродливому и болезненному! На этой высокой ноте бесстыдного злословия мы оставим мистера Арчера бесноваться над телом якобы поверженного врага, обратившись к выяснению глубинных причин его отвращения и злобы.
Две характерные черты отличают средний европейский ум – ибо мы должны в данном случае оставить в стороне великие души, великих мыслителей, отдельные периоды повышенной сверх нормы религиозности и сосредоточить внимание на доминирующих тенденциях. Двумя характерными особенностями являются культ ищущего, определяющего, эффективного, практического разума и культ жизни. Великие идеи европейской цивилизации, греческой культуры, римского мира до Константина, Возрождения, современности с двумя ее колоссальными идолами: Индустриализмом и Естественной Наукой – обрушились на Европу волной удвоенной силы этих культов. Всякий раз, как волна откатывалась, европейский ум погружался в смятение, тьму и ослабевал. Христианство не сумело одухотворить Европу, хоть и гуманизировало ее в определенных этических аспектах, именно потому, что шло против двух этих доминирующих инстинктов – отрицало превосходство разума и предавало анафеме удовлетворенную или насыщенную полноту жизни. Азия же никогда не устанавливала превосходство разума, не было там и культа жизни, соответственно, речи не могло быть о несоответствии этих двух сил и религиозного духа. Великие азиатские эпохи, мощные кульминации азиатских цивилизаций и культур – высокое ведическое начало Индии, блистательное духовное движение времен Упанишад, широкий разлив буддизма, веданты, санкхьи, пуранических[38 - Пураны («старые истории») обычно состоят из генеалогий царей, космологических мифов и пр. Составлены примерно в III–X вв. Считаются «пятой ведой», доступны женщинам и членам низших каст. В пуранах эмоциональное отношение к Богу, стремление установить с ним «према», любовь, нередко замещают традиционные ритуалы и культовую практику. «Вишну-пурана» (I–II в.) и «Бхагавата-пурана» (Х в.) были особенно популярны у вайшнавов.] и тантристских культов, расцвет вишнуизма[39 - Вишнуизм — одно из направлений индуизма. Объединяет ряд сект, признающих бога Вишну как верховное божество. Обычно почитают его в виде аватаров (воплощений). Число аватаров в вишнуизме варьируется; чаще всего говорят о десяти перевоплощениях. Обычно вишнуиты почитают Вишну в виде двух его аватаров – Кришны или Рамы.] и шиваизма[40 - Шиваизм – одно из направлений индуизма, названное по имени главного божества (Шивы). Истоки шиваизма коренятся в верованиях автохтонного доарийского населения. В шиваизме сохранились пережитки древнего культа плодородия. С ним связаны представления о творческом начале всего живого в природе и почитание мужских и женских детородных органов (лингама и йони).] в государствах Юга – все это неизменно приходило вместе со светом духа, с устремленностью религиозной или религиозно-философской мысли к вершинам, к благороднейшей реальности, к богатству озарений и опыта. В эти же периоды наблюдался расцвет интеллектуальной деятельности, науки, поэзии, искусств и материальной жизни. Напротив, всякий упадок духовности приводил к ослаблению и других аспектов жизни, к симптомам снижения деятельности, иногда и к развалу. Это и есть ключ к пониманию расхождений между Востоком и Западом.
Человек должен тянуться к духу – даже если не дотягивается – иначе он лишается источника силы. Однако есть различные подходы к этим тайным силам. Похоже, будто Европе требуется пробиваться через жизнь и разум, обнаруживая духовную истину, как их венец и озарение; Европа не может силой взять царствие небесное, как призывал людей Христос. Такая попытка сбивает Европу с толку, туманит ее разум, вступает в противоречие с ее жизненными инстинктами и приводит к бунту, к отрицанию, возвращает к собственным законам жизни. Азия же, или во всяком случае Индия, естественно живет духовными наитиями, и только они вызывают к действию высшие силы ее ума и жизни. Два континента – как две половинки единой человеческой сферы, и, прежде чем соединиться и сойтись воедино, каждая должна двигаться к прогрессу и кульминации своего духа по законам собственного существования, в соответствии с собственной Дхармой. Односторонний мир был бы обеднен однообразием и монотонностью одной культуры, необходимо разнообразие путей продвижения, прежде чем мы поднимем головы к той бесконечности духа, где свет разлит достаточно широко, чтобы соединить всех и примирить всех на высочайших путях мышления, чувствования и существования. Вот истина, которую дружно игнорируют и яростный индийский противник материалистической Европы, и надменный, холодный критик всего азиатского или индийского. На самом деле, вопрос не в различиях между варварством и цивилизованностью, ибо массы людей всегда варвары, старающиеся цивилизовать себя. Это лишь одно из динамических различий, необходимых, чтобы расширяющаяся сфера всечеловеческой культуры приобрела завершенность.
Пока что, к сожалению, различия выливаются в постоянное враждебное противостояние подходов как в области религии, так почти во всем прочем, а противостояние приводит к большей или меньшей невозможности взаимного понимания, даже к откровенной враждебности и взаимному отвращению. Западный ум ставит во главу угла жизнь, прежде всего в ее внешних проявлениях, все видимое, ощутимое, досягаемое. Внутренняя жизнь рассматривается только как отражение внешнего мира в разуме, при этом разум играет роль начала, придающего вещам форму, осведомленного критика, строителя, доводящего до кондиции материал из внешнего мира, поставляемый Природой. Все, чем поглощена Европа, – это сиюминутность бытия, полное использование земной жизни – в ней самой и ради нее самой. Жизнь личности, продолжение физического существования, развитие ума и знания составляет первейший всепоглощающий интерес Европы. Даже от религии Запад требует, чтобы ее цели и задачи были подчинены утилитарным потребностям зримого мира. Греки и римляне видели в религиозных культах освящение жизни «полиса» или силу, укрепляющую прочность и стабильность Государства. Средние века, когда христианская идея достигла своих высот, можно рассматривать как период междуцарствия, то был период, когда Запад пытался ассимилировать восточный идеал в свои эмоции и разум. Однако постоянно жить им Запад так и не сумел, он был вынужден отбросить его или оставить лишь в качестве объекта словесного почитания. В настоящее время Азия тоже переживает период междуцарствия, период, который характеризуется ее попытками, вопреки своей бунтарской душе и темпераменту, ассимилировать в свой интеллект и образ жизни мировоззрение и приземленный идеал Запада. Можно с уверенностью предсказать, что Азия тоже не сумеет долго или устойчиво жить по законам чужой жизни. Но в Европе даже христианская идея, в своем чистом виде отмеченная ярко выраженной тенденцией к интроспекции и бескомпромиссной направленностью к миру иному, вынуждена была подчиниться потребностям западного темперамента, а сделав это, утратила свое внутреннее царство. Одержал победу подлинный темперамент Запада, который во все возрастающей степени рационализировал, секуляризировал и почти уничтожил религиозный дух. Религия становилась все более бледной тенью, место которой отводилось в дальнем углу жизни, в еще более тесном уголке природы, где она и ожидала смертного приговора или ссылки, а перед вратами побежденной Церкви победоносным маршем проходили силы секуляризированной жизни, позитивистского разума и материалистической науки.
Секуляристская тенденция есть неизбежное последствие культа жизни и разума, отрешенного от взгляда глубоко внутрь себя. В древней Европе религия и жизнь не были разделены, но лишь потому, что в разделении не было нужды. Европейская религия сразу по освобождении от мистического восточного элемента превратилась в секуляризированный институт, не интересовавшийся тем, что глубже определенной грани за пределами физического, и служивший удобным орудием для управления земной жизнью. При этом сохранилась тенденция истреблять при помощи философии и разума остатки былого религиозного духа, изгонять легкие тени, отбасываемые распростертыми крылами недосягаемых для разума таинств, и выбираться на яркий солнечный свет логического и практического интеллекта. Современная Европа пошла еще дальше, почти до самого конца пути. Чтобы окончательно отделаться от навязчивой христианской идеи, которая, как и вся религиозная мысль Востока, была тесно переплетена с жизнью и, вопреки преградам, возникавшим на ее пути из-за неисправимой витальной натуры человека животного, направлена на одухотворение всего его существа и всех его действий, современная Европа отделила религию от жизни, от философии, от искусства и науки, от политики, от значительной части социального действия и социального бытия. Европа также секуляризовала и рационализировала этические потребности так, что они могли отныне сохранять собственную основу без помощи религиозных санкций или мистических устремлений. Так возникла антиномическая тенденция, снова и снова дающая о себе знать в европейской истории и заметно проявляющаяся в настоящее время. Эта сила тоже стремится к устранению этики, правда, не поднявшись выше этических норм в абсолютную чистоту духа, как это происходит в мистическом опыте, но пытаясь сокрушить ее барьеры снизу и предоставляя желанную свободу игре жизненного начала. Религия осталась в стороне от этой эволюции – обедненная система представлений и ритуалов, которую можно принимать или не принимать, поскольку от этого мало что меняется в движении человеческого ума и жизни. Ее проникающая действенная сила свелась к малозначащему минимальному влиянию, к поверхностному окрашиванию догматов, сантиментов и эмоций – вот все, что осталось в результате упомянутого процесса. Интеллектуализм настоял на том, чтобы даже жалкий уголок, все еще ей отведенный, был как можно ярче освещен прожекторами разума. Тенденция заключалась в том, чтобы свести на нет не только инфрарациональное, но равным образом и супрарациональное прибежище религиозного духа. Символика древнего языческого многобожия воплотила в прекрасные фигуры идею божественного Присутствия, наличия сверхъестественной Жизни и Силы во всей Природе, в каждой частичке жизни и материи, во всем животном существовании и в умственной деятельности человека, но эта идея, которая секуляризованному разуму представляется просто интеллектуализированным анимизмом, уже была беспощадно отметена. Божество покинуло землю и поселилось где-то в заоблачном далеке иных миров, в небесном царстве святых и бессмертных духов. А почему должны существовать иные миры? Я признаю, восклицал прогрессирующий интеллект, только вот этот материальный мир, удостоверяемый нашим разумом и ощущениями. Туманная тусклая абстракция духовного существования без места проживания, без ощущения динамичной близости была оставлена как отмирающий пережиток смутных духовных ощущений или фантастических иллюзий прошлого. Остался пустой, чуть тепленький теизм, рационализированное христианство без имени Христа и без его присутствия. Но к чему критическому свету интеллекта оставлять даже это? Разум или Сила, именуемая Богом за неимением лучшего названия, представленная моральным и физическим законом в материальной вселенной – этого совершенно достаточно для любого рационального ума, и, таким образом, мы уже получаем деизм, пустопорожнюю интеллектуальную формулировку. А зачем вообще нужен Бог? Разум и ощущения сами по себе не свидетельствуют о существовании Бога, они от силы могут счесть его правдоподобной гипотезой. Но нет нужды и в недоказанных гипотезах, ибо вполне достаточно Природы, к тому же она – единственное, что нам известно. Таким путем мы с неизбежностью приходим к атеистическому или агностическому культу секуляризма, к высшей точке отрицания, к зениту позитивного миропонимания. А здесь уже могут обосноваться разум и жизнь, они могут удовлетворенно править побежденным миром – если только это неудобное, скрытое, двусмысленное, бесконечное Нечто оставит их в покое в будущем!
Такого рода темперамент, такого рода миропонимание, разумеется, не может терпеть искренней устремленности ко всему выходящему за пределы обычного разума и бесконечному. Другое дело – игра в приятные галлюцинации (в умеренных рамках), невинное развлечение спекулятивного ума или художественного воображения, при условии, что она не слишком серьезна и не затрагивает жизни. Но аскетичность и тяготение к потустороннему непереносимы для такого темперамента и пагубны для такого миропонимания. Жизнь есть нечто, чем следует владеть, чем следует наслаждаться – рационально или страстно в зависимости от склонностей, но эта земная жизнь – то единственное, что нам известно, наш единственный удел. В самом крайнем случае допустим интеллектуальный и этический аскетизм, простота, скромная жизнь и высокие мысли, но экстатический духовный аскетизм – это оскорбление для разума, почти преступление. Пессимизм виталистического типа – это лишь сиюминутное настроение, ибо такой пессимист признает, что жизнь есть зло, но ее надо прожить, и не обрубает ее корни. Очевидно однако, что правильный подход заключается в том, чтобы принимать жизнь как она есть, стараться взять как можно больше от нее либо практически, упорядочивая смешанные в ней добро и зло, либо идеально – в надежде на относительное совершенство. Если есть смысл в духовности, то он только в труде возвышенного ума, в рациональной воле, ограниченной красоте и моральном добре, при помощи которых надо постараться наилучшим образом использовать ту жизнь, какая есть, но совершенно ни к чему понапрасну пытаться заглянуть за ее пределы в поиске некоего нечеловеческого, недосягаемого, бесконечного или абсолютного удовлетворения. Если религии суждено выжить, то пусть ее функцией станет служение вот такой духовной цели, наставление в хорошем поведении, пусть она вносит красоту и чистоту в наше бытие, но пусть она учит только этой мужественной и здравой духовности, пусть остается в рамках практического разума и земного интеллекта. Без сомнения, мое описание выделяет основные направления и оставляет в стороне отклонения как в ту, так и в другую сторону, но отклонения (порой самого крайнего характера) – в природе человека. И все же мне кажется, что в этом описании нет ничего несправедливого или преувеличенного, это описание четкой тенденции и характерного западного темперамента с его мировоззрением и нормальной уравновешенностью его интеллекта. Это самодостаточная статичная уравновешенность, если она не переходит в стремление превзойти свои возможности, к которому естественно склоняется человек по достижении высшей точки своей обычной натуры. Ибо в его натуре скрыта сила, которая должна либо найти себе выход, либо распылиться и перестать существовать; пока человек сам не обнаружит это, он не обретет устойчивого равновесия и надежной обители для своего духа.
Когда же такой западный ум приходит в соприкосновение со все еще живой силой индийской религии, мысли, культуры, он обнаруживает, что все его стандарты отвергнуты или превзойдены ею, все, что он почитает, отодвинуто на задний план, а то, что он отбросил за ненадобностью, здесь по-прежнему в почете. Философия здесь основывается на непосредственной реальности Бесконечного и развивается под настоятельным давлением Абсолютного. И это не просто темы для размышлений, но реальное Присутствие и постоянная Сила, которая требует человеческой души и призывает ее. Здесь ум осознает Божество в Природе, в человеке, в животном и в неодушевленном предмете, видит Бога в начале, Бога посредине, Бога в конце, Бога повсюду. И все это не просто допустимая поэтическая игра воображения, которую незачем принимать всерьез, это мировоззрение, которым следует жить, которое нужно реализовать, обратить в основу поступков, содержание мыслей, чувств и поведения! Этой цели служили целые дисциплины, которые и по сей день практикуются людьми! Люди жертвуют своими жизнями в стремлении к верховному Существу, к универсальному Божеству, к Единому, к Абсолюту, к Бесконечному. Во имя этой нематериальной цели они по сей день готовы отказаться от жизненных благ, расстаться с обществом, с домом, с семьей, со всем, что им дорого и что для рационального ума обладает существенной и определимой ценностью! Это целая страна, до сих пор ярко окрашенная шафранным цветом отшельнического одеяния, где Запредельное до сих пор проповедуется как истина, а люди живут верой в иные миры, в перевоплощение душ, во все эти устарелые идеи, истинность которых невозможно установить с помощью инструментария естественных наук. Здесь опыт йоги признается столь же достоверным, пожалуй даже более достоверным, чем данные лабораторных экспериментов. Ну что это, как не мысли о немыслимом, поскольку даже Запад уже перестал размышлять об этом? Не попытка познать непознаваемое, которое современный ум отказывается даже пытаться познать? А эти иррациональные полудикари все еще пытаются превратить нечто совершенно нереальное в цель жизни, в руководящую силу, в формообразующую искусства, культуры и образа жизни. Но искусство, культура и образ жизни, подсказывает нам рациональный ум, есть вещи, которых, по логике, совершенно не должны касаться духовность и религия, поскольку они-то как раз относятся к области конечного и могут базироваться только на интеллектуальном разуме, на практическом подходе и на условиях физической природы. Здесь и открывается перед нами в первородном виде пропасть, разделяющая два разных образа мышления, и пропасть эта кажется непреодолимой. Хотя, пожалуй, индийский ум способен в достаточной степени понять, если не принять, позитивистский подход западного разума, но сам он при этом останется для Запада если не проклятием, то чем-то совершенно ненормальным и невнятным. Еще более невыносимы для западного критика плоды воздействия индийского религиозно-философского мировоззрения на жизнь. Его разум и без того оскорблен индийской склонностью к супрарациональному, которая представляется ему антирациональностью, а тут еще и сильнейшие инстинкты его темперамента потрясает столкновение с другими, прямо им противоположными и контрастными. Жизнь, составляющая для него самую большую и безусловную ценность, здесь ставится под вопрос. Ценность жизни принижена крайним выражением одной из сторон индийского взгляда на мир, точнее взгляда из мира, и вообще жизнь не считается самоценной. Здесь повсеместно царствует аскетизм, он здесь почитается превыше всего, он бросает тень на жизненные инстинкты, его адепты призывают человека выйти за пределы телесной сферы и даже за пределы сферы умственной воли и разума. Запад придает чрезвычайное значение силе личности, личной воле, видимому человеку и желаниям и потребностям, диктуемым его натурой. Здесь же, наоборот, все внимание уделяется возвышенному развитию внеличностного, расширению личного до слияния с универсальной волей, до выхода за пределы видимого человека с его ограниченностью. Расцвет ментального и витального эго или, на худой конец, его подчинение большему эго общины есть культурный идеал Запада. А здесь эго рассматривается как главная помеха совершенствованию души, место эго должно быть занято не конкретным общинным «я», но чем-то внутренним, абстрактным, трансцендентным, чем-то выходящим за пределы умственного и физического, но абсолютно реальным. Западный темперамент «раджасичен» – кинетичен, прагматичен, активен, для него мысль всегда должна обращаться в действие, собственно, без этого ценность мысли невелика, разве что ради приятной игры ума. А здесь в качестве примера для подражания предлагается человек «саттвического» склада, умеющий владеть собой, для которого важнее всего спокойствие мысли, духовное знание и внутренняя жизнь, а действие имеет значение не из-за вознаграждения и плодов, а благодаря влиянию на внутренний рост. В этом тоже кроется обескураживающий квиетизм, имеющий своей целью прекращение – или Нирвану – мыслительного процесса и действия в тишине вечного покоя и света. Не приходится удивляться, что критик с жестким западным образом мышления взирает на эти контрасты с глубочайшим неудовлетворением, испытывает к ним антипатию и чуть ли не яростное отвращение.
Но, во всяком случае, как бы далеки ни были эти вещи от его понимания, в них есть нечто возвышенное и благородное. Он может называть их неверными, антирациональными и мрачными, но не может осуждать их за порочность и неблагородство. Последнее возможно только при помощи подтасовок типа тех, с которыми мы сталкиваемся в наиболее безответственных обвинениях мистера Арчера. Они свидетельствуют, скорее, об устаревшем образе мышления, но никак не о «варварстве» культуры, их породившей. Однако, переходя к анализу форм религии, которые ими освещаются и оживляются, он видит чистейшее варварство, дикарскую, невежественную мешанину. Ибо здесь щедро представлено именно то, от чего в собственной культуре он давно и последовательно очищал религию, удовлетворенно именуя образовавшуюся в ней пустоту реформацией, просвещением и рациональным пониманием истинной природы вещей. Здесь же он видит невероятный политеизм, колоссальное нагромождение того, что его разум воспринимает как дичайшие суеверия, беспредельную готовность верить в вещи, ему представляющиеся бессмысленными и иллюзорными. Принято считать, что у индуса три миллиона богов, а то и больше, которые так же плотно населяют многочисленные небеса, как люди единственный земной субконтинент – Индию, при этом индус готов, в случае надобности, еще добавить к этой толпе небожителей. Здесь повсюду храмы, изваяния, жрецы, масса непонятных обрядов и церемоний, каждодневное повторение санскритских мантр и молитв, иные из которых относятся к временам доисторическим, вера во всякого рода сверхъестественные существа и силы, святых, гуру, священные дни, обеты, запреты, жертвоприношения, постоянное соотнесение жизни с силами и воздействиями, которые недоказуемы физически, – вместо рациональной, научно обоснованной зависимости от материальных законов, единственно управляющих существованием смертных. Для западного критика все это просто невнятица и хаос, анимизм, чудовищно запутанный фольклор. Смысл, который вкладывает во все эти проявления индийская мысль, духовное значение увиденного остается вне поля его зрения, вызывает у него недоверие или воспринимается как безумная и пустая символика, изощренная, но бессмысленная. И не в том только дело, что культ кажется пережитком далеких времен или средневековья – он еще занимает несообразное место в жизни. Вместо того, чтобы отвести религии неприметный уголок, где она никому не мешает, индийская мысль притязает – самым нелепейшим образом, поскольку рациональный человек уже навсегда перерос эти притязания – на заполнение всего жизненного пространства.
Было бы чрезвычайно трудно внушить чересчур позитивному среднему европейскому разуму, «переросшему» религиозное сознание или пробирающемуся обратно к нему после еще не вполне завершившегося банкротства рационалистического материализма, что формы индийской религии содержат в себе глубокий смысл и истину. Хорошо сказано – эти формы есть ритмы духа, но кто не ощущает дух, тому не уловить и связи между духом и его ритмами. Каждый индус знает, что боги, которым он поклоняется, это могущественные имена, божественные образы, динамические сущности, живые аспекты единого Бесконечного. Каждое Божество есть форма, или ипостась, или производная сила верховной Троицы, каждая Богиня – форма универсальной Энергии, Силы-Сознания, или Шакти. Но для логического европейского ума монотеизм, политеизм и пантеизм есть непримиримо враждебные концепции; единство, множество, всеобщность не являются и не могут являться различными, но согласующимися аспектами вечной Бесконечности. Вера в единое Божественное существо, которое превыше космоса, которое есть весь космос, которое проявляется через множество божественных форм, – это невнятица, путаница, смешение идей, поскольку синтез, интуитивное прозрение, внутренний опыт не есть сильная сторона этого направленного вовне, сугубо аналитического и логического ума. Для индуса изображение Бога – это физический символ, опора для сверхфизического, основа для встречи вочеловеченного ума и человеческих чувств со сверхфизической силой или присутствием, которому индус поклоняется и с которым желает вступить в контакт. Но средний европеец с трудом верит в бесплотные сущности, а коли таковые есть, то он выделяет их в особую категорию, в иной мир, не связанный с этим, в отдельное существование. Соединение физического со сверхфизическим, с его точки зрения, есть бессмысленная игра ума, допустимая разве что в поэтическом воображении или в романтических грезах.
Обряды, церемонии, культ и система богопочитания индуизма могут быть поняты, только если помнить его фундаментальные характеристики. Прежде всего индуизм есть недогматическая, инклюзивная религия, готовая вобрать в себя даже ислам и христианство, если они выдержат этот процесс. Индуизм вбирал в себя все, с чем сталкивался, если только бывал в состоянии сочетать новые формы с истиной сверхфизических миров и с истиной Бесконечного. В глубине души индуизм всегда понимал, что религия как реальность для масс, а не для горсточки святых и мыслителей, должна апеллировать ко всему существу, ко всему, а не к сверхрациональному и рациональному исключительно. Воображение, эмоции, эстетическое чувство, даже инстинкты и подсознание – все должно быть охвачено религиозным воздействием. Религия должна вести человека к супрарациональному, к духовной истине, опираясь и на просвещенный разум, но ни в коем случае не пренебрегая и всем прочим в нашей сложной природе – человек должен целиком стремиться к Богу. Кроме того, религия должна взять каждого там, где он есть, и одухотворить его доступным ему способом, а не навязывать человеку того, что он пока не в состоянии распознать в качестве подлинной и живой силы. Вот в чем смысл и назначение тех частей индуизма, которые позитивистский интеллект особенно клеймит как иррациональные или антирациональные. Их очевидную необходимость европейский ум так и не понял – или понял, но предпочел пренебречь ею. Он настаивает на «очищении» религии – разумом, а не духом и ее «реформировании» – при помощи разума, а не духа. Сегодня в Европе можно наблюдать результаты очищения и реформирования такого типа. Неизбежным результатом такого невежественного вмешательства становится сначала обеднение религии, а потом ее медленное умирание; больной пал жертвой лечения, хотя мог прекрасно перенести болезнь и поправиться.
Обвинение в недостатке этического содержания чудовищно по своей нелепости, оно полностью противоречит истинному положению дел, но поскольку оно не ново, то объяснение следует искать в одном из типических взаимонепониманий. Литературу и искусство индусов скорее можно обвинить в этической тирании – в них непрестанно повторяется этическая нота. Идея Дхармы наряду с идеей Бесконечного образует главный аккорд: вслед за духом Дхарма представляет собой основу бытия. Едва ли существует этическая идея, которая не была бы акцентирована литературой, представлена в предельно идеальной и императивной форме, подкреплена наставлениями, призывами, притчами, художественными образами, примерами для подражания. Правдивость, достоинство, преданность, верность, отвага, чистота, любовь, долготерпение, самопожертвование, мягкость, способность прощать, сострадание, добронравие, щедрость – вот постоянные темы, понятия, которые считаются первоосновами праведной жизни, сутью Дхармы человека. Буддизм с его возвышенной и благородной этикой, джайнизм с его суровым идеалом самоконтроля, индуизм с блестящими примерами, иллюстрирующими все стороны Дхармы, ничуть не ниже и не хуже этических учений и практики любой другой религии или системы верований; напротив, их требования даже выше, а эффективность больше. Есть множество свидетельств, как индийских, так и иноземных, тому, как практиковались эти добродетели в минувшие времена. Их влияние все еще ощутимо, несмотря на известное вырождение, в особенности коснувшееся чисто воинских качеств, способных достигать полного расцвета только на свободной почве. Легенда об обратном начала формироваться в умах английских ученых христианского толка, которых ввело в заблуждение предпочтение, отданное индийской философией знанию по сравнению с действием как средству спасения души. Они не приняли во внимание или не поняли сути правила, столь хорошо известного всем индийским искателям духа, – чистый саттвический ум и образ жизни являются сами по себе первым шагом к божественному знанию: творящие зло не найдут меня, говорится в Гите. Эти ученые не смогли понять, что знание истины для индийской мысли означает не интеллектуальное ознакомление или приятие, но появление нового сознания и жизнь в соответствии с истиной Духа. Для Запада мораль преимущественно связана с внешним рисунком поведения, для индийского же ума поведение есть один из способов выражения и признак состояния души. Индуизм лишь мимоходом называет заповеди, которым положено следовать, свод моральных законов, он домогается большего – духовной и этической чистоты ума, внешним свидетельством чего могут быть поступки. Он настойчиво, пожалуй даже излишне настойчиво, требует: не убий! – но сопровождает это не менее настойчивым требованием: не поддавайся ненависти, жадности, ярости или злонравию, ибо они побуждают убивать. И еще индуизм признает относительность стандартов – мудрость, слишком непонятная для европейского ума. Ненасилие[41 - Ненасилие (ахимса) объявляется одним из важнейших этических принципов индуизма. В джайнизме и отчасти буддизме считается наиважнейшим принципом.] – высший из законов: ахимса парамо дхармах; вместе с тем этот закон не распространяется на физическое действие воина, при этом однако настойчиво требуя от него милосердия, уважения чужого достоинства, милости к несражающимся, к слабым, к безоружным, к побежденным, к пленным, к раненым, к отступающим; таким образом, индуизм избегает непрактичности абсолютистского требования о сохранении всякой жизни. Непонимание этой мудрой относительности, пожалуй, повинно во многих неправильных истолкованиях. Этическому человеку Запада хочется иметь высокий стандарт как меру совершенства, меньше волнует его вопрос о том, что человек чаще воспринимает такой стандарт, нарушая его, чем соблюдая; индийская этика поднимает планку так же высоко, если не выше, но ее больше занимает правда жизни, чем высокие словеса; индийская этика допускает поэтапный прогресс и готова на низших стадиях удовольствоваться морализаторством в отношении тех, кому еще не доступны самые высокие этические концепции и практика.
Таким образом оказывается, что все обвинения против индуизма либо неверны фактически, либо несостоятельны по природе. Нам остается посмотреть, является ли справедливым – полностью или отчасти – следующее и более распространенное обвинение: тяжкое обвинение индийской культуры в том, что она подавляет жизненные силы, парализует волю, не наделяет человека большой или динамичной силой, не дает ему жизненного стимула, не вносит в человеческую жизнь укрепляющую и облагораживающую мотивацию.
5
Вопрос, стоящий перед нами, заключается в следующем: обладает ли индийская культура достаточной силой, чтобы укрепить и облагородить обычное человеческое бытие? Помимо целей трансцендентальных, есть ли в ней прагматическая, не аскетическая, динамичная ценность, сила для расширения жизни и правильного контроля над ней? Это вопрос первостепенной значимости. Ибо если ничего этого она нам дать не может, то какими бы великими ни были ее иные свершения, она не сможет жить. Она превращается в анормальное великолепие транс-гималайской оранжереи, цветы которой выживают в тепличных условиях субконтинента, но обречены на гибель в разреженном воздухе современной борьбы за жизнь. Антижизненная культура обречена на смерть. Избыточно интеллектуальная или избыточно эфемерная цивилизация, которой недостает мощных жизненных стимулов и мотиваций, обречена на прозябание из-за недостатка жизненных соков и крови. Культура, чтобы постоянно и всесторонне служить человеку, должна давать ему больше, чем некое редкостное трансцендентальное тяготение к выходу за пределы всех ценностей земной жизни. Не может она ограничиться и тем, чтобы украшать долгую стабильность и упорядоченное благоденствие старого, зрелого, человеческого общества любознательностью знания, науки и философских исканий или же ярким светом и блеском искусства, поэзии, архитектуры. Индийская культура все это делала в прошлом для благородной цели. Но культура должна еще пройти проверку прогрессивной жизненной силой. В ней должно быть нечто, вдохновляющее земные старания человека, – объект, стимул, сила развития и воля к жизни. Что бы ни было нам суждено в конце – безмолвие или нирвана, духовное угасание или физическая смерть, нет сомнения, что сам мир есть грандиозный труд могучего Духа Жизни, а человек – нынешний сомнительный венец земли, сражающийся, но все еще далекий от победы герой и исполнитель главной роли в драме жизни. Великая человеческая культура должна с достаточной полнотой понимать это и придавать сознательную и идеальную силу самореализации человека в его великом труде. Недостаточно заложить прочную основу жизни, недостаточно украшать жизнь, недостаточно тянуться к вершинам вне ее пределов – необходимо в такой же мере уделять внимание величию и развитию расы на земле. Игнорирование этой великой промежуточной реальности – серьезнейшее упущение, которое свидетельствует о несостоятельности культуры.
Наши критики утверждают, что весь корпус индийской культуры отмечен печатью именно такой несостоятельности. На Западе уже давно сложилось впечатление, будто индуизм есть целиком метафизическая, устремленная в потустороннее система взглядов, мечтания о чем-то за пределами земного и пренебрежение к тому, что есть здесь и сейчас; мрачное ощущение нереальности земного бытия и опьяненность Бесконечным заставляют его отвернуться от благородства, полнокровия и величия человеческих стремлений и земных трудов. Пусть индийская философия возвышенна, пусть пылок индийский религиозный дух, пусть прочна, симметрична и стабильна ее древняя социальная структура, пусть по-своему хороши индийское искусство и литература, но нет во всем этом соли жизни, дыхания силы воли, страстного стремления жить. Новый Аполлон от журналистики, наш Арчер, направивший свои стрелы на змеиные кольца индийского варварства, не перестает твердить об этом. Но если это справедливо, значит Индия и не могла дать миру ничего великого, влить животворную силу в человеческую жизнь, породить людей могучей воли, сильные личности, жизненные фигуры в искусстве и поэзии, в архитектуре и скульптуре. Именно это ничтоже сумняшеся и излагает адвокат дьявола в недвусмысленных терминах. Он сообщает нам, что для этой религии и философии характерна общая недооценка жизни и земных трудов. Жизнь выглядит безбрежным пространством, в котором поколения вздымаются и опадают так же безвольно и бесцельно, как волны в океане, роль личности сведена на нет, один только Гаутама Будда, великий человек, который, впрочем, «возможно, никогда не существовал», составляет единственный вклад Индии в мировой пантеон, ну можно еще добавить сюда и бледный, безликий образ императора Ашоки. Образы индийской драматургии и поэзии – это нереальные гротескные персонажи или марионетки, управляемые сверхъестественными силами, индийское искусство не связано с реальной жизнью – таков жалкий итог индийской культуры. Всякий, кто знает и чувствует индийскую литературу, кто изучал историю, кто исследовал цивилизацию Индии, увидит в этой оценке грубейшее искажение, злобную карикатуру, нелепую ложь. Однако, на самом деле, таково представление об Индии, сложившееся у европейца, изложенное здесь в крайней и бессовестно примитивной форме, следовательно, как и в предыдущих случаях, мы должны постараться понять, почему разные глаза видят один и тот же объект в совершенно разных красках. В основе – все то же фундаментальное непонимание. Индия жила богатой, блистательной, прекрасной жизнью, но цель этой жизни была отличной от той, которую поставила перед собой Европа. Идея и план жизни оригинальны и единственны в своем роде, они отвечают индийскому темпераменту. Ценности индийской жизни достаточно трудно понять со стороны, напротив, невеждам легко толковать их в превратном свете именно потому, что они слишком возвышенны для обыкновенного, неподготовленного ума и могут оказаться вне пределов его понимания.
Для оценки жизненных ценностей культуры необходимо понимание трех факторов. Прежде всего, это изначальная концепция жизни, затем формы, типы и ритмы, заданные жизни культурой, и наконец, это вдохновение, энергия, сила воплощения в жизнь мотиваций, их проявление через реальную жизнь людей и общества, процветающего под воздействием данной культуры. Сейчас мы, индийцы, очень хорошо знакомы с европейской концепцией жизни, поскольку наши мысли и усилия затемнены ее тенью – если не заполнены ее присутствием. Мы изо всех сил старались ассимилировать все то ценное, что смогли обнаружить в ней, даже реорганизовать себя, в особенности политику, экономику и внешнее поведение, подражая ее формам и ритмам. Европейская концепция заключается в ориентации на Силу, проявляющую себя в материальной вселенной, и Жизнь в ней, едва ли не единственным распознаваемым смыслом которой является человек. Этот антропоцентрический подход не изменился от недавнего усиления роли Науки на фоне тусклого безразличия механической, лишенной сознания Природы. Что касается человека, выделяющегося, таким образом, своей уникальностью из инертности Природы, то весь смысл Жизни заключается в том, чтобы он обрел свет и гармонию через упорядочивающий разум, эффективную рациональную силу, украшающую бытие красоту, высокую утилитарность результатов, жизненные радости и экономическое благосостояние. Свободная сила индивидуального эго и организованная воля эго корпоративного выступают в качестве необходимых факторов. Они очень важны для европейского идеала: развитие личности и эффективно организованная национальная жизнь. Обе силы росли, рвались вперед, подчас выходили из-под контроля. Именно им обязана Европа неспокойным, часто бурным движением своей яркой истории, богатством своего литературного и художественного творчества. Наслаждение жизнью и силой, галоп эгоистических страстей и жизненных радостей стали постоянной, ярко выраженной мотивацией Европы. Ей противостоит противоположная тенденция, стремление направлять жизнь при помощи разума, науки, этики и искусства, где мотивацией является стремление к сдерживающей и гармонизирующей утилитарности. В разные времена брали верх то одна, то другая мотивация. Христианская религиозность внесла собственную тональность, повлияла на одни тенденции, углубила другие. Каждая эпоха и каждый период вносили в первоначальную концепцию свой вклад и силу, обогащая и усложняя ее. В настоящее время восторжествовало чувство корпоративной жизни, которому служит и идея великого интеллектуального и материального прогресса, усиления роли политической и социальной организации на научной основе. Вырабатывается идеал разумной утилитарности, свободы и равноправия или же идеал жесткой организованности и эффективности, скрупулезного и целенаправленного сосредоточения всех возможных сил в упорном непрерывном продвижении ко всеобщему благоденствию. Внешне это стремление Европы выглядит ужасающе поверхностным и механистичным, однако обновленная сила более гуманной идеи снова пытается пробить себе путь, так что, возможно, вскоре человек откажется быть прикованным к колесу им же созданной машины и подчиняться ее требованиям. Во всяком случае, тому, что происходит на нынешней фазе развития, не стоит придавать чрезмерного значения. Общая и постоянная европейская концепция жизни сохраняется – в своих рамках это концепция великая и жизнеутверждающая, но несовершенная, узкая в своей верхней части, придавленная тяжелой крышкой, неширокая по охвату, чересчур приземленная, но вместе с тем вдохновляемая сильным и благородным чувством.