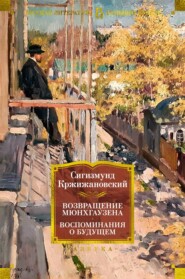По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тринадцатая категория рассудка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Скрутите ему ноги, – торопил Зес, сплевывая кровь на пол, – с меня достаточно и одной схватки.
Человек, связанный по рукам и ногам, раскрыл наконец глаза. Судороги, стягивавшие его тело, не были похожи на движения буйного помешанного; он не кричал, а только тихо и жалобно, почти по-собачьи, скулил и всхлипывал; из синих пустых глаз его текли слезы. Зес, постепенно приходя в себя, пододвинулся вместе с креслом и с чуть печальной улыбкой оглядывал связанного человека.
– Я знавал их обоих, Шагг, в их прежней доэксовой жизни. Вот этого, еще живого, я почти любил, и почти как вас. Это был прекрасный юноша, философ и немного поэт. Признаюсь: для опыта освобождения я выбирал с пристрастием – я хотел людям, когда-то близким мне, вернуть их прежнюю неомашиненную жизнь, отдать им назад свободу. И вот: сами видите. Но будет с этим. Сделаем выводы: если эти двое, бывшие до включения в иннерватор людьми с абсолютно здоровой психикой и крепкой мыслью, не выдержали отлучения от действительности, то у нас есть основание думать, что и другие психики эксификации не вынесли. Короче, мы окружены безумием, миллионами умалишенных, эпилептиков, маньяков, идиотов и слабоумных. Машины держат их в повиновении, но стоит их освободить, и все они бросятся на нас и растопчут – и нас, и нашу культуру. Тогда – Эксинии конец. Заодно уж скажу вам, мой романический Шагг: приступая к этим опытам, я мнил приблизить иную эпоху, эпоху инита. Я думал, уж не ошибся ли я, выключив Нететти и иных: одних из жизни, других из свободы. Но теперь я вижу… одним словом – это кстати, что пузырек с последними граммами инита во время нашей схватки разбился.
Выйдя на улицу, Шагг автоматически повернул вдоль улицы и шел, сам не думая куда. Это был час, когда серии возвращались с работы; попав в шеренги медленно и методически – два удара в секунду – шагающих людей, наш поэт и не заметил, как вскоре подчинился четкому и точному ритму шеренг, – ему даже нравилась та легкая бездушная пустота, какую привносило в него соприкосновение с мертвыми толчками машин; после происшедшего в кабинете Зеса ему хотелось возможно дольше не думать, выиграть время у мысли, и он нарочно, как бы включаясь в какую-то игру, притиснул локти к телу, как и те, что вокруг, и, уставившись глазами в круглый затылок впереди идущего эксона, подумал: «Надо, как он, все, как он, – так легче». Затылок, мерно качаясь, повернул от перекрестка влево. И Шагг. Затылок по прямому разбегу проспекта двигался к стальному горбу моста. И Шагг. Шли по гулкому взгорбию меж каменных параллелей перил. Вдруг затылок – как шар, заказанный от двух бортов, ткнулся о перила справа, потом – под углом отражения – по прямой на перила слева. И Шагг. Затылок, круглясь и алея, свис с борта и нырнул в лузу – вниз: всплеск. И Шагг: всплеск.
Когда Зесу, принимавшему доклад дежурного по иннерваторам, сообщили о смерти секретаря, он лишь на секунду судорожно свел брови и тотчас же поднял глаза на прервавшего рапорт инита:
– Дальше.
«Дальше» было очень тревожное: случаи неподчинения иннервациям множились с часу на час и начинали принимать массовый характер. Эксонов-аппаратчиков, обслуживавших центральный экс, требовавший чрезвычайно точныхи сложных мускульных разрядов, пришлось снять с работы и уничтожить: они становились слишком опасными. У клавиатур всех аппаратов, как в период борьбы за Эксинию, снова стали иниты. Пододвинулись трудные и черные дни: отвыкшие от работ, изнеженные олигархи должны были снова почти бессменно встукивать в клавиши грандиозного инструмента искусственное бытие. Но гармонии, прежней точно исчисленной гармонии не получалось: клавиши как бы заскакивали, толчки иннерваторов рассеивались в эфире, не доходя до мускулов, вдруг отказав в повиновении, партитура факто-сочетаний не вошла в смычки. Прозрачные мачты невидимого городка еще продолжали звучать роем тонкопоющих стеклянных ос, но мудрая гармония их была разорвана на груды бьющих друг о друга эфирных волн, и пресловутый Pax Exiniae оказывался нарушенным и искаженным.
Каждый день на колючих проволоках, густыми рядами которых невидимый городок, собравший сейчас в себя всех инитов, был обмотан, – находили трупы эксонов, стремившихся прорвать стальное кольцо. Большинство наблюдателей – из числа инитов, – работавших на местах, погибли насильственной смертью; остальные бежали в центр. Послать кого-нибудь им на смену не представлялось возможным, – городок сказался изолированным и окруженным: проволокой, безумием, безвестностью.
Трупы самовыключившихся подвергались вскрытию; тщательно исследовались их мозг и система двигающих нервов. Вскоре в мозгу их было обнаружено присутствие неведомого науке вещества: оно вырабатывалось внутри нервных тканей в чрезвычайно ничтожном количестве: очевидно, это была какая-то защитная внутренняя секреция, постепенно накапливавшаяся в организмах самовыключавшихся и как-то связанная с процессом выпадания из экса. Зез пригласил к себе заведующего химической лабораторией, просил точно описать феномен и, выслушав все пункты, вынул ждавшие под пресс-папье тонкие пожелтелые листки и придвинул их к глазам химика. «Почерк Нететти», – забормотал тот смущенно, выпрыгивая глазами из строк.
– Мне говорили – вы химик, а не графолог. К делу. Сходно ли это с формулой новооткрытой секреции?
– Тождественно.
– Спасибо. В таком случае, будем считать, что вами вторично открыто вещество, а мною его имя: инит.
На последнем собрании коллегии, отслушав мнения, Зес резюмировал:
– Итак, in восстало на ex. Исход борьбы инита с виброфагами ясен. Но пока виброфаги не открыли фронта, пока миллионы безумий не прорвались к мускулам, мы еще можем свести игру на ничью. Я предлагаю: остановить эксы. Немедля – сразу и все.
При голосовании – все воздержались. Кроме Зеса: один его голос оказался достаточным, чтобы остановить все голоса невидимого городка. Жужжание эксов, закачавшись в воздухе, стало медленно утишаться, скользя хроматически вверх, и исчезло, будто рой ос, прогнанный дымом. И в тот же миг десятки миллионов людей застлали землю неподвижными или слабо дергающимися телами.
Отряд инитов вышел из своего проволочного заточения. Разделяясь по пути на группы, иниты двигались среди издыхавших тел. На третий день исхода иным из группы пришлось пробираться среди трупного смрада и разложения; другие успели уже дойти до безлюдья, точней, – до беструпья. Впрочем, в лесах и пещерах, где укрылись иниты, не было вполне безлюдно; там уже жили – полуодичавшими кланами и ордами – спасшиеся по дебрям и чащам, изгнанные из культуры, свеянные первым эфирным ветром человеческие особи. Они ютились, селясь подалее от опушек, врываясь в землю, в вечном страхе включения в волю невидимых иннерваторов; свою городскую одежду они давно уже заменили звериными шкурами и лыком и пугали своих детенышей, взращенных в лесах, именем злого бога Экса. Малочисленным инитам пришлось частью вымереть, частью слиться с этой человеческой фауной лесов. И колесо истории, описав полный круг, снова заворочало своими тяжкими спицами. Но если б человек, скрытый под именем Анонима, чуть не попавший в тот, – помните, первый рассказанный мною день, – под обыкновеннейшее колесо обыкновеннейшего автомобиля, все-таки попал бы под него и был расплющен, вместе с идеей, – то, как знать, может быть, все завращалось бы в другую сторону. Хотя…
Дяж, стащив стекла за стальные усики – с глаз, наклонился над ними, протирая коричневым футляром. Зрачки его, вдруг затупившиеся, вщуренные в красные разморгавшиеся веки, казалось, перестали видеть тему.
Молчание разомкнулось не сразу. Затем задвигались кресла. Первым к порогу двинулся Рар. Я боялся, что председатель и на этот раз преградит мне дорогу вопросами, но Зез сидел, глядя в потухший камин, казалось, весь включенный в какую-то трудную мысль. Я вышел вслед за Раром, незамеченный и неокликнутый.
В подъезде я нагнал его. Мы вышли вместе на полуночную, почти пустынную улицу.
– Боюсь, что запутаюсь в словах. Вы можете не отвечать, но я не могу не спросить. И именно вас. Вы единственный среди них, о котором я думаю: человек. Можно?
– Я слушаю, – бросил Рар, не поворачивая головы. Мы продолжали идти – локоть к локтю – вдоль безлюдной панели.
– Среди вас, замыслителей, – как вы себя называете, – мне как-то странно и трудно. Я так просто, а вы… ну, одним словом, я не хочу быть эксоном среди инитов. Зачем я вам? Убивайте свои буквы, но у меня их нет: ни замыслов – ни букв. Повторяю – я не хочу быть эксоном!
– У вас верный инстинкт – «эксон», это неплохо. Я не имею права отвечать, но все же отвечу. Вините во всем меня, инита. – И, полуобернув ко мне лицо, Рар оглядел меня – сквозь ласковую полуулыбку.
– Вас?
– Да. Не затей я спора с Зезом об игле и нити, у нашего камина вряд ли бы появилось восьмое кресло.
– Об игле и нити?
– Ну да. За неделю до вашего появления на очередном субботнем собрании я стал доказывать, что мы не замыслители, а попросту чудаки, безвредные лишь вследствие самоизоляции. Замысел без строки, утверждал я, то же, что игла без нити; колет, но не шьет. Я обвинил и их и себя – в страхе перед материей. Помнится, я так и сказал: материебоязнь. Они напали на меня, и пуще всех Зез. Защищаясь, я заявил: сомневаюсь, чтобы все наши замыслы были замыслами – они не проверены солнцем. «И замыслы, и растения растут в темноте, ботаника и поэтика в данном случае обходятся без света», – аргументировал было Тюд, поддерживая Зеза. «В таком случае, если вам угодно бить аналогиями, – ответил я, – бессолнечный сад может взрастить лишь этиолированную поросль», – и рассказал им об опытах взращивания цветов без доступа света: получается – это любопытно – всегда чрезвычайно длинное ветвистое растение, но стоит такой этиолированный экземпляр выставить на свет, рядом с обыкновенными, и в смене ночей и дней живущими цветами, и тотчас же обнаруживается ломкость, никлость и вялая окраска взращенного тьмой. Одним словом, спор наш поставил на очередь вопрос: способны ли наши замыслы выдержать испытание светом, действенны ли они и за пределами нашей черной комнаты? Решено было временно включить пару ушей извне, среднего читателя, воспитанного на обуквлениях: достаточно ли видимой окажется пустота наших полок? Но тут забеспокоился Фэв. «Темнота, – сказал он, – превращает людей в воров, – это вполне естественно: а что, если этот втируша, которому мы сами набьем голову – по самое темя – замыслами, сумеет их вынуть из нее и обменять на деньги и славу?» – «Пустяки, – успокоил его Зез, – я знаю одного человека, который подойдет для этого дела. Перед ним можно спокойно раскрыть все темы всех суббот. Он не тронет ни одной». – «Но почему?» – «Да просто потому, что он без – рук: существо, которое у Фихте названо – «чистый читатель»: к чистым замыслам лучше и не подобрать». Вот. Кажется, все. Простите.
Он сжал мне руку и скрылся за поворотом улицы. С минуту я стоял в ошеломлении и растерянности. Рар ушел, но слова его еще кружили меня, и я не знал, как от них отбиться. Когда я несколько пришел в себя, то понял, какую ошибку я сделал, не досказав и не доспросив о главном: черная узкая улица тянулась предо мной, как нить, выскользнувшая из иглы.
V
Сначала было я решил не посещать более суббот Клуба убийц Букв. Но к концу недели мысль о Раре заставила меня перерешить. С первого же вечера этот неповторимый в его своеобразии человек показался мне нужным и значимым: самое имя его, как ни притворялось оно бессмысленным слогом, единственное среди всех их имен напоминало о каком-то смысле, но адресный стол не обменял бы мне его на адрес. Мне необходимо было видеть Papa, хотя бы раз, и сказать до конца: ведь он не их, а наш: зачем ему оставаться среди убийц и исказителей; сначала рукопись, а потом и… мне необходима была встреча с Раром. И так так возможна она была лишь там, меж черного каре пустых книжных полок, – то с наступлением субботы я решил – в последний раз, говорил я себе, – присутствовать на заседании клуба.
Когда я вошел в круг собравшихся, Рар, сидевший уже на своем привычном месте, с удивлением поднял на меня глаза. Я попробовал удержать его взгляд, но он тотчас же отвернулся с видом полной выключенности и равнодушия.
После выполнения обычного ритуала слово было предоставлено Фэву. В маленьких, с трудом протискивавшихся сквозь жир глазках Фэва замерцал какой-то хитрый блик. Он повернулся в кресле, затрещавшем под грузом жира и мышц.
– Моя астма, – начал Фэв, с трудом присасывая воздух, – не любит, когда я пускаюсь в длинные повествования. Поэтому попробую лишь набросать вчерне давно уже мной задуманную Историю о трех ртах.
Экспозиция ее такая: в кабаке «Трех королей», пропивая последний талер, увеселялись трое. Для имен их мне достаточно трех букв: Инг, Ниг и Гни. Было уже за полночь: время, когда бутылки пустеют, а души наполняются до краев, – и приятели под музыку стаканов развлекались – всякий на свой лад. Инг был мастер поговорить; стучась стеклом в стекло, он провозглашал тосты и спичи, цитировал святых отцов и рассказывал препестрые историйки. Ниг был охотником до поцелуев и знал в них толк (как никто): и сейчас он едва успевал отвечать на вопросы и тосты, потому что губы его были в работе, – и толстая девка, сидевшая у него на коленях, если б ей платили попоцелуйно, в один вечер сделалась бы богатой невестой. Гни не нуждался ни в словах, ни в поцелуях: вздувшиеся щеки его были перепачканы жиром, а рот присосался к огромной бараньей кости, с которой он терпеливо и трудолюбиво обдирал зубами мясо.
Вдруг девка, меж двух поцелуев Нига, сказала:
– Почему у людей не по три рта?
– Чтобы целоваться сразу с тремя? – захохотал Ниг, снова придвинувшись губами к губам.
– Погоди, – остановил его Инг, почуяв новую тему, достойную правильной риторической разработки, – не лезь с поцелуями меж слов.
– Я и говорю, – повернулась Нигова подруга к Ингу, – если б каждому из вас да по три рта, чтоб сразу и говорить, и есть, и целоваться, тогда бы…
– Вздор, – оборвал Инг и учительно поднял палец, – силлогизмов из-под юбки не вынуть. Умолкни. Спросим лучше святое предание и формальную логику: трижды блаженный Августин научает, что человек, в отличие от несмысленного зверя, есть существо избирающее. Не на этом ли и зиждется liberum arbitrium [7 - Свободное суждение (лат.).], способность из многого выбрать наилучшее. Аристотель же учит нас различать первоцель, энтелехию, от случайных или подчиненных соцелей; а Фома из Аквинь дополняет их, отделяя субстанциальный смысл от акцидентального, исходящее от привходящего. Рот, os, как сказал бы он, причастен и пище, и целованью, и слову; но в чем его главное свойство? Как ты думаешь, любезный друг Гни? Вынь кость изо рта и ответь.
Кость чуть посторонилась, чтобы дать протиснуться словам.
– Мне кажется, – проговорил Гни, – что за аргументами незачем шарить по книгам. Они вот тут, – на моей тарелке: ясно, рот – чтобы есть. А остальное все так – припутано.
– Мой добрый друг, – закачал головой Инг, – не следует искать доводов среди объедков. Почему же припутано?
– Потому, – отвечал Гни, предварительно влив в себя добрую пинту вина, – что если б мы с тобой не пили и не ели, то смерть давно развела бы нас – меня в рай, тебя в ад – и согласись, на таком расстоянии тебе трудно было бы спрашивать, да мне незачем отвечать.
– Мне жаль ангелов, – вмешался в спор Ниг, дернув ус над пухлой и алой губой, – если им когда-нибудь придется тащить в горние выси вот этакую тушу. Пойми, простец, что не будь на земле поцелуев, не было бы и рождений. А если б никто не родился, то некому было бы и умирать. Понял?
Но Инг, не скрывая улыбки сострадания, перебил обоих:
– И ты, Ниг, прав только в том, что называешь неправым Гни. Чем губы какой-нибудь шлюхи лучше тарелки, полной объедков? Будем рассуждать строго логически: поскольку при поцелуе рту нужен другой рот, то этим самым вводится категория другого, ?? ??????, как выражался Платон. Это отодвигает вопрос, вместо того чтобы его решить. Теперь по порядку: не будь вкушения пищи, не было бы жизни – так; но не будь поцелуев, не было бы рождения живых, – и это так; но – слушайте со вниманием – не скажи Господь слов «да будет» – не родилось бы само рождение, не возникло бы ни жизни, ни смерти и мир пребывал бы дьявол его знает где. Я утверждаю (оратор даже стукнул кулаком о стол), что истинное назначение рта не в шлепанье губами о губы, не в пожирании яств и питий, а в проглаголаньи слов, дарованных свыше.
– А если так, – не унимался Гни, – то почему же в Писании сказано, что не входящим в уста, но исходящим из уст сквернится человек? Что ты мне на это ответишь?
Отвечать стали сразу и Инг и Ниг, вперебой друг другу, и спор затянулся бы до света, не приди сон, залепивший спорщикам глаза снами, рты – храпом.
В сновидении Ингу явилось чудовищное трехротое существо, – беспрерывно шевелившее шестью губами: Инг пробовал существу доказывать, что оно не существует, но отвратительный трехротыш, говоря сразу всеми своими ртами, не давал себя переспорить. Инг проснулся в холодном поту. За окном алела тонкая прорезь зари. Он стал будить своих товарищей. Ниг, едва продрав глаза, спросил, где Игнота; Гни, подумав, что это название кушания, угрюмо пробормотал: «Съели». Ниг захохотал и, объяснив, что это имя его вчерашней подруги, добавил: