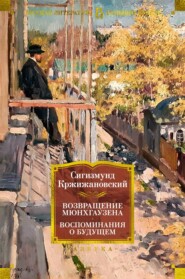По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тринадцатая категория рассудка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вернее, она нас съела. Ловко было спрошено. Нет, куда она исчезла?..
– Как призрак, – докончил Инг, – если верить сну, то твоя Игнота слишком много знает: может быть, это и не девка, а суккубус – наваждение, тень.
– Черт возьми, – ухмыльнулся Ниг, – эта тень отдавила мне колени. Расскажи сон.
И из сна спор вернулся, будто и он отоспался и отдохнул, назад в явь. Три рта кричали вперебой о главном назначении рта:
– Чтобы есть.
– Врешь – чтоб целовать.
– Оба врете. Чтобы говорить. И тут я, знаете, бросаю весла и доверяюсь течению: ведь зачем мне измышлять, посудите сами, зачем трудолюбиво скрипеть уключинами, раз я догреб до того мощного течения, которое само понесет мой сюжет, вместе с сюжетами о «кривде и правде», о странствующих браминах «Панчатантры» и прочих прочестях: то есть я хочу сказать, что Инг, Ниг и Гни, не доспорившись ни до чего, отправляются во славу канонов сюжетосложения бродить по свету, прося у всех встречных разрешить их спор. Нелогичность этих странствующих споров, житейская неоправданность их не должна смущать того, кто знает, что жизнесложение и сюжетосложение лишь скрещиваются, но не совпадают. Сюжетика бросает эти споры, как растение бросает споры: в пространство, где они прорастают. Итак – плыву…
– Да, вы плывете, – Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам – искры прянули навстречу удару, – плывете, но не на книжном ли шкапу, набитом осыпью букв? Должен вам сказать, друзья мои, что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской краской: один берет набитые буквами книги в «персонажи» своих новелл, другой, изволите ли видеть, «бросает весла» (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору), чуть его втянуло в чернильный поток сюжетокропательства, – этак мы скоро…
Жилы Фэва налились кровью:
– Вы слишком трусите книжного переплета: меня ему не захлопнуть, потому что я… не мышь. Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка, – а вот…
Но тут Зез, сделав знак молчания, круто повернулся ко мне:
– Наш спор я предлагаю на суд нашего гостя: со стороны ему виднее и легче быть справедливым.
Все глаза были на мне. И я ответил:
– Этим вы превратите ваш спор в «странствующий спор», против допустимости которого только что сами возражали.
– Отказанный гамбит, ловко сыграно. С дороги, Зез, посторонись и дай пройти моим трем героям, туда, куда им давно уже пора. Ведь заря ширится. Того и гляди, проснется хозяин и потребует за ночевку и битую посуду. А во всех карманах ни медяшки. Инг, Ниг и Гни вышли на цыпочках из «Трех королей». Городок еще спал, зажмурив ставни, а навстречу уж, с мешком и колокольцем на конце палки, двигался сборщик-монах. Он протянул свою звякающую суму, но вместо милостыни получил вопрос:
– Для чего тебе дан Богом рот: для пищи, поцелуев или речи?
Монах перестал встряхивать мешком, колокольчик замолчал, молчал и он. Ниг заглянул под капюшон.
– Это камедул, – присвистнул он, – мы сразу же наткнулись на обет молчания. Твое дело плохо, Инг. Ведь это почти ответ: святость обходится без слов.
– Да, но она налагает на себя и посты. Кроме того, думается мне, целовать шлюх – это тоже мало помогает спасению души. Выходит, что рот вообще ненужная дыра на лице, которую надо поскорей заштопать и жить в ус себе не дуя. Нет, тут что-то не так. Идем дальше.
Вновь зазвякавший колокольчик и трое спорщиков разминулись. У городских ворот Ингу, Нигу и Гни повстречалась глухая старуха; как ни кричали ей – сначала в один, потом в два, наконец, в три голоса вопрос о рте, она все твердила свое:
– С черным пятном на лбу. Корова. Не видали ли? Черное пятно на лбу. Корова.
– У всякого своя забота, – вздохнул Инг.
В это время, ржаво скрипя, распахнулись створы городских ворот. Мои трое начали странствование.
Пройдя пару лье, они встретили грохочущую телегу, на которой, свеся ноги, с краюхой хлеба меж губ, раскачивался длинный детина. Инг крикнул было ему вопрос, но из-за грохота колес детина вряд ли расслышал, а если и расслышал, то рот его был слишком забит, чтобы решать проблему о рте. Шагали дальше.
К полудню меж качаемых ветром колосьев увидели странника: на плече у него был мешок, в руке посох, он шел с веселым – сквозь пыль и загар – лицом, пересвистываясь с перепелами: может быть, это был один из странствующих клириков (лицо его было тщательно выбрито), возможно, даже, – ваш о. Франсуаз, –
– обернулся вдруг рассказчик к Тюду и приветственно поднял правую руку кверху. Тюд, улыбнувшись, сделал ответный жест: две темы, как корабли, чьи рейсы пересеклись, отсалютовали друг другу – и Фэв продолжал.
– Отчего у человека один рот, а не три? – спросил, поклонившись клирику, Ниг.
Спрошенный остановился и оглядел странников. Сначала он ополоснул горло из винной фляги, болтавшейся у него на ремне, затем подмигнул и сказал:
– А вы уверены, дети мои, да пребудет благодать Божья с нами, что у вас так-таки по одному рту? Когда я уйду, спустите штаны и проверьте: не два ли. А если доберетесь до ближайшего веселого дома, – любая девка докажет вам, что три. Добрый путь.
И, зашагав своими длинными, затянутыми в дорожную юфть, ногами, о. Франсуаз быстро скрылся из виду и из рассказа.
– А ведь поп хотел нас одурачить, – зачесал в затылке Гни.
– И чисто сделал дело, – сплюнул с досадой Ниг.
– Дурачить, – ответил Инг, – это забавляет только дураков. Людские умы стали грубы и плоски – как вот это поле: гоготать легче, чем мыслить. Где логизмы великого Отагирита, где дефиниции Аверроэса и иерархия идей Иоганнуса из Эригены? Люди разучились обхождению с идеями: вместо того чтобы смотреть идее в глаза, они норовят заглянуть ей под хвост.
И трое молча продолжали путь.
Навстречу изредка попадались крестьяне, возвращающиеся с работ, купцы, дремлющие под звон бубенчиков на своих мулах. После встречи с голиардом решено было соблюдать осторожность и не обращаться с вопросом к каждому встречному и поперечному. После дня ходьбы вдали, над пригнувшимися к земле маслинами, показались зубчатые стены города. Пыль и жар опадали. Цикады в траве пели громче, а солнце из неба светило тише. Почти у самых ворот города, на зеленой лужайке, примыкавшей к дороге, странники увидели женщину, сидевшую на траве, среди шуршания цикад, со спеленутым ребенком на руках. Женщина не сразу ответила на приветствия путников, так как была занята своим: расстегнув грудь, она приблизила розовый сосок к рту младенца, тотчас же жадно задвигавшего губами, и, наклонившись, с улыбкой всматривалась во вздувшееся личико сосуна.
– Клянусь гусем, – рявкнул Гни, – спеленайте меня, потому что мне захотелось молока.
Ниг только облизал губы. А Инг, покачав головой, сказал:
– Если не вся истина, то две трети ее открыто младенцем: поглядите на этот крохотный беззубый ртишко, – ему дано то, что не дано нам – умение сразу и есть, и целовать. Этот несмышленыш заставляет меня, о друзья мои, возвратиться мыслью от этих скудных и пыльных слов к пышным кущам райского сада, где все было дано человеку не частями и не враздробь, а целостно и полно. Но райские рощи отцвели, и трем смыслам, увы, стало тесно в одном рте. Скажите, милая, чей это ребенок?
– Я служу супруге здешнего судьи. Имя моей госпожи Фелиция, – отвечала кормилица.
Поднявшись с земли, она поклонилась чужестранцам и пошла назад к городу. Ниг послал ей вслед воздушный поцелуй. Друзья решили, перед тем как войти в город, передохнуть здесь же на лужайке. Сели. Гни жевал в зубах пахучую травку. Ниг сдувал одуванчикам их серые шапочки. Инг, охватив руками худые колени, раз за разом вздыхал, бормоча что-то под нос.
– О чем ты там? – спросил наконец Гни, которого начинал уже мучить голод.
– Ах, – отвечал Инг, вздохнув еще раз, – я вспоминаю о словах, которые я ей говорил.
– Кормилице? – зевнул Ниг.
– Нет, ее госпоже. Счастливые люди, нашедшие причал. Может быть, и я не шлялся бы с вами от костра к костру, а грелся бы у своего очага, в карманах у меня катались бы талеры, а вокруг ползали бы вот этакие крохотные пискуны… Да-да, не смейтесь, а послушайте-ка лучше историю, которую сейчас расскажу.
Мы оба были тогда юны – и я, и Фелиция. Она была дочерью разбогатевших купцов, живших неподалеку отсюда в одном из приморских городов. У родителей было много мешков с золотом, у дочери – много поклонников. По праздникам, разрядившись в богатое платье, они садились вкруг прекрасной Фелиции и молча пялили на нее глаза, неподвижные и глупые, как мешки, набитые трухой. Все эти парни умели лишь разевать рот, а я знал и иное его употребление. Я рассказывал юной девушке о странах, в которых не бывал, о книгах, в которые и не заглядывал, о звездах и о светляках, о рае и аде, о прошлом народов и о будущем нас двоих: меня и Фелиции. Девушка любила слушать меня, наставив прозрачное розовое ушко и полураскрыв свои алые губки: однажды, вся закрасневшись, она посоветовала мне поговорить с ее родителями. С этими, конечно, было труднее. Когда я попробовал, подкрепляя слова цитатами из Горация и Катулла, объяснить скряге-богатею вечные права страсти, – тот присвистнул и показал мне спину.
Тогда, посоветовавшись с Фелицией, я решил пробраться к счастью в обход. У Фелиции была старая нянька: долгими уговорами удалось добиться ее участия в нашем плане. Решено было так: в назначенную ночь Фелиция вместе с нянькой придут ко мне. Нянька останется за порогом стеречь нас, а Фелиция… ну, одним словом, к утру мы поставим старых дураков перед свершившимся, после чего священнику придется наспех связать нас и на небесах, а скрягам, проспавшим дочь, развязать мешки с золотом. В условленный вечер я услыхал стук в дверь, – и через минуту мы остались с Фелицией в полутьме, за закрытой дверью, одни.
– Ну-ну, – заторопил Ниг, пододвинувшись на локте к рассказчику.
– Ну, и я начал шептать ей о величии и значении этой ночи, о том, что мы наконец одни, что даже звезды за окном потупили очи и что только Бог…
– Дурак, – сказал Ниг и отполз на локте на старое место.
– Я говорил ей о прославленных любовниках древности – о Леандре и Геро, о Пираме и Фисбе, о Феоне и Сафо. Впрочем, спохватился я, почувствовав прикосновение ее руки к моим губам, если примеры язычников ей кажутся неубедительными или опасными для души, то можно обратиться и к свидетельствам Ветхого Завета, – и я начал припоминать, книга за книгой, о Руфи и Воозе, о… Помню, как раз на Воозе меня прервал шум за дверью. Приоткрыв ее, я увидел: старуха нянька, сидевшая с ухом, прижатым к замочной скважине, успела задремать и слегка похрапывала. Я разбудил ее и, вернувшись к Фелиции, продолжал оборванный рассказ.