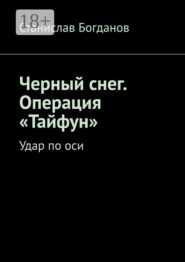По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний старец. Крест Судьбы, Огненные скрижали…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Седан, расстегнув клапан револьверной кобуры, решительно шагнул за «ночной феей» порока и греха. Узкий проход, освещаемый тускло смердящими керосинками, напоминал своды каменистого грота или лаз. На дощатых, с запахом клопов и плесени стенах были натянуты потрепанные шелковые гобелены. Она привела его в свою комнатушку. Стала не спеша, смакуя каждое мгновение раздеваться. Он молча смотрел на нее. Затем отвернулся, чтобы не осквернить свою память. В следующий момент его грубо схватили. Шею французского полковника сдавила чья-то потная, сальная пятерня. Почти не испугавшись, он врезал стоящему позади «датским дуплетом»: отклонив корпус, нанес удар локтем в солнечное сплетение, а ребром ладони в перчатке (опустившись ниже) попал в промежность. Бандюга глухо взвизгнул. Пятерня на мгновение разжалась. Тогда Анри, ослабив шнур плащ-накидки, сковывающей движения, свалил верзилу в жилетке точными боксерскими ударами. Тот завалился на гнилой дощатый пол. При падении то ли смачно хрюкнуло, то ли отрыгнуло… Проститутка, полуобнаженная и прекрасная, истерично завизжала. «Merde! Hershel la mi, mo due!» – Седан пригрозил ей бельгийским браунингом. Он тут же вспомнил последнюю беседу с капитаном Мишо из «двойки». Тот пообещал ему, что «будет присматривать». Стало быть, если выстрелить в дощатый потолок или издать трель офицерским свистком, сбегутся его агенты. Прибудет военная жандармерия – знаменитые «белые канты». (К концу 1916 года, по приказу президента Французской республики Клемансо, жандармы и колониальщики расстреливали каждого десятого в тех частях, что отказывались идти в бой.) В следующий момент он ощутил приставленный к виску холодный металлический предмет. Это был безо всякого сомнения – ствол…
– Не надо дергаться, мосье, – произнес ровный молодой голос по-французски. – Можно не ронять пистолет. Просто опустите его вниз. Правильно, вот так, – поощрил его стоящий позади. – Теперь сделайте несколько шагов вперед. Упритесь в стену. Вот так… Стойте и ждите моей команды.
Седан все сделал, как было ему предписано. За спиной кто-то шикнул. Раздался звук комкающегося шелкового и крахмаленого белья. Сматывающая свои манатки юная камелия явно спешила. Верно, передразнил в уме своего пленителя Седан: кому же охота наблюдать, как разделывают под черепаху несостоявшегося клиента? От которого ничего не перепало. Как жаль, mo due. Совсем ничего… Хотя, если это одна шайка-лейка, то девочку не забудут. Стоп, мосье! Если на меня напали, то меня ожидали. Кто будет ссориться с французскими оккупационными властями? Здесь, в этой русской дыре, где все приготовились бежать через Босфор в страну янычаров и беев. Внезапная вспышка ослепила ему мозг. Колодкой тяжелого пистолета ему залепили в темечко, и он рухнул как подкошенный.
…Интуиция его не обманула. Блуждая по ослепительным спиралям в темном коридоре сознания, он вышел на более приземленные миры воспоминаний. Он лежал в неестественно-прямом положении на железной койке, с привязанными руками. Гудела как стальной котел голова. Будто по «стальному котлу» битый час лупили металлическим прутом. Над ним стояли трое. Желтоватый свет лампы-коптилки мутно освещал их лица. «Ничего, он уже очнулся, – от уха Седана, прямо в опухший мозг, устремился чей-то молодой, незнакомый ему голос по-французски. – Это пойдет ему на пользу, друзья. Не зря же мои люди вели полковника от пирса. Вы не находите, товарищ Быстрый?» «Лучше скажите: он будет сотрудничать, Мишель? – задал встречный вопрос тот, кто, судя по произношению, был русский. – Если он заартачится, придется…» «Ничего вам не придется, мосье большевик, – перебил его француз. – Уверяю вас, этот субъект после 16-ого стал весьма покладистым. Недаром я и мое руководство изучили его досье. Знаем шашни мосье Седана la amor. Это единственное, что способно его оживить. Недаром он повелся на нашу шлюшку. Объект будет сотрудничать…»
– …У вас нет выбора, мосье Седан, – внезапно раздался голос по-французски, который оглушил его. Седан инстинктивно вскочил и сел. Его руки были освобождены от пут. Он находился в каменистом гроте или штольне: сверху и с боков его обступал темно-коричневый, с блестками влаги камень. – Пришли в себя? Хорошо. Так вот, у вас нет выбора, полковник. Давайте сразу обрисуем нашу диспозицию. Уясните себе свое положение, с самого начала…
Говорящий был молод. Он сидел за грубо сколоченным столом на пустом деревянном ящике из-под патронных жестянок. На говорящем была защитного цвета военная рубаха с металлическими пуговицами. На плечи была наброшена шинель солдатского сукна с мятыми, защитного же цвета русскими погонами с тремя звездочками и белой «М» (Марковская добровольческая дивизия), а также с трехцветным «ударным» шевроном на рукаве. Говорящий был хорош собой. Его румяное, круглое лицо и быстрые карие глаза излучали уверенность в себе.
– Это что за маскарад, поручик? – Седан потер себе виски, будучи уверенным, что инцидент будет исчерпан: вопрос лишь во времени. – Кто вам дал право задерживать представителя французских оккупационных властей? Вам жмут погоны, мосье? Или…
– Или… – усмехнулся «поручик»; что бы сбить его с толку, он посмотрел на открытый циферблат карманных часов, что заранее положил перед собой. – Стало быть вам не ясно у кого вы в гостях? Жаль. По моим наблюдениям вы – весьма практический, образованный, а главное неглупый человек. Че-ло-вечище, – протянул он с улыбкой. – Это из русской классики…
– Не помню такого в русской классике, – в меру сострил Седан. Он постепенно приходил в себя и начинал осознавать происходящее. – Я в белой контрразведке?
– Хотя бы так, – уклончиво ответил «поручик». – Чаю не желаете? Сигарету…
– Хотя бы? – усмехнулся Седан. Он попытался встать, но ноги его не слушались. – Мне нужны точные ответы.
– Я готов вам их дать, – с готовностью отреагировал собеседник. – В обмен на одно условие: вы будете благоразумны и будете спокойны, когда с вами будут говорить. А говорить с вами будут много. Вот, хотя бы…
* * *
…Перед лицом его стояла одна и та же картина: расстрел Д Алькана. После того, как был взят «Муравейник». Пехотный взвод. Целиком из новобранцев. Их лица были скрыты козырьками надвинутых шлемов с эмблемой рвущейся гранаты. В руках тряслись винтовки с приткнутыми длинными штыками. Вот-вот должна была прозвучать команда…
«… решением военного трибунала Лионской бригады от 31 октября 1916 года имени Французской Республики подвергнуть смертной казни лейтенанта Д Алькана за неподчинение приказам командования…»
Высокий, холеный офицер трибунала с трехцветной перевязью захлопнул папку. Отступил на шаг. Командир расстрельного взвода взмахнул палашом. Три команды: «Готовься… Целься… Огонь…» Залп из десяти винтовок разорвал промозглый осенний воздух. С черного дерева возле разбитой снарядами часовни (там, где Седан чуть не бросился на генерала Огюстена) взлетела стая ворон. Привязанное к столбу тело Д Алькана дернулось. Из раскрытой груди вылетели кровавые клочья. В какое-то мгновение она окрасилась вишнево-красным. Стала мокрой от крови. Кровь, подумал Седан. Он стоял, закрыв глаза. Как много льется крови в этом веке. Век взбесившейся обезьяны. Шимпанзе, напялили военную амуницию, взяли винтовки и пулеметы, присовокупив к ним более совершенные орудия смерти (бронеавтомобили, дредноуты, танки, аэропланы и смерть-газы). Хочется взять в руки необструганную дубину и загнать этих макак обратно в пещеры. Впрочем, нет… Макаки, кажется, не живут в пещерах. Они живут на пальмах. Я отстал от жизни. Безнадежно отстал…
«…Мосье полковник, прошу вас – тише… – раздался испуганный, проникающий шепот. – Вы рассуждаете вслух…»
Смерив говорящего взглядом (это был майор Дарни), Седан, пошатываясь, словно был пьян, пошёл вдоль высокой каменной ограды. За ней покоилось сельское кладбище. На нём было похоронено восемь поколений французов, живших в этом местечке со дня его основания. Итак, кости, начиная с XVIII века, покоились в этой сырой, чуть влажной земле. Что бы не происходило в Матушке- Европе, а смиренное кладбище вновь и вновь принимало в свои пушистые недра безжизненные тела. Футляры для душ… Высоко в небе, промозглом и сером, парили два аэроплана. Французский «Фарман» и германский корректировщик «Таубе». Последний имел чуть загнутые на концах крылья, что в сочетании с черно-белыми мальтийскими крестами придавало машине зловещий вид. Вскоре два самолета сцепились в небесной схватке. Они кружили вокруг воображаемой оси, поливая друг друга смертоносным дождём из пулемётов. На площади, где произошла казнь (могилу с расстрелянным спешно забрасывали землёй) собралась толпа зевак. Вскоре бой закончился: оба аэроплана, оставляя за собой дымные хвосты устремились к земле. «Фарман» летел следом, продолжая строчить из спаренного «Виккерса» по бошу. Дерьмовое геройство…
Ему вспомнился также штурм железобетонного дота «Муравейник». Когда первая линия атакующих, понеся огромные потери, прошла все четыре линии проволочных заграждений. В них, правда, зияли бреши, проделанные снарядами полковой артиллерии. Однако фугасы в промежуточных полосах остались неповреждёнными. Их пришлось разминировать под ураганным огнём бошей. Разрывные «дум-дум» хлопали по земле, раскалывали в щепы уцелевшие колья с натянутой колючкой, со звоном рвали саму проволоку. Поминутно раздавался короткий вскрик или протяжный вой: запрещённая ещё Гаагской конвенцией пуля находила человека. В бок полковнику толкнули чем-то жёстким. Это был неизвестно откуда взявшийся капрал-телефонист Копье. Осклабившись, он тянул в лицо Седану трубку «Эриксона». «…Полковник! Надо вызвать заградительный огонь! Без этого мы погибли…» В подтверждение его слов в боевых порядках залёгших пуалю стали рваться грушевидные бомбы, испускаемые бомбомётами. Они летели по дуге. Взрываясь на поверхности, осколками выкашивали целые отделения. Впереди, за изрытыми воронками линиями траншей с торчащими веером брёвнами брустверов и раскиданными мешками с песком, виднелась четырёхугольная бетонная глыба дота.
«…Эй, дружище Этьен! Свяжитесь со штабом артиллерийского дивизиона – пусть накроют огневым валом „В-2“, – донеслось в трубке. Это говорил сквозь треск генерал Огюсте. – …Крепитесь, мой мальчик! – как ни в чём не бывало обратился он во весь голос к Седану. – Сейчас будет немножко жарко. Мы сломаем хребты этим залёгшим гуннам. Мы свернём этом кайзеру голову. Он будет жевать французскую землю отныне и во веки веком. Аминь!» Через минуту, когда связь с писком отключилась (впоследствии расследование, учинённое Седаном и Дарни, показало, что кабель остался нетронутым), ориентир «В-2», коим была четвёртая линия проволочных заграждений бошей или их передний край, потонула в дыму и пламени.
* * *
…К вечеру они вышли из глубокой штольни, составляющую сеть Аджимушкайских катакомб. Дунуло прохладой. Внизу плескались свинцово-серые волны Чёрного моря.
– Ну, мосье Седан, вас можно поздравить со вторым рождением? – усмехнулся тот, что был в форме поручика Марковской добровольческой дивизии.
– Пожалуй, – неопределённо ответил ему Седан. – Если вас интересуют более подробно все мои ощущения… Что ж, я готов говорить на эту тему.
Они спустились по каменной кручи, поросшей колючим кустарником, к берегу. Скрытая за камнями утёса, внизу на волнах покачивалась рыбачья шлюпка. В ней сушили вёсла двое: старик и почти ребёнок. Эдакий русский Гаврош лет 14—15. Если старик в старой бескозырке с выцветшим золотом и овчинном драном полушубке олицетворял нечто исконное, то мальчик был прямая тому противоположность. На его русой вихрастой головке была серо-голубая австрийская кепи с оловянной кокардой. Он был одет в относительно новый салато-зелёный френч с плеча греческого пехотинца. Дети и старики совершают кровавые революции, истребляют друг-друга в кровавых гражданских войнах, подумал Седан. Это та селекция, которая не снилась Франции? Об этом говорил Мишо. Он предал меня в руки «красным бандитам». Получается, что капитан 2-го Бюро имеет к ним прямое отношение. Но моя душа вовсе не скорбит о потерянной жизни. Значит не всё потеряно. Значит я вернусь…
Впрочем, у него не было выбора. Трезво прикинув своё положение, Седан понял: мосты сожжены. Сжёг их он сам. Когда передал красным данные о позициях на Юшуньском плацдарме, а также на Перекопе.
Глава вторая. Крест Судьбы
История отца Зосимы была хорошо известна монахам (особливо, старожилам) Сергиево-Троицкой лавры, что своими белокаменными стенами и мощными крепостными башнями являет собой твердыню святости в России. Будучи отроком двадцати двух лет, ни минуты не колеблясь, ушел от мирской жизни. Оставил отчий да материн дом, нехитрое деревенское хозяйство и юную девушку, что была наречена ему в невесты. Мало, кто знал, какое из чудес Господних подвигло его на этот отважный шаг. Того простым смертным знать было неведомо. Только лишь святой старец, игумен Никодим, которому перевалило за седьмой десяток, знал более других. Но тайны души младого отрока держал в себе. Крепко-накрепко запечатал в сердце своем, что было твердо, как камень. Келейный старца, черноризец Андрей, услыхал ночью исповедь молодого послушника, что причитал по поводу всех мыслимых и немыслимых искушений. И слова отца Никодим, что были ответом на юные страдания и их утешением: « …Ты, дитятко, не плач! Диавол знает, что со слезами в душу войти можно. К Ангелу-Хранителю своему воззови, Небесному Наставнику. Все твой Ангел-Хранитель ведает: и то, что было, и то, что будет. Попроси совета у него, заступника твоего небесного. То поведает он, что не могу произнести я, окаянный грешник…»
– Да разве вы, отец Никодим, грешник? – потрясенно молвил молодой послушник, продолжая всхлипывать. – Ведь о вашей святости все братья говорят. Как вы заповеди Господни храните в себе, отче, так бы всем их хранить. Ведь грех и блуд даже в наших святых стенах укоренился…
– Ты про то мне, дитятко, не говори, – молвил святой наставник. – То, что во вражеское время живем, то ведомо мне. Не для того принял я святое пострижение. Чтобы глаза свои на мерзость и запустение закрыть, что приходят на нашу землю святую. На Русь-Матушку…
Узнав, что келейный Андрей про ту исповедь прочим братьям-монахам поведал, старец крепко осерчал. Прогнал его прочь с глаз своих. Наложил суровую епитимью, которую тот так и не исполнил. (Надлежало за это отправиться в дальний монастырь и трудиться там, на черных работах.) С тех пор келейным у него стал послушник Зосима.
Через год, по настоянию святого старца, юноша был наречен новым, духовным именем – брат Зосима…
Случилось у святого старца странное видение накануне вступления этого мира в век грядущий. Вышел он, сопровожденный келейным, за монастырскую стену. К одному из святых источников, который Святой Земли Русской Сергий Радонежский вызвал из недр землицы-матушки своим посохом. Узрел святой отче Никодим своим духовным оком невиданное и страшное: на деревьях, что произрастали у студеной водицы, сидели маленькие темные существа в остроконечных колпаках. Беспечно говорили между собой на неслыханном языке. Услыхав, как воззвал святой старец к Господу, осенив их крестным знамением, заверещали в исступлении. «Придет царствие антихриста, придет на эту землю! – вопили они, беснуясь. – Ничто ее не спасет от погибели. Воцарится на ней наш хозяин на тысячу лет. И будут слепы люди, и пойдут в бездну, весело смеясь и с именами святых на устах. Не дано им будет предвидеть свою погибель. Тех же, кто останется с Господом, отправят в печи железные. Нам на забаву. Мрак у них в очах и забвение на устах. Время наше, диавольское…» Келейник Зосима, правда, ничего не видал и не слыхал. Только успел заметить мертвенную бледность на лице своего духовного наставника. Пронзительно-синие глаза старца покрылись непроницаемой завесой, за которой не всякому суждено было оказаться. Лишь спустя несколько лет, когда великую империю Российскую потрясли кровавое воскресение и русско-японская война, отец Никодим, вышел по утру к святому источнику. Залился слезами и молвил:
– Как были мы, так и есть, окаянные! Все на своих местах, охальники. И не ведают, что творят, но к погибели мир ведут. Остановить их надобно, дитятко. Ведь стар я и слаб, что б там не говорила братия. Да и братьев-то истинных мало. Истину ты произнес, Зосима, когда о блуде и грехе сказал в монастырских стенах. Об этом будет явлено тебе со временем. Печатью святой затвори свои уста и очи. Не приспело тебе сокровенное созерцать…
Надо сказать, что настоятель монастыря, человек желчный и грубый, крайне не возлюбил молодого келейного Зосиму. Сам он в тайне душе своей желал приблизиться к святому старцу. Но отец Никодим хладнокровно отвергал все попытки: ум настоятеля был далек от духовного промысла. Был тот упитан и благообразен, носил сиреневую шелковую рясу с громадным золотым крестом. Его пухлые, нетрудовые руки были унизаны массивными золотыми перстнями. Это делало его похожим на купца, а не духовное лицо. Кое-кто из монастырских пытался представить жалобу о его непотребствах в Священный Синод. Но куда там! У отца-настоятеля и там все было схвачено: «зачинщиков смуты» взяли под стражу и сослали в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. Это послужило суровым уроком для всей братии. «Особливо строптивым никто не возжелал быте…»
С тех пор настоятель монастыря укрепился в своем положении. Больно хлестал по щекам провинившихся, ставил их на ночь в кельях на колотый кирпич или толченое стекло. За малейшую провинность отправлял на тяжкие работы. При нем доносительство и лесть почти вытеснили благой чин. Монашеские службы проходили безрадостно. Смирение и послушание превратились в беспросветную кабалу. В ней оказывались молодые монахи относительно тех, кто был постарше и в милости у настоятеля. Посты утратили свое значение. Видя, что настоятель не гнушается «скоромники», остальная братия махнула рукой на остатки благочестия. Питие и сквернословие стало обыденным явлением, словно по пророчеству…
Зосима постигал духовный подвиг святых сподвижников. Стал смирять свой дух и свою плоть суровым постом. Питался порой одной лишь студеной водицей из святого источника да размоченными в ней корками хлеба. Он был осмеян прочими братьями. Им было невдомек, что молодой монах и впрямь решился стать святым сподвижником. Многие из них жестоко шутили с ним. То кипятком его из шайки обольют в монастырской бане. То каменья тяжкие с того ни с сего падут на его плечи… Зосима стойко переносил выпавшие на его долю тяжкие испытания. В его памяти жили откровения, что были явлены ему от Бога…
…Отправился он, по настоянию святого старца, в дальний монастырь, что был на острове. Но пришел к нему затемно. Повстречался ему одинокий старичок на подводе, что согласился его подвести до монастырских ворот. Весь путь говорил с Зосимом, как тяжка жизнь монашеская. Какие искушения насылает Диавол на чернецов. Так и подъехали они к воротам, окованным железом, под святым образом. Расстелил Зосима серый армячок на травушке-муравушке, что серебрилась в свете молодой луны по всему острову. Сотворил молитву с крестным знамением, готовясь отойти ко сну. Окинув взглядом спокойные, темные воды озера, он заметил светящуюся белую дорожку, что протянулась к берегу. По ней на подводе его подвез тот старичок. Утром же, когда рассвело, открывшие ворота монахи были удивлены, что юноша оказался на их стороне. Белая, светящаяся дорожка исчезла. Будто и не было ее никогда. Никто о ней знать не мог, так как было явлено чудо от Господа Всевышнего. По сему, после кратковременного послушания в здешнем монастыре Зосима был отправлен в Сергиево-Троицкую лавру…
После смерти старца Зосима пережил страшное испытание. Прибыл новый монах из Суздальской обители с письмом от тамошнего настоятеля. Был тот монах кряжист и широк в плечах, с большими, заскорузлыми руками. Черная, как смоль, борода его скрывала грубое лицо, на котором угадывались многочисленные рябины от перенесенной оспы. В кустистых бровях были затеряны необычайно подвижные, зеленоватые глаза. Вместе с изогнутым, ястребиным носом они придавали лицу потаенное, зловещее выражение. Монашеское одеяние сидело на нем неуверенно и мешковато. Было заметно, что в душе у Тихона (так звали вновь прибывшего) было не все в ладах со Всевышним. Перед настоятелем он лебезил, а остальных братьев бил за малейшую оплошность. Был наделен силой нечеловеческой: сгибал подковы, завязывал узлом ложки. Мог запросто вбить гвоздь ударом пальца. Один раз схватил быка за рога. Одним движением пригнул здоровенное животное к земле… Однако трудиться на монашеском подворье, в огородах и конюшне, не любил. Заставлял трудиться других, подгоняя нерадивых и непокорных ударами пудового кулака. Сам же любил дремать на солнышке, накрыв лицо каламией. Заставлял читать молитвослов, либо петь гнусавыми (точно у бесов) голосами литургию.
Ему все одно было, Диаволу. Только бы покорность да угождение настоятелю.
Пробовал как-то Тихон подступиться к Зосиме, да тот не робкого десятка оказался. Да и силой не обидел Бог. Стиснув за черенок лопату, отрок, сузив глаза, тихо прошептал:
– Ступай отсель, окаянный! Не искушай души христианские…
Никто этого не видал. Поэтому Тихон, уверенный в своей власти, сказал, щетиня бороду пудовой, заскорузлой пятерней:
– Ладно, паря. Трудись покудова. Но знай, придет и твой час, соколик. Туда удод не налетывал, куда брат Тихон захаживал. Бывал я в дальних местах. Знавал я многих непокорных. Ребрышки-то у всех хрустят одинаково. Сердечки у людишек ноне боязливые, соколик. Только ты, видать, ничего не боишься на этом свете, паря?
– Не паря я тебе, – побелевшими губами ответил ему Зосима. – Человек я Божий, да и ты тоже. Почто так говоришь со мной да братьям зло чинишь?
– Про то так говорю, что все вы здесь охальники да грешники, – ответил ему Тихон сумрачно. – Бога не чтите да Богом прикрываетесь. Пора вам узнать, что есть Суд Божий и Страх Божий. В этом мире одна правда: кто страх в себе переломит, тот и есть самый бог…
Зосиму словно ледяной водой окатило от этих слов. Богохульство, произнесенное Тихоном без утайки, потрясло его неокрепшую душу. Старец Никодим поведал ему на смертном одре о странном и страшном видении подле святого источника. Ведомо было святому старцу, душа которого ушла к Всевышнему, о великих бедах и смутах, что обрушатся на мир в новом ХХ веке. Самое страшное это – грядущее царство антихриста. Придет он в обличии божьем на землю. Будет вводить в искушение целые народы, которые по-прежнему не ведают, что творят. «…И будут речи его, сына погибели, сладки, как мед, и благодушны, как фимиам, – прошептал молодому келейнику отец Никодим. – И будет он прельщать теми речами царей земных. Все поклонятся ему. Отцы-сподвижники, что служат Господу, склонятся пред его очами. Красотою своею подобен он будет утренней заре. Поведут на судилище и на казнь тех, кто откажется признать число зверя. …Остальные, побивают их камнями. Терзают, как лютые звери. Превратятся храмы Божьи в мерзость и запустение. В монастырях будут устроены жилища для нечестивых. Таково великое искушение от Диавола! Таков промысел Божий! Все окажутся в грехе и предстанут перед лицом погибели. Лишь тот спасется, кто имя Отца нашего Небесного сохранит в душе своей…» Отходя к Всевышнему, отец Никодим просил Зосиму устоять пред натиском той стихии, которая приготовилась обрушиться на этот мир. «Натиск ее будет велик, – говорил святой старец на последнем издыхании. – Но ты будешь сильнее, дитятко. Просить буду Всевышнего о тебе. Выслать тебе помогу из Царствия Небесного. Что б оберегли твою душу неокрепшую от всякой нечисти Ангелы Небесные. Мало нынче на Руси Святой тех, кто истинно Богу молится и истинно Богу служит. Один ты, дитятко, остался в нашей обители. Церковь-то наша давно уже незримо под пятой антихриста. И того не ведают, окаянные… Быть тебе, брат Зосима, великим сподвижником… последним старцем на Святой Руси-Матушке! В лихую годину Всевышний призвал тебя. Так исполни Его Волю до конца дней своих…»
И вот сейчас антихрист предстал перед Зосимом вполне зримо. В образе Тихона, которого с тех пор юноша не признавал за брата-монаха. Прозорливым умом своим отметил, что и молитв-то толком произнести не может, ибо старославянскому, церковному языку едва учен. Хотя, согласно письму от настоятеля Суздальского монастыря значилось, что пробыл Тихон на послушании четыре года. В самой же обители монахом состоял до пяти лет. Все больше усиливалось в Зосиме подозрение, что это человек темный и пришлый неведомо откуда. В монаха наряженный, да и только. Однако, кому об этом скажешь? Настоятель был груб и не разговорчив, пока речь не заходила о мирских утехах, в числе коих блуд да вино. Остальные же братья боялись пришлого. Потихоньку доносили ему о том, что творилось в обители. Вознося молитвы к Всевышнему, в коих он просил о крепости духовной, Зосима знал, что час страшных испытаний близок. Он не ошибся, встретив его, этот страшный час, во всеоружии духовном.
* * *
…Взмахнув лопатой, Зосима, пошел на Тихона. У того чуть глаза из орбит не выпали… «Уйди отсель, темная человечья душа! Не искушай ни меня, ни Бога нашего!» – воскликнул молодой монах. Тихон, было, взмахнул своим пудовым кулаком. Внезапно темное застлало все вокруг. По-прежнему ярко светил на небе золотисто-оранжевый, огромный шар по имени Солнце и тени легких, перистых облаков скользили по белым монастырским стенам. Зосима видел, что они оказались в разных мирах. Он, молодой монах, почти юноша. И этот огромный, жестокий человек, возымевший власть с чужого слова над монастырской братией.