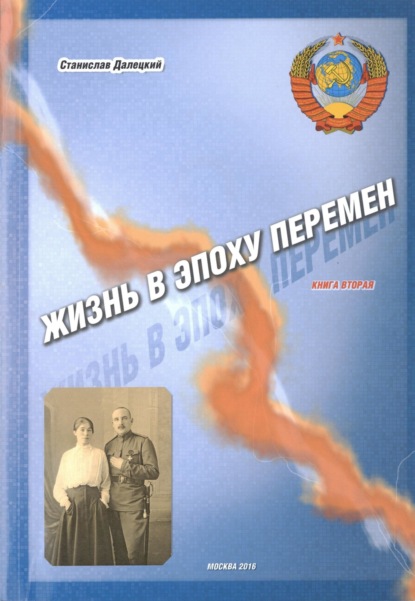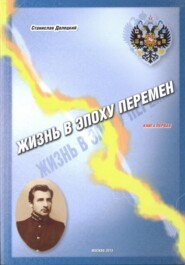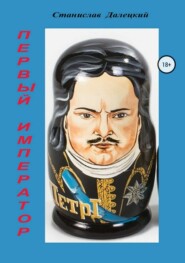По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Солдат, увидев нового ездока, хмуро молвил:
– Что, ваше благородие, кончилась ваша власть, теперь в глушь тикаете, надеясь отсидеться и укрыться от людского гнева? Только и там, в глуши, мы достанем вас, кровопивцев, и посчитаемся за ваше барство и смертоубийство на войне! Большаки, как сказал их товарищ Ленин, не дадут поблажки благородиям и спросят сполна за людские страдания с помещиков и капиталистов. Я сам об этом слышал в Петрограде, откуда и добираюсь в своё село, чтобы там тоже установить Советскую власть и отобрать землю и имущество у кулаков и лавочников.
– Вековая вражда между сословиями начинает разгораться, – подумал Иван Петрович, – если так дело пойдет и дальше, – начнется резня между людьми: одни захотят сохранить свою власть и состояние, а другие начнут отбирать имущество состоятельных в пользу обездоленных, а там, где передел собственности, там всякие проходимцы и авантюристы объявятся и жди тогда большой крови людской, – решил он про себя, но вслух, примирительно проговорил:
– Я, гражданин,(в одном из декретов Советской власти, где отменялись сословия и классы, говорилось, что теперь все люди равны между собой и друг к другу следует обращаться «гражданин» или «товарищ», и Иван Петрович воспользовался этим обращением) «вашим благородием» год назад, на фронте стал называться, а по профессии учитель и учил крестьянских детей грамоте в Могилевской губернии, – объяснил Иван Петрович и в подтверждение своих слов расстегнул шинель и овчину и показал солдатский Георгиевский крест второй степени, что всегда носил на груди и весьма гордился этим знаком отличия.
Солдат, увидев этот крест, что-то буркнул, сплюнул в сторону и замолчал отвернувшись: сказать ему было нечего. – Три креста Георгиевских случайно солдату не получить на фронте, и офицер этот, видимо, храбрый фронтовик, хотя по масти видно, что не из простых будет. И то сказать: учитель и у него на селе уважаемый человек, а потому лучше промолчать и поразмышлять, как он будет соседей, кулаков – мироедов, лишать имущества, – подумал солдат, почему и замолчал, отвернувшись.
Однако разговор продолжил возница, которому тоже захотелось перекинуться словом-другим с попутчиками: не глядеть же молча всю дорогу в лошадиный зад – людская душа требует разговора.
– А что за нужда, послала вас, господин учитель, в наши места? – поинтересовался возница, который подслушал разговор Ивана Петровича с солдатом и теперь намеревался его продолжить.
– Какой я тебе господин! – возразил Иван Петрович, – сказано же тебе, что нет нынче господ, новая власть отменила сословия.
– Так у нас на селе завсегда учителя господином величали: не по барству, а из уважения – пояснил возница. – Мой сынишка младшой, Ванькой кличут, второй год в церковно-приходской школе обучается письму и грамоте учителем нашим Степаном Ильичем – как же мне учителя за это господином не звать? – удивился возница и продолжил: – В наши места при царях сюда каторжников на поселение ссылали, а вы самостоятельно едете, но по говору, видать, не из этих мест будете.
– К жене еду, дочку она родила, – охотно и громко отвечал Иван Петрович, чтобы солдат тоже услышал и освободился от злобы, что переполняла его хилое озябшее тело.
– Сам-то я из Могилевской губернии буду, – продолжал Иван Петрович, – война занесла в эти места, потом в Иркутске служил и вот теперь по демобилизации еду в Токинск, и надеюсь снова заняться учительством: новому государству, как говорят большевики, нужны грамотные люди, чтобы строить сообща новую жизнь, где не будет богатых и бедных и все будут жить своим трудом, – повторил он лозунги большевиков, слышанные им в Ачинске.
Это хорошо, что к семье едете, – одобрил возница намерения Ивана Петровича, – учителя в наших местах весьма почитаемые люди. А где же Могилевская губерния находится, что-то не припомню? Чудится мне, что царь Николай Кровавый, когда манифест писал об отречении от престола, жил там, в Могилеве. Иль я не прав?
– Ваша правда, не знаю, как вас зовут, – ответил Иван Петрович, и соскочив с саней побежал трусцой рядом с санями, чтобы согреться и размять затекшие от долгого сидения руки и ноги.
– Зовут меня Прохором, – охотно продолжал разговор возница, ускоряя поступь лошади вожжою, чтобы Ивану Петровичу было сподручнее бежать рядом, – я из ближнего к Токинску села Рачи, – мы обозом ездили в Омск продать муку, зерно и мясо. Всё продали, кроме зерна – цену хорошую за него не дали, вот и везу мешки обратно, – кивнул он на мешки под сеном.
Продали за золотишко, а не за бумажки, которые новая власть грозится вовсе отменить. И коль царь Николашка отрекся от престола в Могилеве, надо было его там и оставить и отдать немцам вместе с женушкой его Александрой Федоровной – немкой.
Если царь даже власть свою толком не смог передать по наследству, то черту лысому нужен такой царь, а не России. Пусть бы с Гришкой Распутиным, на пару, Николашка служил немцам. Этот Распутин здесь неподалёку жил под Тюменью и был известный пьяница и бабник, и если царь его привечал, значит и сам был мелкого ума: как говорится, дурак дурака видит издалека. По царской дурости и этих Временных правителей, теперь к власти пришли какие-то большаки, с атаманом их Лениным, который обещает замириться с немцем, землю отдать крестьянам, а мануфактуры – рабочим.
Земля у нас в Сибири и так крестьянская – бери, сколько запахать сможешь, но голытьба пропойная сейчас голову подняла буйную и грозится хозяйство у справных мужиков отобрать. Конечно, есть мироеды, которых надо ощипать, но зачем трогать других, который семьёй жилы рвут на земле и потому справно живут? У меня четверо сыновей за плугом вместе со мною ходят, и потому мы живем справно: нам чужой земли не надо, но и своей не отдадим.
Ох, чует мое сердце: передерутся власть нынешняя с властью прошлой, а отвечать, как всегда, будет крестьянин, – хлеб-то всем нужен. Потому я зерно и не продал по низкой цене – пусть полежит в амбаре до весны, а там видно будет, чья власть сильнее, и куда податься крестьянину. А вы, господин учитель, если что, приезжайте к нам в село учительствовать: прежний наш учитель ещё летом уехал в город и не вернулся, так что детишек наших учит попик наш – больше некому, – закончил Прохор свою речь, и Иван Петрович снова заскочил в сани, согревшись от пробежки рядом с подводой.
– Не расскажете – ли, господин учитель, где и как воевали, и за что получили свои кресты: мне с сыновьями удалось отбояриться от армии – дал мзду уряднику, – он и вычеркнул меня с сыновьями из списков по мобилизации, а потом началась неразбериха власти, и так дело до нас и не дошло, – пояснил Прохор свою просьбу, и Иван Петрович начал рассказывать о своих фронтовых делах и всё больше о товарищах, чем про себя.
Короткий декабрьский день начал клонится к сумеркам, когда обоз въехал на постоялый двор, на ночевку, чтобы кони отдохнули в теплом загоне, пожевали овса и сена, попили водицы и, посвежевшие, завтра продолжили путь. Всего пути до Токинска по такой морозной погоде будет три дня, – пояснил Прохор, распрягая свою лошадь и приглашая путников в ночлежную избу на постой.
К исходу третьего дня, как и обещался Прохор, обоз въехал в уездный городок Токинск, где проживала жена Ивана Петровича – Анечка с новорожденной дочерью Августой, а проживала она у своих родителей: Антона и Евдокии Щепанских в родительском доме, что Антон Щепанский, будучи местным купцом и владевший небольшим маслозаводом и паровой мельницей, построил несколько лет назад в самом центре городка на берегу речушки, название которой Иван Петрович запамятовал по ненадобности.
Он бывал в этом городке лишь однажды, дней десять, и почти год назад, когда вместе с Анечкой – тогда еще невестой, приехал в городок, чтобы получить согласие родителей Анечки на её брак с ним, обвенчаться тут же и уехать к месту службы: после окончания училища прапорщиков в Омске, начальство дало ему десятидневный отпуск для устройства семейных дел.
Тогда был февраль месяц 17-го года, трескучие морозы сменялись снежными вьюгами, за свадебными хлопотами и по дурной погоде побродить по городку ему не удалось, и вот теперь, на закате короткого декабрьского дня, по тихой, но морозной погоде въехав в городок, он с интересом присматривался к месту своего будущего обитания, где намеревался пережить время смут и потрясений, охвативших всю Россию от столиц до самых до окраин.
Приземистые избы и домишки-пятистенки, то есть состоящие из кухни и комнаты, стояли засыпанные снегом по самые окна: ранняя и снежная зима успела засыпать городок снегом людям по пояс. От домов тянулись к дороге траншеи, прорытые в снегу, чтобы обитатели могли выйти из жилища на уличную дорогу, которая чистилась ежедневно бревенчатым клином. Этот клин, тянувшийся парой лошадей впереди обоза Иван Петрович видел ещё в свой прошлый приезд в городок: за год в стране сменилось две власти, а клин для очистки дорог был всё тот же, да пожалуй и лошадки, что тянули его, были прежние.
Въехав в городок, подводы обоза рассеялись кто куда, и Иван Петрович, соскочив с саней, прихватил свой вещмешок, расплатился с Прохором и, поблагодарив его за оказию, направился к дому своего тестя, Антона Щепанского, до которого было с полверсты пешего ходу.
Дом тестя, большой по местным меркам: из четырёх комнат и кухни, срубленный несколько лет назад из строевого леса, Иван Петрович увидел издалека, от храма Георгия Победоносца, стоявшего на берегу реки. На противоположном берегу и виднелся знакомый дом, где у усталого путника проживала молодая жена с дитём, вовсе не подозревавшие о близости своего мужа и отца: телеграмму Ивану Петровичу о своём приезде отправить не удалось: телеграф работал только на правительственные депеши и распоряжения властей.
Заснеженная тропинка, похрустывая под валенками офицера, привела его к реке, покрытой льдом и засыпанной снегом, перевела на другой берег, и вскоре Иван Петрович стоял у самой калитки тестиного дома, из двух печных труб которого поднимались к небу два прямых столба дыма: печи топились с вечера для ночного тепла в доме, а вертикальные столбы дыма предупреждали о том, что ночью мороз усилится, и завтрашний день будет студёным, но ясным и безветренным.
Иван Петрович толкнул калитку, оказавшуюся ещё незапертой на ночь, и вошел в просторный двор, вычищенный от снега, который был переброшен в огород: и двор чист, и весной огород наполнится дополнительной влагой от стаявшего снега, что весьма полезно для огородничества, ибо майские засухи бывают здесь ежегодно и наносят большой урон урожаю овощей, – так ему говорила в тот прошлый приезд тёща – Евдокия Платоновна, которая в это самое время вышла из дровяного сарая с охапкой березовых поленьев в руках.
Завидев постороннего во дворе, женщина подошла ближе и, признав в госте своего зятя, охнула от неожиданности и выпустила поленья из рук. Поленья рассыпались по двору, а Евдокия Платоновна подошла к зятю и облобызала его троекратно в щёки по крестьянскому обычаю.
– Добро пожаловать, дорогой гостюшка, – приветствовала женщина Ивана Петровича, – мы с мужем уж и не чаяли до весны увидеть зятька: война проклятая идёт и идёт, не позволяя вам, Иван Петрович, навестить жену и дочку. Дочка ваша, Августа, такая славная девочка получилась по божьему промыслу, и Анечка, жена ваша, здорова, так что в добрый час приехали вы, Иван Петрович к своей семье, – приговаривала тёща, собирая дрова.
Иван Петрович прихватил тоже несколько поленьев и следом за Евдокией Платоновной вошёл в дом, открыв тёще дверь. Они оказались в кухне, где у стола сидел тесть – Антон Казимирович, и строгал сапожным ножом длинные ветки сушеного табака: он готовил себе очередную порцию махорки.
Тесть, будучи заядлым курильщиком, за годы ссылки пристрастился к местному сорту табаку, хорошо вырастающему в здешних местах, сажал его в огороде, убирал, высушивал в сарае и прятал на сеновале под крышей, чтобы зимой, вот так на кухне, аккуратно измельчив табак, набить махоркой свой кисет и, закончив работу, скрутить самокрутку, зажечь её от горячего угля, добытого из печи, и потом сидеть у печи, блаженно потягивая душистый дым и выпуская его в топившуюся печь, которая утягивала табачный дым вместе с дымом от горящих поленьев в трубу, и далее из трубы вверх к мерцающим звездам холодного ночного неба.
Конечно, став купцом, он мог позволить себе дорогой табак, но привычек курильщики обычно не меняют, и Антон Казимирович довольствовался привычным домашним табаком-самосадом.
На скрип открывшейся двери Антон Казимирович не обратил внимания, полагая, что это возвратилась его жена, пошедшая в сарай за дровами. Евдокия Платоновна бросила у печи поленья, принесенные для утренней топки, и вкрадчиво сказала мужу: – Посмотрите, Антон Казимирович, кого я привела в дом со двора нечаянно – негаданно.
Антон Казимирович обернулся и близоруко прищурившись всмотрелся в гостя. Не сразу, но он признал в вошедшем мужчине своего зятя, которого и видел-то всего ничего, когда Иван Петрович приезжал сюда свататься за дочь Анну, и тогда молодые венчались в местной церкви и прожили здесь больше недели.
Тесть встал, стряхнул с себя крошки табака, что рассыпались за время работы, подошел к зятю, прихрамывая на левую ногу, и, осторожно приобняв его, молвил:
– Рад видеть вас, Иван Петрович, в добром здравии в моём доме, который, надеюсь, будет и вашим домом. Дочь наша, ваша жена – Аннушка тоже здесь, здорова, видимо кормит дитя, дочку вашу Августу, пойду обрадую их вашим приездом негаданным, а вы пока раздевайтесь и грейтесь у печи: наверное, замерзли с дороги по нынешним холодам, – и Антон Казимирович пошел в горницу, чтобы позвать дочь Анну встречать мужа.
Не успел Иван Петрович снять шинель, как на кухню ворвалась Анна и, не смущаясь родителей, бросилась на шею мужу, вся светясь радостью от нечаянной встречи.
Иван Петрович ласково погладил жену по шелковистой пряди волос, которые Анечка не успела убрать под косынку по местным обычаям и, простоволосая, выскочила навстречу мужу.
Он обнял родную, теплую и мягкую жену, почувствовав, как она вздрогнула в его объятиях и, распахнув шинель, плотнее прижалась к нему. От Анечки пахло березой, молоком и ребенком. Поцеловав жену в щеки, он отстранил Анечку от себя, смущаясь родителей, и пристально всмотрелся, пытаясь увидеть перемены в жене, которую не видел целый год.
С рождением ребенка Анечка похорошела, ее формы округлились, а взгляд стал спокойным. Тёмные волосы беспорядочно рассыпались по её плечам, а из запахнутого наспех халатика с капельками молока на отвороте виднелся край налитой груди: видимо она кормила дочку и, получив известие о прибытии мужа, тотчас кинулась ему навстречу, прервав кормление. Действительно, из дальней комнаты послышался детский плач: дочка, не успев насытиться, плачем требовала продолжить молочную трапезу.
– Пойдем, покажу тебе нашу дочку, – сказала Анечка Ивану Петровичу и потянула его за собой в дальнюю комнату, из которой доносился плач ребенка.
– Подожди, сниму шинель и валенки, – остановил он порыв жены, – не в одежде же идти к дитю, мало ли какая грязь за долгую дорогу могла попасть на одежду.
Он снял шинель, овчинную подстежку, валенки, что купил в Омске, и, оставшись босиком в шерстяных носках, пошел за женой следом к ребенку, успев вымыть руки под рукомойником, висевшим слева от входной двери.
Рукомойник и раковина под ним были из никелированного железа и блестели даже при тусклом свете лампы-десятилинейки, висевшей над кухонным столом. Закончив нарезать табак, Антон Казимирович увернул фитиль лампы, чтобы не жечь зря керосин, – не из экономии средств, которых у него, купца, было достаточно, а потому, что керосин теперь, после смены власти, завозился в городок нечасто, и следовало его экономить, чтобы вообще не остаться при лучине.
Пройдя за женой в дальнюю комнату, где тоже светилась керосиновая лампа, но поменьше – семилинейка, Иван Петрович увидел зыбку, подвешенную за крюк в потолке на стальную пружину и веревку к ней, расходившуюся по углам деревянного каркаса холщовой люльки, в которой плакала и ворочалась его дочь, родившаяся почти два месяца назад.
Жена Анна, подхватив ребенка из люльки, присела на кровать, стоявшую рядом, и, расстегнув халат и обнажив грудь, продолжила кормление дочки, которая, прихватив сосок, успокоилась, зачмокала, высасывая молочко из материнской груди, и вскоре заснула, насытившись.
Анна бережно положила дочь в люльку, покачала немного и, убедившись, что ребенок крепко заснул, прижалась к мужу, присевшему рядом на кровать, и с первым отцовским чувством наблюдавшим за дочкой.
– Неужели это маленькое розовое дитя с голубыми глазами и светлыми реденькими ещё волосиками на голове и есть моя дочка, мой первый ребенок? – удивлялся про себя Иван Петрович, обнимая крепко жену и жадно целуя её в губы, почему-то пахнущие парным молоком, будто она тоже, вместе с дочкой только что попила его из своей груди.
Анна, которая прожила мужней женой лишь неделю после свадьбы и, став женщиной, не успела привыкнуть к мужским объятиям, и, лишь несколько раз вкусив женского сладострастия, стала матерью, теперь, прижавшись к мужу, вдруг ощутила страстное желание мужской близости: такое сильное, что у нее закружилась голова, и она прикусила губы, которые Иван Петрович продолжал осыпать поцелуями, почувствовав трепетное желание жены и сам воспылавший страстью обладания этой женщиной – уже не только жены, но и матери его ребенка.