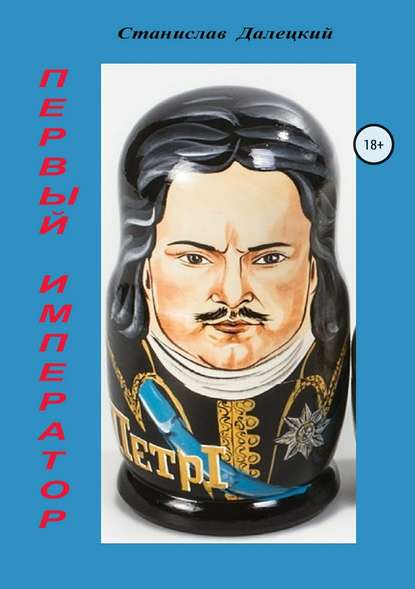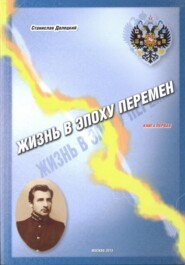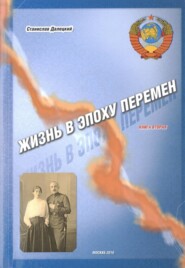По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первый император. Сборник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так минул год, второй и третий и Петр начал проявлять интерес к девкам, и интерес этот исполнился на девке Насте, чему Федор был свидетелем.
Дальше Петр, известно, удовлетворялся девками как только мог, иногда отсылая Федю прочь – если насильничал девку в своей спальне или напротив приглашая Федю, чтобы тот протер чистой тряпочкой причинное место царю и девке, если девка та оказалась в царской опочивальне по своему согласию, в надежде получить за свою услугу серебряный рубль или даже золотой дукат, что иногда тоже случалось, если плотская утеха с этой девкой царю пришлась по душе. Впрочем, Федя уже не верил в наличие у царя Петра православной души: басурманская душа может и имелась у Петра с темным цветом лица, а вот христианская душа в царе не просматривалась.
Федя, который даже к четырнадцати годам еще не обрел интереса к девицам, смотрел на плотские утехи царя Петра с некоторой брезгливостью и даже отвращением, находя в обращении царя с девками то же непотребство, за которое Господь уничтожил небесным огнем древние города Содом и Гоморру, где ханаане занимались плотскими извращениями.
Пока царь Петр ублажал свою плоть с девками, Федя проводил свободное время за чтением книг, которые ему давал Зотов из царской библиотеки. Книги эти были в основном духовного содержания, но встречались иногда и светские с описанием разных стран и народов и событий, происшедших в этих странах, что очень привлекало Федю, который еще ничего не видел в своей жизни: ни других стран, ни других народов, поскольку жил поначалу в селе, потом в монастыре, затем в Москве на Патриаршем подворье и вот теперь в царском дворце в Преображенском.
Летом, когда темнело поздно, Федя садился с книжкой возле людской избы, где жили слуги, не имеющие семьи и где ему отроку тоже был выделен угол с топчаном, набитом соломой, возле которого стояла котомка с вещами Феди: вещей этих было у него немного: запасной кафтан слуги с портками, исподнее белье, деревянный крест на бечевке, что повесила ему мать поверх нательного креста, когда благословляла сына на службу в монастырь.
Еще в вещах было металлическое зеркало, отполированное до блеска ртутью, в которое можно было поглядеться, если вдруг на лице вскочил прыщ или заболел зуб. И самая ценность Феди – это книга «Житие святых», где были описания жизни святых пророков и праведников земли русской. Из этих жизнеописаний Федя и познавал давнюю жизнь в святой Палестине и на земле русской в прошлые времена. Прочитав что-нибудь о чудесах, сотворенных угодниками, Федя представлял себя на месте этих святых, и тогда мысль приводила его к таинственным городам и землям, где он обладал могуществом этих святых и совершал подвиги, помогая людям побеждать злых врагов-басурман и нехристей, или он, словно богатырь из сказок, побеждал и соловья-разбойника и змея Горыныча и всякую нечисть болотную и лесную.
Зимними вечерами, когда на дворе холодно, а в людской темно и читать невозможно, а царь Петр, занимаясь с очередной девкой, прогонял Федю прочь, говоря, что он царь и все что из него выходит, тоже царское и потому подтираться не надо, если он справит нужду, с чем Федя был согласен: Петр и без этого был всегда грязен: ел он неряшливо, хватая куски мяса руками и вытирая руки о мундир офицера иноземного строя, который к вечеру замасливался словно кухонная тряпка. Федя, получив свободу, проводил вечера с истопником Акимом – бывшим солдатом, получившим увечье руки в Чигиринском походе царя Федора Алексеевича, предшественника царей Петра и Ивана.
Акиму было за сорок лет, он слыл бобылем и жил в избе на окраине царской усадьбы.
Истопник Аким разжигал огонь в печах царского двора, чтобы прогреть горницы и спальни на ночь и устроить обитателям дворца теплый ночной сон. Федор ходил за истопником, помогая ему растапливать печи и подкидывая в них поленья по указанию Акима. Закончив растопку печей и заполнив их поленьями, Аким обычно присаживался возле одной из печей, открывал дверцу и, застыв в неподвижности, смотрел, не мигая, на языки пламени, охватывающие поленья, которые истончались под напором огня, давая ему полную силу до тех пор, пока от поленьев не оставались лишь раскаленные угли, которые догорая, превращались в пепел.
– Вот и жизнь наша будто огонь в печи: от рождения разгорается, как при растопке, потом горят пламенем годы отрочества, юности и зрелости, а затем идет на спад, к старости, оставляя лишь угли и пепел от прожитой жизни. Хорошо если этим своим жизненным огнем человек обогрел других: жену, детей и прочих родичей и хороших друзей, а если не обогрел, то значит, жизнь свою прожил впустую, зря и я полагаю, что таким людям не место в раю, потому что самый большой грех человеческий – это прожить жизнь впустую, а еще хуже, если прожил свою жизнь в ущерб другим людям и за их счет, нанеся им обиды и притеснения своей злобой и завистью.
Я думаю, что именно злоба и зависть и есть худшие свойства плохого человека, потому что злоба лишает человека разума, а зависть пробуждает в нем подлость и предательство.
Здесь, во дворце, вся жизнь построена на зависти: бояре завидуют царям, дворяне завидуют боярам, вольные люди завидуют дворянам, холопы завидуют вольным и лишь цари наши никому не завидуют, потому что среди людей им завидовать некому, а богу завидовать не приходится, ибо Господь и так дал царям власть большую над всеми людьми, что ходят под царем.
Я слышал, что есть заморские страны, где люди избавились от царской власти и потому перестали им завидовать. Если это так и есть, то хорошо бы сделать всех людей равными между собой и тем самым избавить их от зависти. В Писании так и сказано, что Господь, сотворив землю и воду, солнце, деревья и траву, зверей и птиц и всякую живность, на седьмой день творенья создал человека по своему образу и подобию, и чтобы этот человек по имени Адам вместе с Евой, созданной Богом из ребра адамова, создавали дальше людей в грехе, но равных себе по положению. Но лишь только люди начали плодиться, как среди них появилась зависть, которая словно ржа начала разъедать человеческие души, уничтожая в них все хорошее и оставляя в душах только тлен и пепел, как от сгоревших поленьев.
Царь наш, Петр, еще вьюноша и нет в нем места зависти, потому что он наполнен до краев своей души, словно сосуд, непонятной злобой ко всем нам, русским людям, и к нашей жизни.
Казалось бы: живи царь Петр и радуйся, заботься о своем народе, как отец родной, когда подрастешь и обретешь свою власть, так нет же – ничего русское, православное ему не мило – не зря же он своих потешных солдат одел в западные кафтаны, и офицеров-латинян поставил над солдатами.
Мнится мне, что царская злоба Петра изольется на весь русский народ и устроит этот царь нам большую войну и смуту внесет в наши души, заставив поклоняться обычаям немцев и басурман, – закончил Аким свое размышление, не заметив, что размышлял-то он вслух, а слушал эти мысли царский слуга Федя, хотя и отроческих еще годов, но разумный чистыми помыслами, несмотря на грязную службу, что исполнял он при царе Петре и по его царской воле.
Федя, ничего не ответив на слова Акима, которые он обдумает после, спросил истопника:
– Расскажи-ка дядя Аким как ты воевал, и где повредил руку, из-за которой остался без семьи и в царских истопниках. Мне интересно это знать: возможно, придется воевать, если царь Петр затеет войну, а может всю жизнь придется быть царским слугой и выполнять эту грязную службу, которой наделил меня царь Петр, когда был еще мальцом, как и я тоже. Четыре года прошло, царь Петр уже девок дворовых портит, а меня не освобождает от службы золотарем.
– Твоя служба, Федя, обидная и грязная, но не сложная. Воинская служба тоже грязная, но и тяжелая, а потому Федя не стремись попасть на войну, – отвечал Аким, оживившись о воспоминаниях своей молодости. – Я в стрельцы попал за своим отцом следом, чтобы семье осталась усадьба и жалованье, потому что отец захворал, харкал кровью и не мог нести службу.
Через год или больше, случился в стрелецкой слободе большой пожар ночью и в том пожаре сгорели мои отец и мать и две сестры младшие: так я и остался бобылем. Десять лет я нес службу здесь в Москве и даже присмотрел себе невесту тоже из стрелецкой семьи, но не успел с ней обвенчаться, потому что послали наш полк воевать в Малороссию против турок.
Там, под Киевом есть город Чигирин, вот его мы отбили у турок, правда не сразу, но отбили и стали там гарнизоном. Турки с таким делом не смирились и, собрав большое войско, осадили этот городок. Мы храбро бились, но пришлось отступить под напором турок: вот при отступлении я и был ранен в руку, пуля перебила сухожилие, руку мне скрючило, и стал я негоден к воинской службе.
Вернулся в Москву, где у меня не осталось ни кола, ни двора, и определился на службу истопником здесь в Преображенском. Зимой печи топлю, летом слежу за заготовкой дров да ремонтом печей – так жизнь и течет, скоро лет десять будет, как я в истопниках хожу, – закончил Аким свои слова и снова обратил взгляд на языки пламени, что разгорались в печи: за разговором Аким подбросил в печь поленьев и теперь огонь жадно охватывал их, вызывая гудение в печи своим неистовством.
– Гляди, Федя, какая хитрость в огне: сколь не кидай в печь поленьев, огню все мало и никогда он не насытится, а дай волю и выпусти огонь из печи, он все палаты пожжет и другие избы в селе, до которых сможет добраться с помощью ветра.
Так и среди людей есть такие, которым все мало, чего ни дай, и если люди эти не получат укорот своей жадности, они даже могут принести вреда другим, не хуже этого огня.
Вот и разумей, Федя, когда подрастешь, каких тебе людей стоит держаться: жадных, как этот огонь или довольствующих тем, что есть сейчас. Будешь стремиться к чему-то, что холопу не дозволено, можешь обжечься до смерти, а будешь умерен в своих желаниях и довольствоваться тем, что есть, – глядишь и проживешь жизнь честную, которая откроет тебе двери в рай, когда попадешь на тот свет, как говорится в Писании.
– Сомневаюсь я, дядя Аким, что на том свете другие порядки, чем на этом, – возразил Федя, – смотри: царь наш Петр черен телом, словно арап, и душа у него не светлее сажи, потому что девок сильничает, а прелюбодеяние есть грех смертный, и ничуть Петр не опасается за свою участь на том свете – надеется, видимо, что Господь и там даст ему хорошую долю.
И еще дядя Аким, я никак не могу уразуметь, почему у каждого народа свой Бог. Вот у турок есть Бог, называется Аллах, у латинян тоже бог Христос, но почему-то другой, чем у нас, потому и веры у нас разные. Так какой же бог является истинным: наш, православный или басурманский Аллах или латинский Христос? Бог же может быть только один, как бывает один отец и одна мать у каждого человека. Поясни мне, дядя Аким.
– Не думай об этом, Федя, не нашего ума это дело. Пусть попы разбираются в богах, а нам следует молиться нашему Господу и просить милость у него, как ее просят басурмане у своего Аллаха. Есть и другие боги у других народов. Я так думаю, что Господь-то один, но называется он по-разному у других народов, потому что обычаи у этих людей разные. Спроси, Федя, меня про что другое, а не про бога нашего, которому я простить не могу, что позволил он сгореть заживо всей моей семье и определил мне участь бобыля истопником здесь в царской усадьбе. Давай-ка я расскажу, как воевали мы с турками,– закончил Аким и принялся рассказывать Феде про осаду турками Чигирина и как русские войска вместе с казаками храбро бились за этот город, но иностранцы-генералы и воеводы-князья неправильно распорядились войсками и туркам удалось взять город Чигирин, но басурмане были так поражены храбростью русских воинов, что турки согласились на мир, уступив Малороссию под власть православного царя Федора Алексеевича.
Под такие разговоры Федя иногда засыпал, и истопник Аким, накрыв отрока тулупом, уходил смотреть за другими печами, а возвратившись не заставал Федю: тот проснувшись, уходил на свое место в людской, где заметив его отсутствие, могли учинить розыск и обнаружив мальца возле печи вместе с истопником, наказать Акима: дружба между слугами не разрешалась в Преображенском по указанию Медведихи, которая считала, что холопы должны, словно собачки, служить господам, а дружба это удел знатных людей.
Прошел еще год царской срамной службы Феди, который сильно подрос, окреп и стал выглядеть почти взрослым – даже золотистый пушок покрыл его щеки и подбородок, что говорило о наступлении мужской зрелости.
Наблюдая как царь Петр пользует девок, Федор уже не испытывал отвращения от вида обнаженного девичьего тела в похотливых объятиях царя: напротив, ему иногда хотелось, как в сказке, освободить красну девицу от Кощея Бессмертного, а взамен получить ласку девушки за свое избавление от насильника.
Но эти мечты так и оставались мечтами, пока однажды горничная девка, которую царь Петр не единожды пользовал, по согласию с матерью, в своей спальне, не затащила Федю в царскую опочивальню, где делала уборку, и, бросившись навзничь на кровать, бесстыдно заголила подол сарафана и, раздвинув ноги, затянула Федю на себя, тихо приговаривая: Давай, Феденька, ублажи меня мужской ласкою, иначе скажу Петру, что ты хотел взять меня силой и тогда не сносить тебе головы. Ты же знаешь, что царь не терпит с кем-нибудь делиться девкой, если он сам этого не пожелает.
Кровь ударила Феде в голову при виде женской наготы, и он неумело, но несколько раз подряд, овладел девицей по имени Маша, чувствуя как плотская страсть нарастает, изливается вглубь, ослабевает на мгновение, но потом возвращается вновь, чтобы снова излиться в теплоту женского тела.
Наконец, утолившись окончательно, он освободил девку, которая вскочив с кровати, быстро оправила сарафан и пошла прочь, сказав Федору: Эх, если бы царю Петру дать твое обличье и ласковое обращение с женщиной, то такому царю цены бы не было. Жаль, Федя, что ты холоп, но и в холопе есть для девицы мужская утеха. Теперь я тебя буду пользовать при всяком удобном случае и будь осторожен, не проговорись, иначе нам обоим несдобровать от царского гнева.
Федор посмотрел вслед девке, которая шла, покачивая бедрами, походкой женщины только что получившей плотскую утеху от мужчины и задумался над ее словами о царском гневе. Он, будучи постоянно рядом с Петром, как никто другой знал безмерность его гнева и злобы, если что-то происходило не по его желанию и повелению, а помимо его воли. Здесь пощады ждать не приходилось. И как ни сладка была первая близость Федора с девкой Машей, если такое будет повторяться, то не избежать ему огласки и царской злобы.
К вечеру царь Петр возвратился от своих потешных войск, где провел весь день в маневрах, муштруя солдат гусиному шагу, и как всегда ему захотелось девки. Он послал за какой-нибудь горничной, и, по случаю, посланному слуге попалась на глаза девка Маша, которую он тотчас и привел к царю для утехи. Проходя мимо Федора, девка Маша подмигнула ему и ничуть не стыдясь, легла на царское ложе точно так же, как днем ложилась перед Федором.
Царь занимался девкой грубо и долго, а насытившись, приказал ей уходить прочь, дав за утеху серебряный рубль.
Федор зашел в спальню, как бы за горшком, который оказался пуст и почувствовав, что Петр находится в добром расположении духа, осмелился попросить: – Ваше величество, позвольте мне навестить отца с матерью, которых я не видел более пяти лет. Это совсем рядом, под городом Дмитровом: я их навещу и тотчас вернусь выполнять свою службу. Петр было нахмурился неуместной просьбе холопа, но вдруг решил проявить милость и сказал:
– Ладно, Федька, так и быть разрешаю тебе проведать родителей. Даю на это две недели вместе с дорогой. Вот тебе рубль серебром на подарок им и скажи дьяку в приказной избе, чтобы выписал тебе подорожную грамоту – иначе могут принять за беглого и возвратить в Москву: второй раз я уже не разрешу, потому что привык к тебе, хотя и не стал ты мне подмогою в моих забавах и воинских играх. А теперь пошел прочь, и чтобы духу твоего здесь завтра не было, иначе могу переменить свою волю.
Обрадованный Федор убежал собирать котомку и выписывать подорожную, а Петр задремал после целого дня забот среди потешных солдат и этой девки, что подвернулась ему для утехи: дело это хотя и богоугодное, но при ежедневном употреблении изнуряет плоть даже такого крепкого отрока каким женонеистовством обладал царь Петр.
Утром следующего дня Федор с котомкой на плече вышел из усадьбы и направился к Дмитровской дороге, чтобы попутной повозкой добраться до Дмитрова, а там и родное село рукой подать.
К вечеру второго дня Федор уже входил в отчее село и, миновав несколько изб, остановился у плетня, огораживающего отчий дом с улицы. За плетнем на лужайке копошились трое ребятишек мелкого возраста – не более четырех лет старшему. Федор толкнул калитку, вошел во двор, и тут из избы выглянула его мать посмотреть, кто же это вошел во двор. Увидев Федора, она материнским чутьем узнала в нем своего сына и опрометью бросилась Федору на шею, который подивившись, что мать ниже его на голову, крепко прижал ее к своей груди.
– Феденька вернулся, – всплакнула мать, прижимаясь к сыну. – А мне сегодня сон странный снился, будто мы с отцом на покосе, а ты, маленький еще, сосунок, лежишь в корзине на опушке леса. Я никак не могла взять в толк к чему этот сон, а он оказался к твоему возвращению: недаром говорят, что материнское сердце вещун. Как тебе, Феденька, удалось вырваться из неволи, в которую мы с отцом сами тебя и отдали, надеясь что при монастыре, со своей грамотностью ты выдвинешься в люди и нам, грешным поможешь вырваться из монастырской кабалы?
Так я, мама, лишь на свидание к вам прибыл и через десять дней должен возвратиться к своей службе при царе Петре – иначе буду считаться беглым холопом. А где отец-то?
– Известно, где крестьянину быть в июне месяце, если не на покосе. Там он на лугу вместе с твоим старшим братом и сестрой сено заготавливают на зиму нашим буренкам и коню, дай бог им здоровья.
Трудом своим мы немного приподнялись, но из монастырской кабалы так и не выбрались в податные крестьяне. Податным-то много легче живется: уплатил подать со двора и все остальное твое, а в монастырской кабале, кроме подати со двора еще и оброк монастырский тяни, и еще мелкие подати подавай монастырской братии: за корову, за коня, да ты у отца сынок потом спросишь: он у нас голова всему и лучше меня во всем разбирается.
Он же грамоте по твоим стопам у дьячка выучился хоть и не так бойко как ты, но умеет читать и считать, письмо только ему не далось, так оно крестьянину не нужно вовсе, кому писать-то? Твоему царю Петру с жалобой на монастырские поборы? Так верхние люди всегда заодно против крестьянина. Как говорится «ворон ворону глаз не выклюет», так и царь Петр, монахам перечить не будет, даже если в силу войдет. Мне отец-то толковал, что всеми делами в государстве пока заправляет царица Софья, а цари малолетние Иван и Петр при ней вроде сосунков: на прикормке, но без власти. Так ли это?
– Так, мать, так. И это хорошо, потому что царевна Софья в полном разуме и по-женски терпима, тогда как царь Иван немного не в себе и с головой не дружит, а царь Петр больно яростен в гневе и ждать больших бед нам придется, когда он власть приобретет.
Ладно, мать, о делах, кто эти дети, что во дворе копаются?
– Это Феденька, твои младшие братья и сестра. Бог нам с отцом еще деточек послал, когда ты из монастыря уехал. Видно, хотел возместить нам с отцом грех наш, что отдали тебя в монастырь вместо кабальной подати.