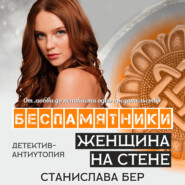По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анхен и Мари. Прима-балерина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Делопроизводитель таинственно закивал.
– Ах, вон оно что, – выдохнула госпожа Ростоцкая, рассматривая господина Громыкина.
Тот сидел, сгорбившись, с багрово-красным лицом. Однако через минуту начальник сыскного отдела снял с носа пенсне, положил его в нагрудный карман пиджака, встал и вышел из-за стола.
– Так, господа. Надобно ехать в театр. И срочно! – сказал он, направляясь к двери. – Нам нужен Мариус Потапов. В театр!
Анхен и господин Самолётов устремились за ним. Дорога до театра по Офицерской улице заняла мало времени, но тянулась невыносимо долго – проходила в полной тишине. Дознаватель в служебной карете молчал, а его подчинённые не рискнули нарушать сие тягостное молчание.
Когда госпожа Ростоцкая вошла в кабинет главного балетмейстера, то зажмурилась. Он превзошёл все ожидания искушённой художницы, выросшей в семье придворных. Обилие позолоты, хрусталя, шёлка, блеск холодного мрамора – каждая деталь интерьера впечатляла посетителя и внушала уважение к хозяину кабинета.
– Чем я могу быть вам полезен, господа? – вместо приветствия спросил сыщиков руководитель балетной труппы.
– Можете, да, – сказал господин Громыкин и без приглашения уселся в кожаное кресло у массивного стола.
Мариус Потапов, сын французской балерины и русского балетмейстера, лысеющий, с пышными, остроконечными усами, дёрнул левой щекой от такой фамильярности, но промолчал.
– Расскажите нам про Ваши отношения с убитыми барышнями. Да. Расскажите, – потребовал господин Громыкин, схватив со стола бронзовую статуэтку балерины в прыжке.
Впрочем, повертев в руках, он вернул декор на место. Господин Потапов поморщил крупный французский нос, мотнул головой, взъерошил кудрявые остатки некогда пышной шевелюры, встал и вышел из-за стола.
– Да как Вы смеете?! На какие такие отношения Вы намекаете? Я – женатый человек. У меня дети. Взрослые, – прокартавил руководитель балетной труппы. – И маленькие тоже есть.
– Ну, жена и заключенный на небесах брак не мешают прелюбодействовать, ежели охота приспичит, – парировал дознаватель, вставая и глядя балетмейстеру прямо в глаза. – Не мешают, да.
Они были ровесники. Однако сыщик казался выше, мощнее, и от него исходила серьёзная угроза. Поэтому артист предпочёл ретироваться. Он оставил боевые позиции и устало опустился в кресло посетителя, уставившись на старую афишу балета "Эсмеральда".
Изумрудного цвета обои только подчеркивали развешенные на стенах тут и там афиши в золочёных рамах. Вся его жизнь, весь успех заключался в этих пожелтевших от времени бумажных объявлениях.
Анхен, успевшая к тому времени сделать пару набросков, подошла к хозяину кабинета и опустила ладонь на руку артиста. Воздух пошёл рябью, присутствующие растворились, а художница попала в воспоминание балетмейстера.
Мариус долго возился с пробкой, но всё же открыл припасённую на такой случай бутылку хорошего красного вина – последнюю, что он привёз из Парижа.
Как же он устал.
Полуфранцуз, полурусский. Но больше всё же русский. Хотя… не факт. Во Франции его считали русским, в России – французом, и везде он был чужим.
Мариус Потапов – лучший, Мариус – гений, Мариус то, Мариус сё. Молодая жена, маленькие дети. Балерины тоже как маленькие дети – капризы, требования, истерики. А так хочется тепла. Да, да! Простого тепла. Простых радостей. Безо всех этих хореографий.
Мариус обернулся. Его новая пассия разглядывала старую афишу балета "Эсмеральда". Подающая надежды балерина отошла от афиши и села на диван. Он подошёл к ней с бутылкой в руке.
– Радость моя, не очень волнуйся. Я сделаю из тебя приму, – сказал он, наливая ей в бокал вина и целуя руку. – Вот увидишь.
Элечку Черникину хоть и трудно было назвать красавицей, зато как юна, как гибка, как податлива. И такой любящий, такой понимающий взгляд, что в её объятиях он забывал о великом искусстве и чувствовал себя желанным. Разве не этого он хотел?
– А как же Пичугина? – проворковала она так, будто речь шла о надоедливом пороге, о который все спотыкаются.
Мариус отстранился. Сел рядом с ней. Налил и в свой бокал вина. Отпил, смакуя.
– Не переживай, mon cCur, – прокартавил он уверенно. – Я всё устрою.
Вот и устроил! Анхен резко убрала руку, и вся эта пошлая сцена испарилась, как по мановению волшебной палочки, про которые любит иногда ей читать Мари.
– А что, Мариус Павлович, быть может, женскую одежду Вы любите носить? И красить губы красною помадой? – спросила она, в упор уставившись в главного балетмейстера.
– Да как Вы смеете?! – начал было он, но осёкся.
Художница вытащила из буфета бокал со следами помады, посмотрела на свет хрустальной люстры и даже обнаружила в нём капельку красного цвета. Понюхала. Доктор Цинкевич подошёл к буфету и тоже понюхал бокал.
– Вино! – заключил он.
– Отчего же Вы посуду за любовницами не моете совсем? – ехидно спросила Анхен.
– Почему же сразу любовницы?! – пытался парировать балетмейстер.
– К Вам в кабинет жена пожаловать изволила или другая дама? Это легко проверить, – поддержал нападки художницы господин Самолётов.
Господин Потапов посмотрел на него испуганно и закрутил и без того острый кончик уса. А ведь, и правда, проверят.
– Ладно, скажу вам всё как есть. Но не судите строго! Я – творческий человек. Артист. Маэстро. Художник танца. Мне требуется подпитка творческих начал, – сказал балетмейстер, гордо задрав подбородок. Затем добавил менее пафосно. – Да. Я увлекаюсь дамами. Что здесь такого?
– И госпожой Пичугиной… увлекались? – спросил господин Громыкин строго.
– Да Боже упаси! Вы что?! Что я дурак совсем? У неё та-а-акой покровитель. Нет, нет. Ни в коем случае.
– Прима к Вам вчера приходила? – прервал его дознаватель.
– Ну, да.
– Что говорила?
– Расстроилась, что я распорядился подселить к ней госпожу Черникину. Это с ней я пил вино. Можете проверить.
– Проверим, – сказал доктор Цинкевич, забирая бокал.
– Как сильно она "расстроилась"? – давил на него господин Громыкин, передразнивая.
– Сильно, – сказал господин Потапов, кивая и прикрывая глаза.
Это было уже делом принципа увидеть, как всё происходило. Поэтому Анхен, не задумываясь, снова схватила руку маэстро, требующего подпитки творческих начал.
Mon Dieu! Как же она визжит! У меня сейчас уши взорвутся. Ей не в балерины надобно было идти, а в оперные певицы. А может и не надобно. Голос противнейший. Mon Dieu!
Мариус сморщил крупный нос с французской горбинкой, прикрыл глаза и отвернулся. Как он мог с ней грешить?! Нет, он бы не решился. Сама вешалась. Сама!
– Ты знаешь, кто я и с кем я? – заявила нахалка, склоняясь над ним, как надзиратель в каторжной пересылке.
Прима намекала на покровителя. Ну, ну. В театре уже стало известно, что князь подал в отставку и лишился своего могущества. Говорят, распрощался со всеми, покинул Петербург и уехал с женой в родовое имение.
– Ах, вон оно что, – выдохнула госпожа Ростоцкая, рассматривая господина Громыкина.
Тот сидел, сгорбившись, с багрово-красным лицом. Однако через минуту начальник сыскного отдела снял с носа пенсне, положил его в нагрудный карман пиджака, встал и вышел из-за стола.
– Так, господа. Надобно ехать в театр. И срочно! – сказал он, направляясь к двери. – Нам нужен Мариус Потапов. В театр!
Анхен и господин Самолётов устремились за ним. Дорога до театра по Офицерской улице заняла мало времени, но тянулась невыносимо долго – проходила в полной тишине. Дознаватель в служебной карете молчал, а его подчинённые не рискнули нарушать сие тягостное молчание.
Когда госпожа Ростоцкая вошла в кабинет главного балетмейстера, то зажмурилась. Он превзошёл все ожидания искушённой художницы, выросшей в семье придворных. Обилие позолоты, хрусталя, шёлка, блеск холодного мрамора – каждая деталь интерьера впечатляла посетителя и внушала уважение к хозяину кабинета.
– Чем я могу быть вам полезен, господа? – вместо приветствия спросил сыщиков руководитель балетной труппы.
– Можете, да, – сказал господин Громыкин и без приглашения уселся в кожаное кресло у массивного стола.
Мариус Потапов, сын французской балерины и русского балетмейстера, лысеющий, с пышными, остроконечными усами, дёрнул левой щекой от такой фамильярности, но промолчал.
– Расскажите нам про Ваши отношения с убитыми барышнями. Да. Расскажите, – потребовал господин Громыкин, схватив со стола бронзовую статуэтку балерины в прыжке.
Впрочем, повертев в руках, он вернул декор на место. Господин Потапов поморщил крупный французский нос, мотнул головой, взъерошил кудрявые остатки некогда пышной шевелюры, встал и вышел из-за стола.
– Да как Вы смеете?! На какие такие отношения Вы намекаете? Я – женатый человек. У меня дети. Взрослые, – прокартавил руководитель балетной труппы. – И маленькие тоже есть.
– Ну, жена и заключенный на небесах брак не мешают прелюбодействовать, ежели охота приспичит, – парировал дознаватель, вставая и глядя балетмейстеру прямо в глаза. – Не мешают, да.
Они были ровесники. Однако сыщик казался выше, мощнее, и от него исходила серьёзная угроза. Поэтому артист предпочёл ретироваться. Он оставил боевые позиции и устало опустился в кресло посетителя, уставившись на старую афишу балета "Эсмеральда".
Изумрудного цвета обои только подчеркивали развешенные на стенах тут и там афиши в золочёных рамах. Вся его жизнь, весь успех заключался в этих пожелтевших от времени бумажных объявлениях.
Анхен, успевшая к тому времени сделать пару набросков, подошла к хозяину кабинета и опустила ладонь на руку артиста. Воздух пошёл рябью, присутствующие растворились, а художница попала в воспоминание балетмейстера.
Мариус долго возился с пробкой, но всё же открыл припасённую на такой случай бутылку хорошего красного вина – последнюю, что он привёз из Парижа.
Как же он устал.
Полуфранцуз, полурусский. Но больше всё же русский. Хотя… не факт. Во Франции его считали русским, в России – французом, и везде он был чужим.
Мариус Потапов – лучший, Мариус – гений, Мариус то, Мариус сё. Молодая жена, маленькие дети. Балерины тоже как маленькие дети – капризы, требования, истерики. А так хочется тепла. Да, да! Простого тепла. Простых радостей. Безо всех этих хореографий.
Мариус обернулся. Его новая пассия разглядывала старую афишу балета "Эсмеральда". Подающая надежды балерина отошла от афиши и села на диван. Он подошёл к ней с бутылкой в руке.
– Радость моя, не очень волнуйся. Я сделаю из тебя приму, – сказал он, наливая ей в бокал вина и целуя руку. – Вот увидишь.
Элечку Черникину хоть и трудно было назвать красавицей, зато как юна, как гибка, как податлива. И такой любящий, такой понимающий взгляд, что в её объятиях он забывал о великом искусстве и чувствовал себя желанным. Разве не этого он хотел?
– А как же Пичугина? – проворковала она так, будто речь шла о надоедливом пороге, о который все спотыкаются.
Мариус отстранился. Сел рядом с ней. Налил и в свой бокал вина. Отпил, смакуя.
– Не переживай, mon cCur, – прокартавил он уверенно. – Я всё устрою.
Вот и устроил! Анхен резко убрала руку, и вся эта пошлая сцена испарилась, как по мановению волшебной палочки, про которые любит иногда ей читать Мари.
– А что, Мариус Павлович, быть может, женскую одежду Вы любите носить? И красить губы красною помадой? – спросила она, в упор уставившись в главного балетмейстера.
– Да как Вы смеете?! – начал было он, но осёкся.
Художница вытащила из буфета бокал со следами помады, посмотрела на свет хрустальной люстры и даже обнаружила в нём капельку красного цвета. Понюхала. Доктор Цинкевич подошёл к буфету и тоже понюхал бокал.
– Вино! – заключил он.
– Отчего же Вы посуду за любовницами не моете совсем? – ехидно спросила Анхен.
– Почему же сразу любовницы?! – пытался парировать балетмейстер.
– К Вам в кабинет жена пожаловать изволила или другая дама? Это легко проверить, – поддержал нападки художницы господин Самолётов.
Господин Потапов посмотрел на него испуганно и закрутил и без того острый кончик уса. А ведь, и правда, проверят.
– Ладно, скажу вам всё как есть. Но не судите строго! Я – творческий человек. Артист. Маэстро. Художник танца. Мне требуется подпитка творческих начал, – сказал балетмейстер, гордо задрав подбородок. Затем добавил менее пафосно. – Да. Я увлекаюсь дамами. Что здесь такого?
– И госпожой Пичугиной… увлекались? – спросил господин Громыкин строго.
– Да Боже упаси! Вы что?! Что я дурак совсем? У неё та-а-акой покровитель. Нет, нет. Ни в коем случае.
– Прима к Вам вчера приходила? – прервал его дознаватель.
– Ну, да.
– Что говорила?
– Расстроилась, что я распорядился подселить к ней госпожу Черникину. Это с ней я пил вино. Можете проверить.
– Проверим, – сказал доктор Цинкевич, забирая бокал.
– Как сильно она "расстроилась"? – давил на него господин Громыкин, передразнивая.
– Сильно, – сказал господин Потапов, кивая и прикрывая глаза.
Это было уже делом принципа увидеть, как всё происходило. Поэтому Анхен, не задумываясь, снова схватила руку маэстро, требующего подпитки творческих начал.
Mon Dieu! Как же она визжит! У меня сейчас уши взорвутся. Ей не в балерины надобно было идти, а в оперные певицы. А может и не надобно. Голос противнейший. Mon Dieu!
Мариус сморщил крупный нос с французской горбинкой, прикрыл глаза и отвернулся. Как он мог с ней грешить?! Нет, он бы не решился. Сама вешалась. Сама!
– Ты знаешь, кто я и с кем я? – заявила нахалка, склоняясь над ним, как надзиратель в каторжной пересылке.
Прима намекала на покровителя. Ну, ну. В театре уже стало известно, что князь подал в отставку и лишился своего могущества. Говорят, распрощался со всеми, покинул Петербург и уехал с женой в родовое имение.