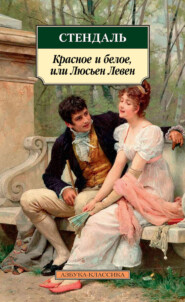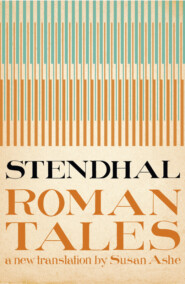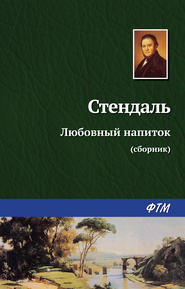По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь Микеланджело
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Один из помощников Микеланджело умер. Все оплакивали эту преждевременную кончину. «Если нам нравится жизнь, – сказал он, – то смерть, у которой тот же хозяин, также должна нравиться нам».
Вазари, показывая ему одну из своих картин, сказал: «Я потратил на нее мало времени». – «Это заметно».
Священник, его друг, явился к нему в одежде для верховой езды, и Микеланджело притворился, что не узнал его; священник назвался. «Вижу, что в глазах света вы хороши; если содержимое похоже на оболочку, что ж, тем лучше для вашей души».
Ему расхваливали Юлия II за его любовь к искусству. «Это правда, – сказал он, – но эта любовь слегка напоминает флюгер».
Некий молодой человек написал довольно милую картину, взяв у всех известных художников либо позу, либо голову. Он был очень горд и показал свое произведение Микеланджело. «Это просто замечательно, но что станет с вашим полотном, когда в день Страшного суда каждому будут возвращены те части тела, которые ему принадлежат?»
Однажды вечером Вазари по поручению папы Юлия II пришел к Микеланджело; уже была почти ночь. Он застал художника за работой над «Пьетой», которую тот потом разбил. Видя, что Вазари пристально смотрит на ногу Христа, которую он заканчивал, он взял фонарь с целью посветить, но уронил его. «Я так стар, – сказал он, – что часто смерть тянет меня за одежды, чтобы я пошел с ней. Однажды я упаду внезапно, как этот фонарь, и так же уйдет свет жизни».
Никогда Микеланджело не был так доволен, как в те моменты, когда в его мастерскую во Флоренции приходил смехотворный художник из Вальдарно по имени Менигелла. Обычно он являлся с просьбой нарисовать ему «Св. Роха» или «Св. Антония», которых заказали ему какие-то крестьяне. Микеланджело, отказывавший правителям, бросал все, чтобы удовлетворить желание Менигеллы, который пристраивался рядом с ним и делился мыслями по поводу каждой черты. Он отдал Менигелле распятие, сделавшее тому состояние: он стал изготовлять гипсовые копии и продавать их апеннинским крестьянам.
Скульптор Тополино, которого Микеланджело держал в Карраре для отправки мрамора, никогда не присылал его, не присовокупив две или три плохонькие фигурки, которые доставляли Микеланджело и его друзьям немалое удовольствие. Однажды вечером, потешаясь над Тополино, они поспорили на ужин в честь того, кто изготовит фигуру, наиболее противоречащую всем правилам изобразительного искусства. Фигура Микеланджело, одержавшая победу, долгое время служила мерилом для нелепых произведений.
Однажды у гробницы Юлия II он подошел к одному из каменотесов, который заканчивал обработку мраморного блока, и сказал ему с серьезным видом, что уже давно заметил его талант, что, быть может, тот считает себя всего лишь каменотесом, но на деле он такой же скульптор, как сам Микеланджело, и что ему не хватает только нескольких советов. Вслед за этим он велел юноше высечь из мрамора такой-то фрагмент, такой-то глубины, закруглить под таким-то углом, отполировать такую-то часть и т. д. Целый день он продолжал выкрикивать со своих лесов советы каменотесу, который к вечеру обнаружил, что завершил прекрасный абрис статуи. Он бросился к ногам Микеланджело, восклицая: «Великий Боже! Как я обязан вам! Вы развили мой талант, и вот я – скульптор!»
Он был поистине скромен. Существует письмо, в котором он благодарит некоего испанского художника за критику в отношении «Страшного суда» (собрание «Писем» Пино да Кальи, Венеция, 1574 г.).
Биограф Микеланджело замечает, что он получил лестные предложения более чем от двенадцати коронованных особ. Когда он пришел поприветствовать Карла V, правитель тут же встал, повторив свой банальный комплимент: «На свете есть множество императоров, но нет второго Микеланджело».
Наш Франциск I пожелал заманить его во Францию, и, хотя его неотступные просьбы были тщетны, он открыл Буонарроти в Риме кредит на путевые расходы в пятнадцать тысяч франков, надеясь, что когда-нибудь очередная перемена на папском престоле вынудит его приехать. Может быть, Микеланджело сумел бы совершить переворот, который не удался Андреа дель Сарто, Приматиччо, Россо и Бенвенуто Челлини.
Все они покинули Францию, так и не сумев зажечь в ней священный огонь. Наши предки слишком погрязли в грубых феодальных нравах, чтобы возыметь вкус к прекрасным головам Андреа дель Сарто; Микеланджело пробудил бы в них чувство ужаса, подлое вдвойне: эгоистичное и трусливое. Микеланджело мог бы иметь успех в народе. Колоссальная статуя Геркулеса из белоснежного мрамора, помещенная у заставы Сержантов, больше по вкусу публике, чем полторы тысячи картин в Музее.
Никто не знал так, как Микеланджело, бесчисленных поз, которые способно принять человеческое тело. Он хотел записать свои наблюдения, но, обманутый дурным вкусом своего века, побоялся, что не сумеет достаточно украсить этот материал. Его ученик Кондиви был причастен к литературе. Ему Микеланджело и объяснил свою теорию на примере тела прекрасного юного мавра, которого ему для этой цели подарили в Риме; но эта книга так никогда и не появилась.
Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело. Ок. 1550–1555 гг. Это изображение Микеланджело послужило моделью для лица одного из монахов с фрески Вольтерры «Вознесение Богоматери» в церкви Тринита-деи-Монти в Риме.
Э. Делакруа. Микеланджело у себя в мастерской. 1849–1850 гг. Музей Фабр. Монпелье.
Микеланджело Буонарроти. Пьета Ронданини. 1555–1564 гг. Замок Сфорца. Милан. Это последняя скульптурная работа мастера.
Почести, оказанные праху Микеланджело
Его останки были торжественно погребены в церкви Апостолов. Папа сообщил, что намерен воздвигнуть ему гробницу в соборе Св. Петра, где допускалось хоронить лишь государей. Но Козимо Медичи, желая культом славы заставить позабыть о своей тирании, велел тайно похитить прах великого человека. Этот досточтимый груз прибыл во Флоренцию вечером. В одно мгновение окна и улицы заполнились любопытными, и всюду беспорядочно замелькали огни.
Церковь Сан-Лоренцо, служившая усыпальницей только правителям, была пышно убрана для захоронения Микеланджело. Пышность этой церемонии наделала столько шума в Италии, что, дабы удовлетворить иностранцев, которые приезжали отовсюду уже после того, как та свершилась, церковь оставили украшенной на несколько недель.
Челлини, Вазари, Бронзино, Амманато превзошли самих себя, желая почтить человека, которого они давно привыкли считать величайшим из когда-либо существовавших художников.
Главные события его жизни были воспроизведены на барельефах или полотнах[69 - На мой взгляд, ничто так не вредит памяти великих, как похвалы глупцов. Те, у кого на этот счет иное мнение, могут приехать во Флоренцию и посетить галерею памяти Микеланджело. Там вы на заурядных картинах обнаружите события из его жизни. Эта галерея, возведенная по проекту Пьетро да Кортоны, обошлась в сто тысяч франков племяннику великого скульптора, который называл себя Микеланджело Младший. Она была открыта в 1620 г.Во время церемонии обнаружилось, что тело Микеланджело от старости превратилось в мумию без малейшего признака разложения. Спустя сто пятьдесят лет, случайно вскрыв его могилу в Санта-Кроче, снова увидели прекрасно сохранившуюся мумию, одетую по моде того времени.]. Окруженный этими живыми изображениями, Варки произнес надгробное слово. Это история, изложенная со многими подробностями и представленная так, чтобы не вызвать неодобрения деспота. Флоренция счастлива, говорил он, имея в лице одного из своих сынов то, чего Греция, родина стольких великих художников, никогда не порождала: человека, одинаково превосходно владеющего всеми тремя видами изобразительного искусства.
Надгробие Микеланджело в церкви Санта-Кроче во Флоренции.
Вкус к Микеланджело возродится
Ни Вольтер, ни мадам Дюдеффан не могли понять Микеланджело. Для подобных душ его манера была синонимом уродства, более того – уродства с претензией, что является самой неприятной вещью на свете.
Удовольствия, которых требует от искусства человек, на наших глазах приобретут тот же характер, какой они имели у наших воинственных предков.
Когда они, живя в постоянной опасности, впервые начали думать об искусстве, их страсти были неудержимы, а всколыхнуть их симпатию и отзывчивость было трудно. Их поэзия рисует действие необузданных желаний. Это поражало их в реальной жизни, и все менее сильное не могло произвести впечатления на столь грубые натуры.
Цивилизация развивалась, и человек стал стыдиться бесстыдного бешенства первобытных желаний.
Стали чересчур восхищаться чудесами нового стиля жизни. Любое проявление глубоких чувств стало казаться неприличным.
Чопорная вежливость (испанские манеры во Франции при Людовике XIV, затем век Людовика XV; романы Дюкло и Кребильона, г-н Вакармини; энергия прощалась лишь постольку, поскольку служила добыванию денег), а вскоре после этого более развязные и свободные от любого чувства манеры обуздали и, наконец, заставили исчезнуть – по крайней мере, наружно – всякий энтузиазм и энергию. Во время революции энергия XIV века воскресла только в Бокаже, в Вандее, куда не проникла придворная любезность.
Как легкая веточка, отломившаяся от дерева и увлекаемая волнами потока, который то ниспадает каскадами по крутым склонам, то струится по равнине спокойной и величественной рекой, то подбрасывает веточку вверх, то опускает ее, но все время держит на поверхности, – так и цивилизация влечет за собой искусство. Столь энергичная поначалу, поэзия получила неестественную утонченность, все превращается в зубоскальство, и в наши дни энергия замарала бы ее розовые пальчики (в 1785 г. – Мармонтель, Гримм, Морелле).
Пока считается новым и в некотором роде изысканным грациозно надо всем подшучивать; милая насмешка над любой истинной страстью и над любым энтузиазмом дает примерно столько же славы в свете, как и обладание этими свойствами (переписка мадам Дюдеффан, где вуалируется самое смешное – скука). Страсти еще кое-как терпят лишь в созданиях искусства. Предпочли бы даже получать плоды без дерева. Сердца, преданные распущенности, почти не чувствуют отсутствия удовольствий, которые больше им недоступны.
Но если талант смеяться надо всем стал пошлым и заурядным, если целые поколения употребили свои жизни на одни и те же фривольности, отказались от любых интересов, кроме тщеславия, и от возможности достигнуть хоть какой-то славы, то можно предсказать, что революция умов неизбежна. К веселому будут относиться весело, к серьезному – серьезно. Общество сохранит свою простоту и изящество, но среди людей с пером в руках распространится глубокое презрение к мелочной претенциозности, мелочной утонченности и дешевым успехам. Люди высокой души снова займут подобающее им место. Вновь будут стремиться к сильным эмоциям, а их мнимой грубости больше не будут бояться. Тогда возродится фанатизм (мадам де Крюденер, Пескель; Общество Пресвятой Девы, с обращением на «ты») и впервые получит развитие политический энтузиазм. Такова, может быть, ситуация в современной Франции. Присутствие такого количества юных офицеров, столь храбрых и столь несчастных, вытесненных в частные собрания, изменило светские нравы.
Думаю, что эти стихи Шекспира многажды оправдались:
She lov’d me for the dangers j had pass’d
And I lov’d her that she did pity them.[70 - Она меня за муки полюбила,А я ее – за состраданье к ним.(пер. П. И. Вейнберга.) – Прим. ред.]
(«Отелло», акт I, сцена III)
Привычка к национальной гвардии изменит все то в наших нравах, что относится к изобразительным искусствам (манеры меняются, и в Париже парикмахер спит на такой же походной кровати, что и маркиз, 1817 г.). Здесь политика помрачает нам душу. Чтобы продолжить наблюдения, необходимо посмотреть на соседнюю нацию, которая на двадцать лет была изгнана с континента и от этого еще больше стала самой собой.
Английская поэзия наполнилась энтузиазмом, стала более страстной и более значительной (Edinburgh Review, № 54, с. 277). Понадобились сюжеты иные, чем в предшествующем остроумном и фривольном столетии. Вновь обратились к тем характерам, которые воодушевляли энергические стихотворения первых и еще грубых творцов, или стали искать подобных персонажей среди дикарей и варваров.
Необходимо было снова обратиться к эпохам или странам, где высшим слоям общества позволялось испытывать страсти. Классические греки и римляне не могли ничего дать этой потребности сердца. Они по большей части принадлежат эпохе столь же искусственной и столь же далекой от наивного изображения бурных страстей, как та, что сейчас заканчивается.
Поэты, пользовавшиеся в Англии успехом за последние двадцать лет, не только искали более глубоких эмоций, чем поэты XVIII века, но и обращались с этой целью к сюжетам, которые были пренебрежительно отвергнуты веком блестящего остроумия.
Сложно не видеть того, чего ищет XIX век: все возрастающая жажда сильных эмоций – его характерная особенность.
Обратились к приключениям, оживлявшим поэзию веков варварства; но недостает того, чтобы персонажи после своего воскрешения действовали и говорили так же, как в отдаленные времена их реальной жизни и их первого появления в искусстве.
Их изображали тогда не как уникальных, но как примеры обычного образа жизни.
В этой первобытной поэзии мы видим скорее результат сильных страстей, а не их изображение; мы находим здесь скорей порождаемые ими события, а не подробности внушаемых ими страхов и восторгов.
Читая средневековые романы и хроники, мы, чувствительные люди XIX века, предполагаем, что должны были чувствовать герои, мы наделяем их столь невозможной для них и столь естественной для нас чувствительностью.
Воскрешая железных людей прошедших веков, английские поэты уклонились бы от своей цели, если бы изображали страсти в своих произведениях только через гигантские следы энергичных действий; нас интересует сама страсть.
Именно точным и пламенным изображением человеческого сердца будет отличаться XIX век от всех предшествующих[71 - XIX век предложит гениям роль Фокса или Боливара; тем, кто посвятит себя искусству, он даст в удел бездушную живопись. Но бездушная живопись – это не живопись. Те же, кто избегнет этих двух рифов, пойдет по пути, указанному в этой главе.В 1817 г. я бы, ей-богу, предпочел быть Фоксом, а не Рафаэлем (У. Э.).].
Да простят мне это отступление о революции в Англии. Изобразительные искусства не имеют непрерывного развития в истории севера; лишь время от времени можно видеть его процветание в каком-либо убежище. Стало быть, надо взяться за литературу; но Франция так занята своими ультрароялистами и либералами, что ей нет никакого дела до литературы. Правда, когда лет через десять водворится мир, окажется, что мы на два или три века опередили наших остроумных и бездушных поэтов.
Жажда энергии приведет нас к шедеврам Микеланджело. Правда, он показал энергию тела, которая для нас практически всегда исключает энергию души. Но мы еще не пришли к новому идеалу красоты. Нам необходимо вытеснить жеманство; и первым шагом к этому будет попытка почувствовать, что, например, Ипполит на картине «Федра» принадлежит античному идеалу красоты, Федра – новому идеалу, а Тезей – идеалу Микеланджело.
Атлетическая сила удаляет от пламени чувства, но, поскольку у живописи нет ничего, кроме тела, чтобы изобразить душу, мы будем восхищаться Микеланджело до тех пор, пока нам не станет доступна страсть, полностью свободная от физической силы.