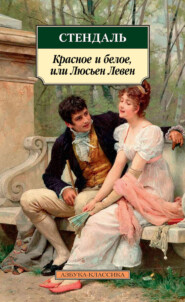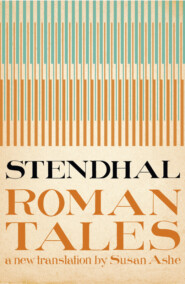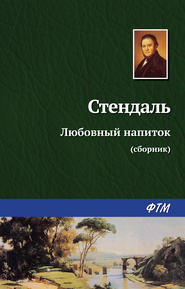По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь Микеланджело
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Развивая эти мысли перед вновь прибывшими, я повел их в музей Пио-Климентино, поскольку в Риме тот, кто приехал раньше, становится проводником-чичероне.
Как породить страх в душе одной лишь формой руки?
Я показал им античное изображение руки, к которому Микеланджело сделал голову, правую руку с урной и несколько мелких деталей: «Взгляните на левую руку, на торс и на ноги, явно античные, представьте себе существо, которому должно было принадлежать это тело, и сразу перенесите свое внимание на руку и голову, сделанные Микеланджело. Вы найдете в них оттенок напряженности и принуждения». Часто в них видят лишь физические различия. В тот день мы быстро ушли из музея и провели вечер в обществе.
Границы двух стилей станут еще более отчетливы, если сравнить ноги «Геркулеса Фарнезского» из Неаполя с ногами, сделанными Гульельмо делла Портой, быть может, по модели Микеланджело. Через двадцать лет после того, как эту статую нашли и отреставрировали, были найдены принадлежавшие ей античные ноги (1560 г.), но Микеланджело посоветовал оставить современные (Карло Дати. «Жизнеописания художников»).
Этому великому человеку недоставало по меньшей мере чувства общей гармонии. Но, возможно, он принимал эту античную мягкость за красоту условную.
Если бы Корнель переделал роль Баязета в трагедии Расина, может, у нас были бы все основания предпочесть эту роль той, что создал автор. Вот что чувствовал, как ему казалось, Микеланджело.
Однажды я вышел из музея Пио-Климентино с одним герцогом, очень богатым и очень либеральным, но для которого сложность (пение госпожи Каталани) была синонимом красоты. Он с высокомерием осуждал Микеланджело, я был просто в ярости. «Но согласитесь, – говорил я ему, – что вы вносите в искусство тщеславие, которое люди вашего происхождения вкладывают в ордена. Вам доставляет больше счастья обладание какой-нибудь неизвестной и бесполезной рукописью или старинной картиной Кривелли (венецианской школы), чем лицезрение новой „Мадонны“ Рафаэля, и вопреки прозорливости и силе вашего ума вы не являетесь компетентным судьей в области искусства. Я прошу у вас немного внимания к слову идеализировать. Античность фальсифицирует природу, уменьшая рельефность мускулов, Микеланджело – увеличивая ее. Это два противоположных направления. Античная партия господствует в течение последних пятидесяти лет и осуждает Микеланджело с яростью ультрареакционеров. Она может похвалиться большим благородством и, признаюсь, численным превосходством. На пятьдесят человек, которые ценят сложное, приходится лишь один, чувствительный к красоте. Но через сто лет даже тщеславные люди будут повторять суждения людей чувствительных, поскольку с течением времени становится понятно, что слепые не могут судить о цвете. Довольствуйтесь же насмешками над этими чуткими беднягами, выставляющими себя в глупом свете; их царство не от мира сего. Побеждайте их в салонах, но назавтра не сравнивайте свою деловую озабоченность и черствость при пробуждении с тем счастьем, что доставляет им одно воспоминание о „Терезе и Клавдии“» (прекрасная опера Фаринелли, которую давали тогда в театре Альберти).
«Посмотрите на одно из красивейших мест в окрестностях Рима, так чудесно воспроизведенных сладостной кистью Лоррена, в камеру-обскуру, и вы увидите в ней пейзаж. Таким был стиль флорентийской школы до появления Микеланджело. Вы увидите то же самое место на картине художника; но, идеализируя, он объединил пейзаж своей души с природным пейзажем. Это очарует сердца, сходные с его собственным, и неприятно заденет другие. Тогда как пейзаж в камере-обскуре доставит удовольствие всем, но удовольствие небольшое». «Завтра это и проверим», – сказал любитель, задетый одобрением, которое две или три женщины выразили относительно партии чувствительных.
На другой день мы взяли с собой двух лучших римских пейзажистов и камеру-обскуру. Мы выбрали место (рядом с могилами Горациев и Куриациев); мы попросили художников, чтобы они изобразили его: один – в мирном и очаровательном стиле Лоррена, а другой – с суровостью и пылом Сальватора Розы.
Эксперимент полностью удался и дал нам возможность оценить холодный и точный стиль старой школы, благородный и спокойный стиль древних греков и грозный и мощный стиль Микеланджело. Это занимало нас в течение двух недель, мы много спорили, и каждый остался при своем мнении.
Что до меня, я часто сожалел, что зал монастыря Св. Павла (в Парме) и Сикстинская капелла находятся в разных городах. Посетив их одновременно в один из тех дней, когда душа расположена к восприятию искусства, мы бы узнали о Микеланджело, Корреджо и Античности больше, чем из тысяч томов. Книги могут лишь обратить наше внимание на обстоятельства, связанные с какими-то фактами, сами же факты ускользают почти от всех любителей.
Геркулес Фарнезский. Мраморная римская копия III в. н. э. с бронзового оригинала греческого скульптора Лисиппа (IV в. до н. э.). Национальный археологический музей. Неаполь.
Микеланджело Буонарроти. Набросок Ливийской сивиллы для плафона Сикстинской капеллы. 1508–1512 гг. Дом Буонарроти. Флоренция.
Микеланджело Буонарроти. Набросок женской головы.
Холодность искусства до Микеланджело
Впрочем, если бы мы были вынуждены в течение полугода лицезреть лишь статуи и картины, наводнявшие Флоренцию в пору юности Микеланджело, мы были бы очарованы красотой его голов. Они, по крайней мере, свободны от той худобы и несчастного выражения, которые были свойственны этой школе на ранних этапах.
Очевидно, живопись делает ощутимой моральную максиму, согласно которой первейшим условием всех добродетелей является сила (если бы я говорил с геометрами, я бы осмелился выразить свою мысль так: живопись – это построенная мораль); если фигуры Микеланджело и лишены приятных качеств, которые заставляют нас восхищаться Юпитером или Аполлоном, они все же незабываемы, и именно это составляет их бессмертие. В них достаточно силы, чтобы мы были вынуждены с ними считаться.
Нет ничего более пошлого, чем образ, стремящийся сымитировать античную красоту и не достигающий возвышенности[20 - К чему мне глубокое внимание и доброта слабого существа? Если бы оно разгневалось, то произвело бы на меня больший эффект; если бы выказало страдание – могло бы меня тронуть.]. Это как долготерпение слабых людей, которое они между собой зовут мужеством. Нужно быть «Аполлоном», чтобы сметь противостоять «Моисею»; да еще все, кто лишен душевного благородства, сочтут, что «Моисей» внушает больше страха, чем «Аполлон».
Характер в живописи то же, что пение в музыке: ты вспоминаешь его всегда, и вспоминаешь только о нем[21 - Тальма сделал в своей жизни лишь одну плохую вещь, и это наши картины. См. «Леонида», «Сабинянок», «Св. Стефана» и др.].
Во всех рисунках, во всех эскизах, в любой самой плохонькой гравюре, где вы найдете силу, причем самую непривлекательную силу, вы смело можете сказать: это – от Микеланджело.
Так как его религия мешала ему найти выражение для благородных качеств души, он идеализировал природу лишь для выражения силы. Когда он хотел придать красоты женской фигуре, он осматривался и копировал лица самых красивых девушек, наделяя их, вопреки самому себе, выражением силы, без которого из-под его резца не выходило ничего.
Таковы «Ева» на своде Сикстинской капеллы, «Сивилла Эритрейская» и «Сивилла Персидская»[22 - «Zeuxis plus membris corporis dedit, id amplius atque augustius ratus, atque, ut existimant, Homerum secutus, cui validissima quaeque forma etiam in feminis placet» (Quint., Inst. Or., XII, 10). То есть: «Зевксис увеличивал конечности тела, а корпус изображал в более величественных размерах, следуя, как полагают, Гомеру, в поэмах которого могучие формы кажутся привлекательными даже у женщин» (Квинтилиан. «Наставления оратору». XII, 10). Маркантонио выгравировал «Адама и Еву» и фигуру «Юдифи» (Королевская бибтиотека).].
Главный недостаток Микеланджело сравнительно с Античностью состоит в изображении голов. Его тела заявляют об огромной силе, но о силе немного тяжеловесной.
Микеланджело Буонарроти. Эритрейская сивилла. 1509 г. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Сикстинская капелла (продолжение)
Как мы видим, именно в Сикстинской капелле представлены так часто упоминаемые образцы ужасного; доказательством, что для этого стиля, как и для стиля грациозного, нужна душа, служит то, что все эти Вазари, Сальвиати, Санти ди Тито и толпа других посредственных представителей флорентийской школы, которые в течение шестидесяти лет только копировали Микеланджело, всегда достигали лишь тяжелого и уродливого, пытаясь изобразить величественное и грозное. Как в скульптуре спокойствие страстей может быть передано лишь тем, кто сам испытал всю их ярость, так и для того, чтобы быть ужасным, художник должен сначала стеснить все фибры нашей души, способные чувствовать очарование грации, и лишь потом создать впечатление угрозы нашей безопасности.
Во Франции мы смешиваем величественный вид с барским видом (Дюкло. «Рассуждения»); но это почти противоположные понятия. Первое идет от склонности к возвышенным мыслям, второе – от склонности к мыслям, которые занимают людей высокородных. Поскольку вельмож в Италии никогда не было, довольно сложно встретить француза, который бы понимал Микеланджело.
Величественный вид фигур Сикстинской капеллы, смелость и сила, которые пронизывают все их черты, медлительность и важность их движений, драпировки, которые облекают их тела необычным, единственным в своем роде образом, их поразительное презрение ко всему просто человеческому – всё изобличает существ, с которыми говорит Иегова и устами которых он изрекает свои приговоры.
Этот дух грозного величия особенно поражает в образе «Пророка Исайи»: охваченный глубокими размышлениями во время чтения священной книги, он вложил в нее руку, чтобы отметить то место, на котором остановился, и, опершись головой о другую руку, погрузился в возвышенные мысли, когда внезапно услышал призыв ангела. Не сделав ни одного резкого движения, даже не изменив своего положения, когда услышал голос небожителя, пророк медленно поворачивает голову и словно с неохотой обращает к нему свое внимание (в пророках Микеланджело есть нечто, напоминающее античную сосредоточенность и, следовательно, характер движения губ).
Всего этих фигур двенадцать; фигура Ионы, столь примечательная преодоленной сложностью исполнения; пророк Иеремия, грубые одежды которого дают ощущение небрежности, свойственной людям в несчастье, хотя одновременно их крупные складки имеют столько величия; Сивилла Эритрейская, столь же красивая, сколь и грозная (это враг, внушающий уважение). Все они представляют человеку чуткому новый идеал красоты. Вот почему Аннибале Карраччи предпочитал свод Сикстинской капеллы «Страшному суду». Он находил здесь меньше учености.
Все ново и вместе с тем разнообразно в этих одеждах, в этих ракурсах, в этих полных силы движениях.
Необходимо сделать одно замечание относительно величия. Один великий поэт, воспевший Фридриха II, однажды заметил мне: «Король, узнав, что иностранные государи осуждают его склонность к литературе, сказал дипломатическому корпусу, собравшемуся на одной из его аудиенций: „Передайте вашим государям, что если я меньше король, чем они, то этим я обязан занятиям литературой“».
Я тут же подумал: но вы, великий поэт, когда вы воспевали величие Фридриха, получается, вы чувствовали, что врете; вы стремились произвести эффект, значит, вы лицемерили.
Это большой недостаток серьезной поэзии, которого не было у Микеланджело: он слепо верил в своих пророков.
Нетерпеливый Юлий II, несмотря на свой преклонный возраст, много раз порывался подняться на самый верх лесов. Он говорил, что эта манера изображения и композиции еще никогда нигде не встречалась. Когда труд был наполовину закончен, то есть когда свод от входа до середины был расписан, Юлий II потребовал, чтобы Микеланджело показал его; Рим пришел в удивление.
Говорят, что Браманте попросил папу отдать под роспись Рафаэлю оставшуюся часть свода и что гений Буонарроти был возмущен этой новой несправедливостью. Рафаэля обвиняют в том, что он воспользовался властью своего дяди, чтобы проникнуть в капеллу и изучить стиль Микеланджело до публичного осмотра. Это один из тех вопросов, которые невозможно разрешить; я вернусь к нему в «Жизни Рафаэля». Впрочем, слава мастера из Урбино состоит не в том, что он ничему не учился, а в том, что преуспел в учении. Несомненно только то, что выведенный из себя Микеланджело открыл папе беззакония Браманте и как никогда вошел в милость. На закате своей жизни он рассказывал тем, кто говорил, будто вторая половина свода – возможно, лучшее из всего им сделанного, что после этого частичного осмотра он заперся в капелле и продолжил работу, но, постоянно подгоняемый Юлием II, не смог завершить эти фрески так, как ему бы хотелось (например, во второй половине капеллы престолы пророков не были покрыты золотом). Однажды папа спросил его, когда же он закончит, и художник, как обычно, ответил: «Когда я буду собою доволен». «Вижу я, ты хочешь, чтобы тебя сбросили с этих лесов», – продолжил папа. «Только попробуй», – сказал про себя художник и, отправившись в Сикстинскую капеллу, тут же приказал разобрать леса. Назавтра, в День Всех Святых 1511 года, папа наконец получил удовольствие, о котором он так долго мечтал, и отслужил мессу в Сикстинской капелле.
Едва дождавшись окончания церемоний, сопровождавших этот день, Юлий II вызвал Микеланджело, чтобы сказать ему, что необходимо придать более роскошный вид картинам на своде, добавив золота и ультрамарина (1511 г.). Микеланджело, не желая снова возводить леса, сказал, что то, чего недостает, не имеет никакого значения. «Что ни говори, а надо добавить золота». «Я не вижу, чтобы люди носили золотые одежды», – ответил Микеланджело. «Капелла будет выглядеть бедно». – «Но люди, которых я изобразил, тоже были бедны».
Папа был прав. Ремесло священника (Людовик XIV говорил: «Мое ремесло короля». – Р., Ш.) кое-чему научило его. Богатство алтарей и великолепие одежд усиливают пыл верующих, слушающих торжественную мессу.
Микеланджело получил за свой труд три тысячи дукатов, из которых около двадцати пяти он потратил на краски[23 - Помножив на десять суммы, относящиеся к XVI веку, мы получим деньги, на которые в настоящее время можно купить то же самое; Микеланджело получил пятнадцать тысяч франков, которые равны нынешним ста пятидесяти тысячам франков.].
За время работы его глаза так привыкли смотреть вверх, что ближе к окончанию своего труда он с большой тревогой заметил, что, направляя взгляд на землю, он почти ничего не видит, и, чтобы, например, прочесть письмо, ему надо было поднимать его вверх. Это неудобство сохранялось в течение нескольких месяцев.
После Сикстинской капеллы расположение папы вознесло его на недосягаемую высоту; Юлий II заваливал его подарками. Этот правитель испытывал к нему живую симпатию, и Микеланджело слыл в Риме самым любимым из его придворных.
Микеланджело Буонарроти. Пророк Исайя. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Микеланджело Буонарроти. Создание Солнца и планет. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Микеланджело Буонарроти. Жертвоприношение Ноя. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Впечатление от Сикстинской капеллы
Я думаю, что зритель, если он католик, созерцая «Пророков» Микеланджело, пытается привыкнуть к виду этих грозных существ, перед которыми он однажды должен будет предстать. Чтобы как следует прочувствовать эти фрески, надо входить в Сикстинскую капеллу с душой, подавленной кровавыми историями, которыми изобилует Ветхий Завет[24 - Принцип милости позволяет нам взглянуть человеческими глазами на историю народа, который не является народом Божьим. Р., Ш.]. Именно там в Страстную пятницу звучит знаменитое «Мизерере». Во время пения этого покаянного псалма гасятся свечи, и служители гнева Божия становятся видны лишь наполовину; и мне довелось наблюдать, как твердый человек с совершенно посредственным воображением испытывает в этот момент что-то вроде страха. Женщинам становится дурно, когда голоса постепенно ослабевают и затихают и всё словно уничтожается под десницей Предвечного. Неудивительно было бы в этот момент услышать трубы Страшного суда, и мысль о милосердии даже не приходит никому в голову.
Вы видите, как абсурдно искать античную красоту с ее бодрящей экспрессией в живописи, изображающей религиозные страхи.
Как следовало бы ожидать гениям во всех видах искусства, все великие качества Микеланджело были поставлены ему в упрек; но, поскольку за порогом смерти для великого человека начинается его будущность, что ему в могиле вся эта ложь, все эти человеческие упреки? Кажется, что из этого грозного укрытия бессмертные гении могут быть вызваны лишь голосом истины. Все преходящее для них уже ничто. Дурак оказывается в Сикстинской капелле, и его ничтожный голос нарушает торжественную тишину звуком тщетных слов; где будут эти слова? Что станется с ним самим через сотню лет? Он исчезнет, как прах, а бессмертные шедевры безмолвно перейдут в грядущие века.
Микеланджело Буонарроти. Дельфийская сивилла. Фрагмент. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
При Льве Х Микеланджело бездействует девять лет
Как породить страх в душе одной лишь формой руки?
Я показал им античное изображение руки, к которому Микеланджело сделал голову, правую руку с урной и несколько мелких деталей: «Взгляните на левую руку, на торс и на ноги, явно античные, представьте себе существо, которому должно было принадлежать это тело, и сразу перенесите свое внимание на руку и голову, сделанные Микеланджело. Вы найдете в них оттенок напряженности и принуждения». Часто в них видят лишь физические различия. В тот день мы быстро ушли из музея и провели вечер в обществе.
Границы двух стилей станут еще более отчетливы, если сравнить ноги «Геркулеса Фарнезского» из Неаполя с ногами, сделанными Гульельмо делла Портой, быть может, по модели Микеланджело. Через двадцать лет после того, как эту статую нашли и отреставрировали, были найдены принадлежавшие ей античные ноги (1560 г.), но Микеланджело посоветовал оставить современные (Карло Дати. «Жизнеописания художников»).
Этому великому человеку недоставало по меньшей мере чувства общей гармонии. Но, возможно, он принимал эту античную мягкость за красоту условную.
Если бы Корнель переделал роль Баязета в трагедии Расина, может, у нас были бы все основания предпочесть эту роль той, что создал автор. Вот что чувствовал, как ему казалось, Микеланджело.
Однажды я вышел из музея Пио-Климентино с одним герцогом, очень богатым и очень либеральным, но для которого сложность (пение госпожи Каталани) была синонимом красоты. Он с высокомерием осуждал Микеланджело, я был просто в ярости. «Но согласитесь, – говорил я ему, – что вы вносите в искусство тщеславие, которое люди вашего происхождения вкладывают в ордена. Вам доставляет больше счастья обладание какой-нибудь неизвестной и бесполезной рукописью или старинной картиной Кривелли (венецианской школы), чем лицезрение новой „Мадонны“ Рафаэля, и вопреки прозорливости и силе вашего ума вы не являетесь компетентным судьей в области искусства. Я прошу у вас немного внимания к слову идеализировать. Античность фальсифицирует природу, уменьшая рельефность мускулов, Микеланджело – увеличивая ее. Это два противоположных направления. Античная партия господствует в течение последних пятидесяти лет и осуждает Микеланджело с яростью ультрареакционеров. Она может похвалиться большим благородством и, признаюсь, численным превосходством. На пятьдесят человек, которые ценят сложное, приходится лишь один, чувствительный к красоте. Но через сто лет даже тщеславные люди будут повторять суждения людей чувствительных, поскольку с течением времени становится понятно, что слепые не могут судить о цвете. Довольствуйтесь же насмешками над этими чуткими беднягами, выставляющими себя в глупом свете; их царство не от мира сего. Побеждайте их в салонах, но назавтра не сравнивайте свою деловую озабоченность и черствость при пробуждении с тем счастьем, что доставляет им одно воспоминание о „Терезе и Клавдии“» (прекрасная опера Фаринелли, которую давали тогда в театре Альберти).
«Посмотрите на одно из красивейших мест в окрестностях Рима, так чудесно воспроизведенных сладостной кистью Лоррена, в камеру-обскуру, и вы увидите в ней пейзаж. Таким был стиль флорентийской школы до появления Микеланджело. Вы увидите то же самое место на картине художника; но, идеализируя, он объединил пейзаж своей души с природным пейзажем. Это очарует сердца, сходные с его собственным, и неприятно заденет другие. Тогда как пейзаж в камере-обскуре доставит удовольствие всем, но удовольствие небольшое». «Завтра это и проверим», – сказал любитель, задетый одобрением, которое две или три женщины выразили относительно партии чувствительных.
На другой день мы взяли с собой двух лучших римских пейзажистов и камеру-обскуру. Мы выбрали место (рядом с могилами Горациев и Куриациев); мы попросили художников, чтобы они изобразили его: один – в мирном и очаровательном стиле Лоррена, а другой – с суровостью и пылом Сальватора Розы.
Эксперимент полностью удался и дал нам возможность оценить холодный и точный стиль старой школы, благородный и спокойный стиль древних греков и грозный и мощный стиль Микеланджело. Это занимало нас в течение двух недель, мы много спорили, и каждый остался при своем мнении.
Что до меня, я часто сожалел, что зал монастыря Св. Павла (в Парме) и Сикстинская капелла находятся в разных городах. Посетив их одновременно в один из тех дней, когда душа расположена к восприятию искусства, мы бы узнали о Микеланджело, Корреджо и Античности больше, чем из тысяч томов. Книги могут лишь обратить наше внимание на обстоятельства, связанные с какими-то фактами, сами же факты ускользают почти от всех любителей.
Геркулес Фарнезский. Мраморная римская копия III в. н. э. с бронзового оригинала греческого скульптора Лисиппа (IV в. до н. э.). Национальный археологический музей. Неаполь.
Микеланджело Буонарроти. Набросок Ливийской сивиллы для плафона Сикстинской капеллы. 1508–1512 гг. Дом Буонарроти. Флоренция.
Микеланджело Буонарроти. Набросок женской головы.
Холодность искусства до Микеланджело
Впрочем, если бы мы были вынуждены в течение полугода лицезреть лишь статуи и картины, наводнявшие Флоренцию в пору юности Микеланджело, мы были бы очарованы красотой его голов. Они, по крайней мере, свободны от той худобы и несчастного выражения, которые были свойственны этой школе на ранних этапах.
Очевидно, живопись делает ощутимой моральную максиму, согласно которой первейшим условием всех добродетелей является сила (если бы я говорил с геометрами, я бы осмелился выразить свою мысль так: живопись – это построенная мораль); если фигуры Микеланджело и лишены приятных качеств, которые заставляют нас восхищаться Юпитером или Аполлоном, они все же незабываемы, и именно это составляет их бессмертие. В них достаточно силы, чтобы мы были вынуждены с ними считаться.
Нет ничего более пошлого, чем образ, стремящийся сымитировать античную красоту и не достигающий возвышенности[20 - К чему мне глубокое внимание и доброта слабого существа? Если бы оно разгневалось, то произвело бы на меня больший эффект; если бы выказало страдание – могло бы меня тронуть.]. Это как долготерпение слабых людей, которое они между собой зовут мужеством. Нужно быть «Аполлоном», чтобы сметь противостоять «Моисею»; да еще все, кто лишен душевного благородства, сочтут, что «Моисей» внушает больше страха, чем «Аполлон».
Характер в живописи то же, что пение в музыке: ты вспоминаешь его всегда, и вспоминаешь только о нем[21 - Тальма сделал в своей жизни лишь одну плохую вещь, и это наши картины. См. «Леонида», «Сабинянок», «Св. Стефана» и др.].
Во всех рисунках, во всех эскизах, в любой самой плохонькой гравюре, где вы найдете силу, причем самую непривлекательную силу, вы смело можете сказать: это – от Микеланджело.
Так как его религия мешала ему найти выражение для благородных качеств души, он идеализировал природу лишь для выражения силы. Когда он хотел придать красоты женской фигуре, он осматривался и копировал лица самых красивых девушек, наделяя их, вопреки самому себе, выражением силы, без которого из-под его резца не выходило ничего.
Таковы «Ева» на своде Сикстинской капеллы, «Сивилла Эритрейская» и «Сивилла Персидская»[22 - «Zeuxis plus membris corporis dedit, id amplius atque augustius ratus, atque, ut existimant, Homerum secutus, cui validissima quaeque forma etiam in feminis placet» (Quint., Inst. Or., XII, 10). То есть: «Зевксис увеличивал конечности тела, а корпус изображал в более величественных размерах, следуя, как полагают, Гомеру, в поэмах которого могучие формы кажутся привлекательными даже у женщин» (Квинтилиан. «Наставления оратору». XII, 10). Маркантонио выгравировал «Адама и Еву» и фигуру «Юдифи» (Королевская бибтиотека).].
Главный недостаток Микеланджело сравнительно с Античностью состоит в изображении голов. Его тела заявляют об огромной силе, но о силе немного тяжеловесной.
Микеланджело Буонарроти. Эритрейская сивилла. 1509 г. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Сикстинская капелла (продолжение)
Как мы видим, именно в Сикстинской капелле представлены так часто упоминаемые образцы ужасного; доказательством, что для этого стиля, как и для стиля грациозного, нужна душа, служит то, что все эти Вазари, Сальвиати, Санти ди Тито и толпа других посредственных представителей флорентийской школы, которые в течение шестидесяти лет только копировали Микеланджело, всегда достигали лишь тяжелого и уродливого, пытаясь изобразить величественное и грозное. Как в скульптуре спокойствие страстей может быть передано лишь тем, кто сам испытал всю их ярость, так и для того, чтобы быть ужасным, художник должен сначала стеснить все фибры нашей души, способные чувствовать очарование грации, и лишь потом создать впечатление угрозы нашей безопасности.
Во Франции мы смешиваем величественный вид с барским видом (Дюкло. «Рассуждения»); но это почти противоположные понятия. Первое идет от склонности к возвышенным мыслям, второе – от склонности к мыслям, которые занимают людей высокородных. Поскольку вельмож в Италии никогда не было, довольно сложно встретить француза, который бы понимал Микеланджело.
Величественный вид фигур Сикстинской капеллы, смелость и сила, которые пронизывают все их черты, медлительность и важность их движений, драпировки, которые облекают их тела необычным, единственным в своем роде образом, их поразительное презрение ко всему просто человеческому – всё изобличает существ, с которыми говорит Иегова и устами которых он изрекает свои приговоры.
Этот дух грозного величия особенно поражает в образе «Пророка Исайи»: охваченный глубокими размышлениями во время чтения священной книги, он вложил в нее руку, чтобы отметить то место, на котором остановился, и, опершись головой о другую руку, погрузился в возвышенные мысли, когда внезапно услышал призыв ангела. Не сделав ни одного резкого движения, даже не изменив своего положения, когда услышал голос небожителя, пророк медленно поворачивает голову и словно с неохотой обращает к нему свое внимание (в пророках Микеланджело есть нечто, напоминающее античную сосредоточенность и, следовательно, характер движения губ).
Всего этих фигур двенадцать; фигура Ионы, столь примечательная преодоленной сложностью исполнения; пророк Иеремия, грубые одежды которого дают ощущение небрежности, свойственной людям в несчастье, хотя одновременно их крупные складки имеют столько величия; Сивилла Эритрейская, столь же красивая, сколь и грозная (это враг, внушающий уважение). Все они представляют человеку чуткому новый идеал красоты. Вот почему Аннибале Карраччи предпочитал свод Сикстинской капеллы «Страшному суду». Он находил здесь меньше учености.
Все ново и вместе с тем разнообразно в этих одеждах, в этих ракурсах, в этих полных силы движениях.
Необходимо сделать одно замечание относительно величия. Один великий поэт, воспевший Фридриха II, однажды заметил мне: «Король, узнав, что иностранные государи осуждают его склонность к литературе, сказал дипломатическому корпусу, собравшемуся на одной из его аудиенций: „Передайте вашим государям, что если я меньше король, чем они, то этим я обязан занятиям литературой“».
Я тут же подумал: но вы, великий поэт, когда вы воспевали величие Фридриха, получается, вы чувствовали, что врете; вы стремились произвести эффект, значит, вы лицемерили.
Это большой недостаток серьезной поэзии, которого не было у Микеланджело: он слепо верил в своих пророков.
Нетерпеливый Юлий II, несмотря на свой преклонный возраст, много раз порывался подняться на самый верх лесов. Он говорил, что эта манера изображения и композиции еще никогда нигде не встречалась. Когда труд был наполовину закончен, то есть когда свод от входа до середины был расписан, Юлий II потребовал, чтобы Микеланджело показал его; Рим пришел в удивление.
Говорят, что Браманте попросил папу отдать под роспись Рафаэлю оставшуюся часть свода и что гений Буонарроти был возмущен этой новой несправедливостью. Рафаэля обвиняют в том, что он воспользовался властью своего дяди, чтобы проникнуть в капеллу и изучить стиль Микеланджело до публичного осмотра. Это один из тех вопросов, которые невозможно разрешить; я вернусь к нему в «Жизни Рафаэля». Впрочем, слава мастера из Урбино состоит не в том, что он ничему не учился, а в том, что преуспел в учении. Несомненно только то, что выведенный из себя Микеланджело открыл папе беззакония Браманте и как никогда вошел в милость. На закате своей жизни он рассказывал тем, кто говорил, будто вторая половина свода – возможно, лучшее из всего им сделанного, что после этого частичного осмотра он заперся в капелле и продолжил работу, но, постоянно подгоняемый Юлием II, не смог завершить эти фрески так, как ему бы хотелось (например, во второй половине капеллы престолы пророков не были покрыты золотом). Однажды папа спросил его, когда же он закончит, и художник, как обычно, ответил: «Когда я буду собою доволен». «Вижу я, ты хочешь, чтобы тебя сбросили с этих лесов», – продолжил папа. «Только попробуй», – сказал про себя художник и, отправившись в Сикстинскую капеллу, тут же приказал разобрать леса. Назавтра, в День Всех Святых 1511 года, папа наконец получил удовольствие, о котором он так долго мечтал, и отслужил мессу в Сикстинской капелле.
Едва дождавшись окончания церемоний, сопровождавших этот день, Юлий II вызвал Микеланджело, чтобы сказать ему, что необходимо придать более роскошный вид картинам на своде, добавив золота и ультрамарина (1511 г.). Микеланджело, не желая снова возводить леса, сказал, что то, чего недостает, не имеет никакого значения. «Что ни говори, а надо добавить золота». «Я не вижу, чтобы люди носили золотые одежды», – ответил Микеланджело. «Капелла будет выглядеть бедно». – «Но люди, которых я изобразил, тоже были бедны».
Папа был прав. Ремесло священника (Людовик XIV говорил: «Мое ремесло короля». – Р., Ш.) кое-чему научило его. Богатство алтарей и великолепие одежд усиливают пыл верующих, слушающих торжественную мессу.
Микеланджело получил за свой труд три тысячи дукатов, из которых около двадцати пяти он потратил на краски[23 - Помножив на десять суммы, относящиеся к XVI веку, мы получим деньги, на которые в настоящее время можно купить то же самое; Микеланджело получил пятнадцать тысяч франков, которые равны нынешним ста пятидесяти тысячам франков.].
За время работы его глаза так привыкли смотреть вверх, что ближе к окончанию своего труда он с большой тревогой заметил, что, направляя взгляд на землю, он почти ничего не видит, и, чтобы, например, прочесть письмо, ему надо было поднимать его вверх. Это неудобство сохранялось в течение нескольких месяцев.
После Сикстинской капеллы расположение папы вознесло его на недосягаемую высоту; Юлий II заваливал его подарками. Этот правитель испытывал к нему живую симпатию, и Микеланджело слыл в Риме самым любимым из его придворных.
Микеланджело Буонарроти. Пророк Исайя. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Микеланджело Буонарроти. Создание Солнца и планет. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Микеланджело Буонарроти. Жертвоприношение Ноя. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
Впечатление от Сикстинской капеллы
Я думаю, что зритель, если он католик, созерцая «Пророков» Микеланджело, пытается привыкнуть к виду этих грозных существ, перед которыми он однажды должен будет предстать. Чтобы как следует прочувствовать эти фрески, надо входить в Сикстинскую капеллу с душой, подавленной кровавыми историями, которыми изобилует Ветхий Завет[24 - Принцип милости позволяет нам взглянуть человеческими глазами на историю народа, который не является народом Божьим. Р., Ш.]. Именно там в Страстную пятницу звучит знаменитое «Мизерере». Во время пения этого покаянного псалма гасятся свечи, и служители гнева Божия становятся видны лишь наполовину; и мне довелось наблюдать, как твердый человек с совершенно посредственным воображением испытывает в этот момент что-то вроде страха. Женщинам становится дурно, когда голоса постепенно ослабевают и затихают и всё словно уничтожается под десницей Предвечного. Неудивительно было бы в этот момент услышать трубы Страшного суда, и мысль о милосердии даже не приходит никому в голову.
Вы видите, как абсурдно искать античную красоту с ее бодрящей экспрессией в живописи, изображающей религиозные страхи.
Как следовало бы ожидать гениям во всех видах искусства, все великие качества Микеланджело были поставлены ему в упрек; но, поскольку за порогом смерти для великого человека начинается его будущность, что ему в могиле вся эта ложь, все эти человеческие упреки? Кажется, что из этого грозного укрытия бессмертные гении могут быть вызваны лишь голосом истины. Все преходящее для них уже ничто. Дурак оказывается в Сикстинской капелле, и его ничтожный голос нарушает торжественную тишину звуком тщетных слов; где будут эти слова? Что станется с ним самим через сотню лет? Он исчезнет, как прах, а бессмертные шедевры безмолвно перейдут в грядущие века.
Микеланджело Буонарроти. Дельфийская сивилла. Фрагмент. 1508–1512 гг. Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан.
При Льве Х Микеланджело бездействует девять лет