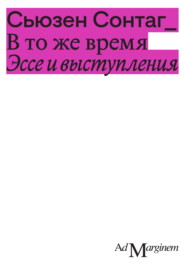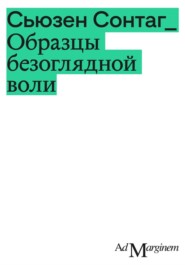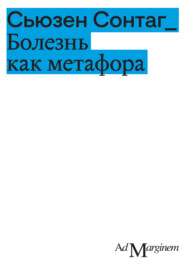По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Под знаком Сатурна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сьюзен Сонтаг
В сборник вошли наиболее важные критические эссе, написанные Сьюзен Сонтаг с 1972 по 1980 год. Помимо пронзительных воспоминаний о Ролане Барте и Поле Гудмане и эссе о Вальтере Беньямине и Антонене Арто, «Под знаком Сатурна» включает в себя критику любимого режиссера Гитлера Лени Рифеншталь, а также блистательный анализ антифашистского фильма Ханса-Юргена Зиберберга. В своих как всегда откровенных текстах Сонтаг рассуждает о смерти, искусстве, истории, воображении и писательстве как таковом.
Сьюзен Сонтаг
Под знаком Сатурна
Susan Sontag
Under the Sign of Saturn
Penguin Books
Copyright © 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1980, Susan Sontag
All rights reserved
© Дубин Б. В., перевод, наследники, 2019
© Дубин С. Б., перевод, 2019
© Цыркун Н. А., перевод, 2019
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2019
O Поле Гудмане[1 - Пол Гудман (1911–1972) – американский писатель, социолог, литературный критик и психотерапевт (один из основателей гештальт-терапии).]
Эти строчки я пишу в моей крошечной парижской комнатке, сидя в плетеном кресле у письменного стола; окно передо мной выходит в сад; за спиной – раскладушка и ночной столик; на полу и под столом – рукописи, блокноты, две-три книжки в обложке. То, что более года я жила и работала в таких спартанских условиях – хотя изначально ничего такого не планировала и не продумывала заранее, – несомненно, отвечает некоей внутренней потребности отбросить лишнее, отгородиться на время, начать с чистого листа с минимумом багажа и комфорта. В том Париже, где обитаю я (и который имеет так же мало общего с Парижем сегодняшним, как и он – с величественным Парижем, столицей XIX века, питавшей развитие идей и искусства до конца 1960-х годов века нынешнего), Америка стала самым близким из всех отдаленных уголков планеты. Даже когда я никуда не выхожу – а в последние месяцы выдалось немало благословенных дней и ночей, когда от печатной машинки хотелось отойти лишь ради сна, – каждое утро кто-то приносит мне парижское издание Herald Tribune с ее чудовищной подборкой «новостей» об Америке, здесь кажущихся оторванными от реальности, искаженными и донельзя причудливыми: бомбардировщики Б-52, поливающие эко-смертью вьетнамские джунгли; отвратительное бичевание Томаса Иглтона[2 - Томас Фрэнсис Иглтон (1929–2007) – американский политик, номинировался на должность вице-президента от Демократической партии, но раскрытые подробности его борьбы с депрессией и развязанная против него травля в прессе вынудили его отказаться от избирательной кампании.]; паранойя Бобби Фишера; неодолимое восхождение Вуди Аллена; отрывки из дневника Артура Бремера[3 - Так называемый Дневник убийцы (1973) американца Артура Бремера, осужденного за покушение на кандидата в президенты от демократов Джорджа Уоллеса 15 мая 1972 года; освобожден в 2007 году.] – и вот, на прошлой неделе, смерть Пола Гудмана.
Ловлю себя на том, что не в силах назвать его лишь по имени. Разумеется, при встрече мы обращались друг к другу как Сьюзен и Пол, но и в моих мыслях, и в разговорах с другими он никогда не был просто Полом – или тем более Гудманом, – но всегда Полом Гудманом: полное имя, со всей двойственностью прочувствованного и фамильярного, которое такое словоупотребление предполагает.
Горе, которым стала для меня смерть Пола Гудмана, еще сильнее от того, что друзьями мы с ним не были, хотя во многом и вращались в одних кругах. Познакомились мы 18 лет назад. Мне был 21 год, я училась в аспирантуре в Гарварде, мечтала жить в Нью-Йорке, и, когда на выходных как-то оказалась в городе, один мой знакомый, друживший с ним, привел меня в лофт на 23-й улице, где Пол Гудман с женой отмечали день его рождения. Он был пьян, хриплым голосом расписывал всем свои сексуальные подвиги и поговорил со мной ровно столько, чтобы не сойти совсем уж за хама. В следующий раз я увидела его уже через четыре года, в гостях у кого-то на Риверсайд-драйв: он вел себя спокойнее, но казался таким же холодным и поглощенным самим собой.
В 1959 году я переехала в Нью-Йорк, и с тех пор до конца 1960-х мы встречались довольно часто, хотя и всегда на людях: на вечеринках у общих друзей, на групповых дискуссиях и лекциях о вьетнамской войне, акциях протеста и демонстрациях. Я, как правило, всякий раз робко пыталась заговорить с ним в надежде рассказать, прямо или обиняками, сколь важны оказались для меня его книги, как много я из них почерпнула. Он неизменно отмахивался от моих откровений, и я отступала. Общие друзья рассказывали, что он недолюбливал женщин как таковых – хотя, конечно, делал исключение для некоторых. Я как могла противилась такому толкованию (мне оно казалось недалеким), но затем сдалась. Собственно, именно это чувствовалось и в его работах: например, основной недочет «Взрослея без толку» – книги, призванной разобраться в проблемах американской молодежи, – в том, что об американской молодежи автор говорит, как если бы она состояла исключительно из подростков и молодых мужчин. При встречах я перестала держаться с ним открыто.
В прошлом году еще один общий друг, Иван Иллич[4 - Иван Иллич (1926–2002) – хорватско-австрийский философ, священник, критик западной культуры.], пригласил меня в Куэрнаваку, где вел тогда свой семинар и Пол Гудман: я призналась ему, что предпочла бы подождать, пока тот не уедет. По нашим многочисленным беседам Иван знал, как восхищалась я творчеством Пола Гудмана. Но несравнимое наслаждение от осознания того, что он живет со мной в одной стране, у него все хорошо и он по-прежнему пишет, превращалось в пытку всякий раз, когда я оказывалась с ним в одной комнате и чувствовала себя бессильной установить даже самый элементарный контакт. В этом, вполне буквальном, смысле мы не то что не дружили с Полом Гудманом – он был мне откровенно неприятен, поскольку, как я не раз жалостливо пыталась при жизни его объяснить, он, казалось, точно так же не выносил меня. Я всегда понимала, сколь пафосной и чисто формальной была такая неприязнь – и глаза мне на это раскрыла вовсе не смерть Пола Гудмана.
Он так долго был моим героем, что я ничуть не удивилась, когда он наконец прославился: меня всегда удивляло, скорее, то, что люди словно бы принимали его как должное. Самой первой его книгой, которую я прочла – в 17 лет, – стал сборник рассказов «Лагерь свернут» в издательстве New Directions. После этого я за год проглотила все, что он выпустил ранее, и с тех пор стала следить за новыми публикациями. Ни один американский писатель не пробуждал во мне такого неприкрытого любопытства: хотелось как можно скорее прочесть все, что он только ни писал, на любую тему. Основной причиной тут было даже не то, что я в целом соглашалась с его рассуждениями; есть и другие писатели, с которыми я согласна, но схожей преданности которым не чувствую. Меня привлек его неповторимый голос: непосредственный, раздраженный, эгоистичный, щедрый и узнаваемо американский. Норман Мейлер считается самым выдающимся писателем поколения именно из-за своего голоса – властного, эксцентричного; мне же он неизменно казался вычурным и каким-то неестественным. Я восхищаюсь Мейлером как писателем, но вот голосу его не верю. Голос Пола Гудмана – как раз то, что нужно. После Д. Г. Лоренса наша литература не знала такого убедительного, неподдельного и своеобразного голоса. Всему, о чем писал Пол Гудман, этот голос передавал яркость, важность и его собственную, ужасно притягательную, самоуверенность и неуклюжесть. Из-под его пера выходила взвинченная смесь синтаксической неповоротливости и словесной точности; он был способен на фразы восхитительной чистоты стиля и живости языка – но мог порой и писать настолько небрежно и неумело, что казалось, будто он делает это нарочно. Впрочем, это не имело никакого значения. Преданным и воодушевленным поклонником я оставалась именно из-за его голоса, то есть его интеллекта, воплощенной поэзии этого интеллекта. Хотя благосклонным как писатель он был нечасто, письмо и ум его, несомненно, благодатью отмечены были.
Писатель, берущийся за многое, в Америке обычно вызывает ужасную, черную обиду. Пола Гудмана попрекали тем, что он писал и стихи, и пьесы, и романы, а также социальную критику или книги на узкоспециальные темы, неприкосновенность которых стерегут цеховые и академические церберы: городское планирование, образование, литературная критика, психиатрия. Такой ученый-халявщик, психиатр с большой дороги, прекрасно разбиравшийся в природе как вещей, так и людей, многих выводил из себя. Подобная неблагодарность меня всегда поражала. Знаю, часто жаловался на нее и Пол Гудман. Возможно, острее всего это выражено в дневнике, который он вел с 1955 по 1960 год, позднее опубликованном под заголовком «Пять лет»: там он сокрушается по поводу недостатка известности и того, что его не признают и не вознаграждают по достоинству.
Дневник этот писался на излете долгого периода неизвестности, поскольку с выходом «Взрослея без толку» в 1960 году он таки прославился, тиражи его книг выросли, и их, надо думать, даже стали больше читать – если доказательством можно счесть то, как часто идеи Пола Гудмана повторялись (при этом без ссылки на него самого). С 1960 года он начал прилично зарабатывать – поскольку относились к нему уже с нужным пиететом, – прислушивалась к нему и молодежь. Казалось, все это ему льстило, хотя он по-прежнему сетовал, что-де недостаточно знаменит, что его недостаточно читают и вообще недооценивают.
Отнюдь не будучи эгоистом, которому всегда всего мало, Пол Гудман совершенно справедливо полагал, что заслуженного внимания ему не оказывали. Это становится вполне очевидным в некрологах, которые мне довелось прочесть после его смерти в тех немногих американских газетах и журналах, которые я получаю здесь, в Париже. В них он предстает всего-навсего любопытным писателем-нонконформистом, который слишком разбрасывался в творчестве, выпустил «Взрослея без толку», повлиял на бунтарскую молодежь в Америке 1960-х и был несдержан в описаниях своей сексуальной жизни. Трогательный некролог Неда Рорема (единственный из всех, прочитанных мной, хоть как-то отражающий важность Пола Гудмана) напечатан в Village Voice – газете, которую читает большая часть его поклонников, – лишь на 17-й странице. В оценках, появляющихся сейчас, когда его уже не стало, Пол Гудман описывается как маргинал.
Я бы не пожелала Полу Гудману статуса медиазвезды, выпавшего на долю Маклюэну или даже Маркузе – такая слава мало как связана с истинным влиянием и вряд ли отражает то, насколько широко читают того или иного писателя. Меня коробит, скорее, то, что как должное Пола Гудмана воспринимали даже его почитатели. Люди, как мне кажется, по большей части не осознавали, с какой незаурядной личностью имели дело. Ему было по плечу почти все, и он не оставлял в стороне ни одно из истинных призваний писателя. Хотя проза его становилась все более нравоучительной и сухой, он продолжал расти как поэт редкой и совершенно немодной сегодня чуткости; однажды станет ясно, какие замечательные он писал стихи. Многое из того, что он говорил в своих эссе о людях, городах и общем восприятии жизни, очень верно. То, что у него считали дилетантством, на самом деле тождественно его гению: такое дилетантство позволило ему привнести в вопросы обучения, психиатрии и гражданства поразительную, скупую на слова точность понимания и смелость задуматься над практическими изменениями.
Сложно перечислить все, чем я ему обязана. На протяжении двух десятилетий он оставался для меня попросту самым значительным американским писателем. Он был нашим Сартром, нашим Кокто. Ему не хватало несравненного интеллекта теоретика Сартра, он не обращался к безумному, потаенному источнику чистой фантазии, в котором Кокто черпал вдохновение для занятий самыми разнообразными видами искусства. Но он был одарен талантами, какими не располагали ни Сартр, ни Кокто: бесстрашным осознанием того, что же представляет собой наша жизнь, придирчивостью и всеохватностью морального сопереживания. Для меня его голос на печатной странице настолько реален, как мало у какого другого писателя: знакомый, притягательный, выводящий из себя. Подозреваю, что в книгах он выглядел благороднее, чем был на деле в жизни – такое часто случается в «литературе». (Порой бывает и наоборот, в реальности человек ведет себя достойнее, чем лирический герой. А порой у личности в жизни и в книгах вообще мало общего.)
Чтение Пола Гудмана придавало мне силы. Он принадлежал к небольшой группе писателей, умерших и живых, которые обосновали для меня ценность писательского ремесла и чье творчество стало стандартом, по которому я сверяла мои собственные работы. В этом разновеликом и очень личном пантеоне фигурировали несколько живущих сейчас европейских писателей – но ни одного американца, кроме него. Мне доставляло удовольствие все, что выходило из-под его пера; нравилось, когда он упрямился, был неловок, тосковал и даже ошибался. Его эгоизм казался мне скорее трогательным, нежели отталкивающим (как часто бывает с Мейлером, когда я его читаю). Я восхищалась его прилежанием, его готовностью служить общему делу. Я преклонялась перед его отвагой, проявлявшейся очень по-разному – одним из самых замечательных примеров стала та откровенность, с которой в «Пяти годах» он рассказывал о своей гомосексуальности и которую нещадно раскритиковали его друзья-натуралы из нью-йоркских интеллектуальных кругов; это было шесть лет назад, еще до того, как освобождение геев сделало каминг-аут гламурным. Мне нравилось, когда он говорил о себе и когда смешивал свои собственные безнадежные сексуальные желания с желанием совершенного мироустройства. Как и Андре Бретон, с которым его во многом можно сравнить, Пол Гудман был истинным знатоком свободы, радости и наслаждения – о которых я многое узнала как раз из его книг.
Сегодня утром, садясь за этот текст, я потянулась под стол за бумагой для машинки и под завалами рукописей рядом с парой других книжек обнаружила его «Новую Реформацию». Хотя я пытаюсь прожить этот год без книг, нескольким все же удается как-то ко мне пробраться. Что ж, есть какая-то закономерность в том, что даже здесь, в этой комнатушке, куда книгам путь заказан, где я пытаюсь яснее расслышать мой собственный голос и отыскать мои истинные мысли и ощущения, нашлась хотя бы одна книга Пола Гудмана – ведь за последние 22 года мне не случалось жить в квартире, где не были бы собраны почти все его книги.
Но с ними или без них, моя жизнь навсегда отмечена влиянием Пола Гудмана. Я буду и дальше сокрушаться, что он не говорит больше с нами со страниц своих книг и что в наших неуклюжих попытках помочь друг другу, сказать все как оно есть, выпустить ту поэзию, которая в нас еще осталась, уважать друг в друге наше безумие и наше право на ошибку, растить и дальше наше чувство со-гражданственности нам придется обойтись без типичного для Пола подначивания, его терпеливых путаных объяснений всего на свете и без самого? благородного примера Пола. (1972)
Подбираясь к Арто
Организованные попытки ниспровержения «автора» предпринимаются вот уже более ста лет. Их отправной точкой с самого начала было – и остается сейчас – видение апокалипсиса: дышащее одновременно сожалением и торжеством от судорожного разложения прежних социальных устоев, черпающее силы в том вселенском осознании проживаемого революционного момента, которое до сих пор вдохновляет самые блестящие нравственные и интеллектуальные свершения. Нападки на «автора» ведутся с прежней силой, хотя до революции либо дело не дошло, либо – там, где она свершилась, – литературный модернизм оказался быстро задушен. В странах же, революцией не перекроенных, модернизм постепенно становится доминирующей традицией высокой литературной культуры, а не идеологией ее ниспровержения, и продолжает вырабатывать культурные коды для консервирования новой моральной энергии, стараясь выиграть у нее время. То, что исторический императив, дискредитирующий, казалось бы, саму практику литературы, оказался настолько живучим – покрывая сразу несколько поколений писателей, – вовсе не означает, что он был неправильно понят или, как порой случается читать, что неприятие «автора» стало сегодня ретроградским, а то и неуместным. (Люди начинают с некоторым цинизмом воспринимать и самый ужасающий кризис, если он затягивается и приобретает статичный характер.) Долговечность модернизма, скорее, показывает, что происходит, когда предрекавшееся разрешение острого социального и психологического беспокойства откладывается: какие нежданные ресурсы изобретательности и агонии (но также укрощения этой агонии) могут в этот промежуточный период развернуться в полную силу.
Согласно установившейся (хотя и постоянно оспариваемой) концепции, литература генерируется из рационального – то есть социально приемлемого – языка во множество внутренне связных типов дискурса (как то: стихотворение, пьеса, эпос, трактат, эссе, роман), принимая форму конкретных «произведений», о которых судят по таким критериям, как правдоподобие, эмоциональное напряжение, изысканность и актуальность. Но более чем столетнее развитие модернизма выявило произвольный характер некогда стабильных жанров и подорвало само понятие автономного произведения. Стандарты, использовавшиеся для оценки литературных произведений, сейчас кажутся далеко не самоочевидными и вовсе не универсальными. Это лишь инструменты, с помощью которых та или иная культура подтверждает собственные понятия рациональности, как то разума и сообщества.
Сам же статус «автора» разоблачается как роль, которая, не обязательно будучи конформистской, неизбежно обусловлена ответственностью перед данным общественным порядком. Разумеется, отнюдь не все пред-модерные авторы лестно отзывались об обществе, в котором жили. Одной из самых древних задач автора было призвание сообщества к ответу за его лицемерие и нерадивость: так, Ювенал в своих «Сатирах» бичевал разнузданность римской аристократии, а Ричардсон в «Клариссе» обличал буржуазную институцию брака как приумножения собственности. Однако диапазон отчуждения, доступный пред-модерным авторам, оставался ограничен (понимали они это или нет) критикой ценностей одного класса или среды с позиций иного класса/среды. Современные авторы в попытке преодолеть эту ограниченность присоединились к масштабной миссии, около ста лет назад определенной Ницше как переоценка всех ценностей и заново сформулированной Арто в ХХ веке как «тотальное обесценивание ценностей». Сколь бы химерической ни выглядела эта задача, она намечает крайне действенную стратегию, позволяющую современным авторам дистанцироваться от былой ответственности. Если ранее и авторы, превозносившие свою эпоху, и те, что ее критиковали, в равной степени были добропорядочными членами того общества, в котором они функционировали, современных авторов отличает стремление к саморазвенчанию, нежелание быть морально полезными обществу, склонность представлять себя не критиками общества, но провидцами, духовными авантюристами и социальными отщепенцами.
Разрушение «автора» неизбежно несет с собой и переосмысление «писательства». Как только ремесло писателя перестает определяться в терминах ответственности, казавшееся логичным размежевание произведения и создавшей его личности, публичного и приватного высказывания теряет свой смысл. Вся пред-модерная литература развивается из классического представления о писательстве как обезличенном, самодостаточном и автономном свершении. Литература современная предлагает радикально иную идею: романтическую концепцию писательства как способа героической самоэкспозиции конкретной личности. При этом такое соотнесение публичного, литературного дискурса с чрезвычайно приватной сферой на самом деле не требует от читателя какого-либо предварительного знакомства с автором. Хотя мы располагаем обширными сведениями о биографии Бодлера, а о жизни Лотреамона не известно практически ничего, с точки зрения литературы «Цветы зла» и «Песни Мальдорора» в равной степени определены идеей автора как мятущегося индивида, срывающего самые интимные покровы с собственной уникальной субъективности.
Во взглядах, уходящих своими корнями в романтическое мироощущение, плоды творчества художника (или философа), подобно некоей упорядочивающей внутренней структуре, заключают в себе изложение мучительной работы субъективности. Статус произведения обусловливается его местом в конкретном прожитом опыте, который приобретает неисчерпаемую личностную всеохватность, а «творчество» предстает лишь ее сторонним продуктом и неадекватным выражением. Искусство становится высказыванием самосознания – осознания, подразумевающего разлад между «я» художника и сообществом. И, собственно, достижение художника измеряется размахом пропасти между ним и коллективным голосом (голосом «разума»). Художник есть сознание, стремящееся быть. «Я – тот, кто способен жить, лишь бичуя все, что во мне есть врожденного», – писал Арто, самый образцовый и самый бескомпромиссный герой самоуничижения в современной литературе.
В принципе, этот проект обречен на провал. Сознание как данность не способно полностью воплотиться в искусстве: оно должно, скорее, пытаться преобразовать собственные рамки и изменить границы искусства. Соответственно, каждое конкретное «произведение» имеет двойной статус: это уникальный, специфический и уже свершенный литературный жест – и в то же время металитературное заявление (зачастую резкое, порой ироничное) о недостаточности литературы по отношению к идеальному состоянию сознания и искусства. Сознание, задуманное как проект, формирует стандарт, который неминуемо уличает неполноту «произведения». Подобно героическому сознанию, непременно стремящемуся к тотальному владению собой, литература всегда будет нацелена на «тотальную книгу». Но в сравнении с идеей тотальной книги всякое писательство на практике может состоять лишь из фрагментов. Шаблон зачинов, экспозиций и развязок более не применим. Незавершенность становится доминирующей модальностью искусства и мысли, порождая антижанры: творчество, умышленно фрагментарное и самоопровергающее; мысль, подрывающую саму себя. Вместе с тем для успешного ниспровержения былых стандартов нет необходимости опровергать несостоятельность такого искусства. Как говорил Кокто, «успешным произведением может быть лишь произведение несостоявшееся».
Карьера Антонена Арто, одного из последних великих представителей героического периода литературного модернизма – яркий пример и сумма таких попыток переоценки. Арто не состоялся ни в жизни, ни в творчестве. Его наследие включает в себя поэзию; стихи в прозе; киносценарии; заметки о кино, живописи и литературе; теоретические эссе, уничижительную критику и полемические заметки о театре; несколько пьес и примечания ко множеству несостоявшихся постановок, в том числе оперы; исторический роман; моноспектакль для радио в четырех частях; очерки о культе пейотля у индейцев тараумара; блистательные роли в двух великих фильмах («Наполеон» Ганса и «Страсти Жанны д’Арк» Дрейера) и целом ряде второстепенных; а также – сотни писем, его самую совершенную «драматическую» форму: все это складывается в гигантский кодекс внутреннего надлома и самобичевания, масштабную коллекцию фрагментов. Он оставил по себе не завершенные произведения искусства, а уникальный жизненный след, поэтику, эстетику мысли, теологию культуры и феноменологию страдания.
В случае Арто художник-провидец впервые кристаллизуется в фигуру художника как совершенной жертвы своего сознания. То, что лишь предугадывалось в бодлеровской прозаической лирике сплина и описании сезона в аду у Рембо, в высказывании Арто становится беспрестанным и мучительным осознанием неадекватности его собственного сознания самому себе – в агонию чувствования, считающего себя непоправимо отчужденным от мысли. Мышление и выражение этих мыслей с помощью языка становятся вечной пыткой.
В метафорах, с помощью которых Арто описывает свое интеллектуальное страдание, разум предстает либо собственностью, никогда автору полностью не принадлежащей (или это владение ничем не подтвердить), либо чуждой физической субстанцией – непокорной, мимолетной, непрочной, вызывающе изменчивой. Уже в 1921 году, когда ему было только двадцать пять, он признавался в неспособности овладеть своим разумом «целиком». На протяжении 1920-х годов он беспрестанно жалуется, что идеи «ускользают» от него, что он не в состоянии «обнаружить» их и «ухватить» свой разум, он «утратил» разумение слов и «позабыл» формы мысли. Еще более прямые метафоры передают его бешенство от хронической эрозии идей, от того, как мысль осыпается под ним или неотвратимо утекает; свой разум он описывает как растрескавшийся, вырождающийся, застывающий, растекающийся, сворачивающийся, опустошенный, непроницаемо плотный: слова гниют. Арто страдает не от сомнений в том, мыслит ли его «я», а от уверенности, что собственной мыслью он не владеет. Он не говорит, что не способен мыслить, а признается, что «не обладает» мыслью – и это владение для него гораздо важнее наличия верных мыслей и идей. «Обладание мыслью» обозначает процесс, в котором мысль поддерживает себя, проявляется себе самой и способна ответить «на все обстоятельства чувствования и жизни». Арто, по его словам, «не обладает» мыслью именно в этом ее смысле – как субъекта и объекта себя самой. Арто демонстрирует, как гегелевское, драматургическое, самосозерцающее сознание может дойти до состояния полного отчуждения (вместо отстраненной, всеобъемлющей мудрости) – поскольку разум остается объектом.
Язык Арто полон противоречий. Он прибегает к материалистичным образам (превращая разум в вещь или объект), однако его требовательность к разуму равнозначна чистейшему философскому идеализму. Он не способен воспринимать сознание иначе как процесс – и вместе с тем именно это присущее сознанию качество процесса (его неуловимость, текучесть) становится для него адом. «Подлинная боль, – пишет Арто, – это чувствовать, как внутри тебя ворочается мысль». Cogito, чье предельно очевидное существование вряд ли нуждается в доказательствах, бросается на отчаянный, бесплодный поиск ars cogitandi. Интеллект, с ужасом замечает Арто, есть чистейшая случайность. Прямой противоположностью тому, как излагают поиски внятных и отчетливых идей в своих величавых оптимистичных повествованиях Декарт и Валери – их «Божественной комедии» мысли, – Арто говорит о бесконечных муках и растерянности ищущего себя сознания: об «интеллектуальной трагедии, в которой я неизменно оказываюсь побежден», о его «Божественной трагедии» мысли. Арто, по его собственным словам, «все время ищет [свое] интеллектуальное бытие».
Как следствие того приговора, который выносит себе Арто, убежденный в хронической отчужденности от собственного сознания, такое ментальное несовершенство становится, прямо или косвенно, доминирующей, неистощимой темой его произведений. Некоторые из предлагаемых Арто описаний этой мысленной Голгофы почти что больно читать. Он почти не вдается в подробности своих переживаний – паники, замешательства, бешенства, ужаса. Его сильная сторона – не психологическая проницательность (которая ему не давалась и потому отметалась как тривиальная), а более оригинальный тип описания, нечто вроде физиологической феноменологии безграничного отчаяния. Арто не преувеличивает, заявляя в «Нервометре», что столь подробную карту своего «сокровенного я» не удавалось составить еще никому. Во всей истории автобиографического письма мы не найдем такого неустанного и дотошного изложения мельчайших деталей ментального страдания.
Вместе с тем Арто не просто описывает свои душевные муки. Они составляют все его творчество, поскольку писание – придание формы интеллекту – становится агонией, и эта агония, в свою очередь, дает силы писать. Хотя Арто не скрывал своего раздражения, когда в 1923 году его вполне достойные стихи, отправленные в Nouvelle Revue Fran?aise, были отвергнуты редактором журнала Жаком Ривьером как бессвязные и неблагозвучные, это осуждение на самом деле стало для него освободительным. В дальнейшем он упорно отрицал, что попросту создает новые произведения искусства, пополняя склад «писанины». Презрение к литературе – расхожая тема модернистской словесности, впервые ярко обозначенная Рембо – стало общим местом у футуристов, дадаистов и сюрреалистов, но Арто придал ему совсем иное звучание. У него презрение к литературе связано не столько с расплывчатым нигилизмом по отношению к культуре в целом, сколько с конкретным опытом страдания. Для Арто предельная ментальная – и физическая – боль, питающая (и аутентифицирующая) акт писания, неизбежно извращается, если эта энергия переходит в чистый артистизм, приобретает безобидный статус законченного литературного продукта. Вербальное унижение литературы («Все написанное – дрянь», заявляет он в «Нервометре») оберегает опасный, почти магический статус писательства как хранилища, достойного принять боль автора. Надругательство над искусством (например, оскорбление публики) – это попытка предотвратить коррумпирование искусства, обмирщение страдания.
Связь страдания и писательства – одна из ведущих тем у Арто: мучения дают право писать, но необходимость обращаться к языку становится основной причиной страданий. Он описывает свою опустошенность от «цепенящего смятения», охватывающего его «язык при любом соприкосновении с мыслью». Отчуждение Арто от языка представляет собой темную сторону успешных примеров вербального остранения в современной поэзии, творчески обыгрывающей чисто формальные возможности языка, двойственность слов и искусственный характер заданных значений. Проблема Арто – не язык как таковой, а его взаимоотношения с, как он выражается, «интеллектуальным освоением плоти». Он вряд ли может позволить себе традиционные жалобы всех великих мистиков на то, как живая мысль застывает в словах, превращающих непосредственную, органичную, чувственную суть опыта в нечто инертное, всего-навсего вербальное. Борьба с омертвением языка для него вторична; Арто больше занимает онемение его внутренней жизни. На службе сознания, определяющего себя как пароксизм, слова становятся кинжалами. Складывается впечатление, что Арто страдает от экстраординарной внутренней жизни, в которой запутанность и шумная многоголосица его физических ощущений и судорожная интуитивность нервной системы как бы находятся в постоянном разладе с его способностью облечь их в слова. Такой конфликт между легкостью и бессилием, чрезвычайным словесным мастерством и чувством интеллектуального паралича становится психодраматической фабулой всего, что писал Арто; сохранить драматическую валидность этого конфликта можно лишь неустанно искореняя респектабельность, традиционно связанную с писательством.
В результате письмо у Арто не то чтобы высвобождается, а, скорее, оказывается под постоянным подозрением и рассматривается как зеркало сознания – диапазон того, что может быть написано, совпадает по размаху с самим сознанием, и истина каждого высказывания ставится в прямую зависимость от жизнеспособности и целостности сознания, в котором оно зарождается. Вопреки всем иерархическим или окрашенным платонизмом концепциям разума, ставящим один сегмент сознания выше другого, Арто отстаивает демократию притязаний разума, право на высказывание для любой ментальной сферы, направленности, тембра: «В уме мы вольны поступать как угодно, мы можем говорить любым тоном, даже неподобающим». Арто отказывается исключать любое понимание как чересчур тривиальное или грубое. Искусство должно быть способно вещать откуда угодно, считает он – хотя и не по тем же причинам, что обосновывают уитменовскую открытость или джойсовскую разнузданность. Для Арто любой запрет на взаимодействие между сферами разума и плоти равнозначен лишению прав собственности на мысль, утрате жизненной силы в самом прямом смысле. Тот узкий интонационный ряд, что составляет «так называемый литературный тон» – традиционно принятые формы литературы, – становится не просто мошенничеством, но инструментом интеллектуального подавления, смертным приговором разуму. Истина, как представляет ее себе Арто, подразумевает точное и тонкое согласование «животных» импульсов разума и высших операций интеллекта. Именно к такому подвижному, полностью интегрированному сознанию Арто взывает в навязчивых отчетах о собственной ментальной ущербности и в своем отрицании «писанины».
Самым совершенным мерилом для Арто становится качество индивидуального сознания. Он неизменно сопрягает свой утопизм сознания с психологическим материализмом: совершенный разум также является абсолютно плотским. Тем самым интеллектуальное мучение в то же время является острейшим физическим страданием и каждое высказывание Арто о его сознании также становится и высказыванием о теле. Собственно, неисцелимая боль сознания у Арто обусловлена именно его отказом рассматривать разум отдельно от состояния плоти. Сознание тут никак нельзя назвать бесплотным, и его мученичество становится результатом неразрывной связи с плотью. В борьбе со всеми иерархическими или же просто дуалистическими представлениями о сознании Арто постоянно рассматривает разум как если бы он выступал подобием тела – тела, которым ему не дано «обладать», поскольку оно либо предельно девственное, либо донельзя оскверненное, но и тела мистического, хаосом которого он «одержим».
Дословно воспринимать признание Арто в ментальном бессилии было бы, разумеется, ошибкой. Описываемая им интеллектуальная недееспособность вряд ли указывает на творческую ограниченность (никакой неполноценности в рассуждениях Арто не демонстрирует), скорее очерчивая общий замысел: скрупулезно разобрать тяжелые запутанные нити такого тела-разума. Предпосылкой письма у Арто становится его глубинная неспособность сочетать «бытие» с гиперчувствительностью, плоть со словами. Пытаясь воплотить живую мысль, Арто писал лихорадочными, сбивчивыми кусками; письмо вдруг обрывается, затем начинается снова. Каждое его «произведение» выполнено в смешанной манере; например, между пояснительным текстом и сновидческим описанием он нередко вставляет обращение – письмо воображаемому корреспонденту или реальное послание, но без имени адресата. Меняя регистры, он словно сбивает ритм дыхания. Писательство замышляется как излияние непредсказуемого потока обжигающей энергии; знание должно взорваться в нейронах читателя. Конкретная стилистика Арто напрямую вытекает из его представления о сознании как о трясине тягости и страдания. Его решимость расколоть панцирь «литературы» – или хотя бы нарушить защитную дистанцию между читателем и текстом – в истории литературного модернизма вряд ли выглядит новаторской. Но Арто, возможно, ближе всех остальных писателей подошел к этой цели – благодаря сознательной непоследовательности своего дискурса, предельному накалу эмоций, чистоте его морального устремления, невыносимой чувственности описаний внутренней жизни разума, неподдельности и величию тех тяжких испытаний, на которые он пошел, чтобы суметь хоть как-то обратиться к языку.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: