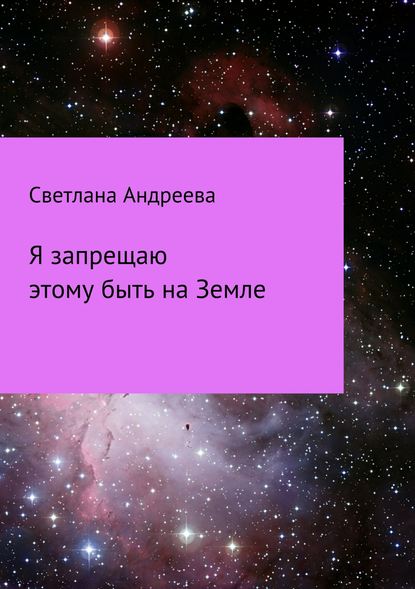По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я запрещаю этому быть на Земле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А до какого возраста доживают горожане?
– Они не доживают до возраста перехода! – неожиданно эмоционально воскликнула Саша. – Ты права! Они просто не доживают до осознанного возраста! Они подростки!
– Их развитие и так тормозится ядами, – кивнула я, – так ещё и живут они очень мало. Они просто не доживают до возраста, года у них появляется способность переосмыслить окружающую их действительность и сделать свой выбор.
– И у них на это просто времени нет, – добавила Саша. – Они большую часть времени своей жизни вынуждены тратить на работе, что бы обеспечить себя едой.
– Точно! – я сделала себе пометку добавить это в отчёт.
– Они остаются подростками! Несмышлёнышами с внушённой им неверной картиной мира.
– И стариков у них нет, – добавила я. – Нет тех, кто проанализировал свой опыт и готов передать его детям и внукам. Преемственность поколений нарушена, и каждый индивид вынужден начинать путь с нуля, заново проходя по той же неверной дороге, что и поколения его соплеменников до него. Некому сказать ему, что уже выяснено, что этот путь ошибочный. Им никакие кандалы не нужны. Ни физическое насилие, ни облучение подавителями воли. Их сознание порабощено неверным представлением о мироустройстве. И эта картина мира держит их в рабстве надёжнее любых кандалов.
– Они просто не знают, что можно жить иначе, – простонала Саша. – Они рабы веры в то, что это и есть их нормальная жизнь.
– Они не доживают до возраста, когда могут осознать это. Всё так просто. Так жестоко и просто. Щашуры просто не позволяют им доживать до возраста осмысленности.
Ждать, ждать, ждать
Отчет готов. Задача решена. Как же медленно тянется время! Три часа сорок три минуты с того момента, как я должна была выйти на связь и отправить этот отчёт. Не могли же этого просто не заметить? Конечно, я не единственный источник информации для посла Шеломина, но не может же он просто не обратить внимания, что я не вышла на связь? Где же этот ремонтник?
Над замученной блёклой планетой висели только несколько бортов наблюдателей. Два из них были вызывающе близко к станции.
– Вас здесь быть не должно! – высказала я им. – А для военных бортов это тем более закрытая зона!
Как медленно тянется время. Я бесцельно блуждала по станции. Опять этот жуткий коридор. Осознание того, что наши наблюдатели и партнёры могут в любой момент расстрелять станцию, заставляло прислушиваться к каждому звуку. А в этих чужих ячеистых стенах звук искажался и звучал ещё неестественнее и настораживающе. Я развернулась и вернулась на нашу половину станции. Где же эти ремонтники?
В столовой было пусто. Уже четыре часа двадцать восемь минут. Константин! Ну, хоть ты вспомни обо мне! Время на подготовку к комиссии тает на глазах!
– А ты молодец! – раздался за спиной натянуто бодрый голос Ларисы. – Борис рассказал мне, как ты про подростков всё доказала.
– Да. Жаль, если теперь всё это передать не успею. Где эти ремонтники?
Я встала из-за стола и сделала вид, что рассматриваю картину. У меня ни осталось ни моральных, ни физических сил сдержать слезы. Было до ужаса обидно. Невыносимо обидно, что Константин так и не вспомнил до сих пор обо мне. И всё это зря.
– Не могу уснуть, – призналась Лариса. – И занять себя нечем. Пойду опять жуку мешаться.
Я кивнула, не рискуя повернуться к ней и дать ей заметить следы слёз. Я спасала видимость моего самообладания тупым разглядыванием этой картины в тяжёлой музейной раме. Залитая солнцем лужайка, ручей, пара деревьев и сельский домик. Этакая прянично – сладкая сказка о гармоничной спокойной жизни вдали от суеты мира.
– Любуешься на изыски нашего интерьера? – подошла сзади Лариса.
Может она и хотела произнести это с сарказмом, но взгляд её, так же как и мой, утонул в этом стереотипно – уютном представлении о родном доме.
– Она ведь это специально сделала, что бы компенсировать давление той чужеродной части станции, – наконец, догадалась я. – Весь этот перебор с картиной галереей и занавесочками, с вручную перекрашенным залом управления.
– Наверно, – пожала плечами Лариса. – Я не задумывалась об этом.
– Флоренс старается защитить вас даже от того, от чего защитить не может. Мамаша Флоренс.
– Мы бы не называли её так, будь она другой.
– Вам очень повезло с капитаном.
– Я знаю. Мы знаем.
Я запрещаю этому быть на Земле!
Шесть часов тринадцать минут. Ждать. Ждать. Ждать. Ждать, когда каждую утекающую минуту ощущаешь как сотни потерянных жизней беззащитных, брошенных в беде существ. Ждать, когда нельзя терять ни минуты. Ждать. Тягостное обессиливающее бездействие. Ждать и надеяться. Как это немыслимо тяжело, когда от тебя лично ничего не зависит! Когда бессилен хоть что-то сделать. И нечем занять себя. Потому что мы все отравлены передозировкой этих немыслимо бесчеловечных фактов. И никто больше не может говорить об этом. Обсуждать это. Картина, в которую сложились разрозненные кусочки фактов, и так раздавила нас своей немыслимой жестокостью. Мы не можем больше работать. И спать не можем. Просто не можем уснуть.
Мы как тени слоняемся по станции, ежесекундно готовые или к чуду прилета ремонтников или к смерти от наших заботливых коллег-наблюдателей.
Надо бы поспать, попросить доктора Ройзу, но… принять снотворное – это как сдаться, как струсить. И пропустить единственно возможное чудо явления ремонтников.
Саша сидела прямо на полу перед обзорным окном смотровой палубы. Планету почти не было видно. Только тонкий серп подсвеченного края. Я уселась рядом. Несколько минут мы просто молчали.
– Что ты слушаешь?
– Песни Васеньки.
– Песни?
– Хочешь послушать?
– Я не понимаю на гарапцалском.
– Это Пашка их перевёл, – протянула мне микронаушник Саша. – Он тогда сказал, что они так согласуются с нашим восприятием, что мы могли бы считать их своими.
Это был голос Пашки. Солнечный, бодрый, и полный восхищения. За одно это уже следовало слушать эти песни. Даже, если не прислушиваться к словам.
Вспомни! Мы звёзды на нити низали.
Мы свету тех звёзд нас нести приказали.
Чужие миры как цветы раскрывались.
Мы были как дети. Мы в счастье купались.
Вспомни! Никто встать не смел рядом с нами.
Нам не было равных. Мы были Богами.
И не было силы, что б нас удержала.
Любая планета пред нами дрожала.
Вспомни! Мы были горды и беспечны.
И верили глупо, что так будет вечно.