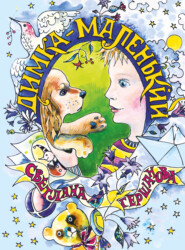По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Осколки детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И продолжается этот чистейший день…
Больше мы не виделись никогда. Осенью его определили сразу в третий класс, да и мы вскоре уехали.
А пока – впереди огромное лето.
Писем от отца не было, кроме первого, ещё в Грозном, – треугольника с чёрной печатью: «Доехали хорошо, находимся на формировании».
Как только Ростов освободили, мама написала знакомой, тёте Вале, которая почему-то ушла из своей квартиры и жила теперь у нас. Хотела узнать самое главное, самое важное – нет ли писем от папы?
Время шло, а тётя Валя не отвечала. Мама написала другим знакомым, и я каждый день ждала почтальона.
Почтальон – девочка-подросток, смуглая, чёрненькая, черноглазая. Она смотрела прямо на меня, когда входила во двор.
У меня на лице, наверно, было написано такое ожидание! Я вставала с земли, где играла в камушки, или выбегала на порог…
– Вам нет ничего! Я бы сразу принесла!
Нам дали огород за городом, и мы посадили картошку. Теперь надо было окучивать её, полоть, а главное, поливать, без воды ничего не росло на этой земле. Полив был глубокой ночью, и мама брала меня с собой. Наверно, ей было очень страшно одной.
Поливали арыками. Земля так пересыхала под азиатским солнцем, что никакими вёдрами напоить её было невозможно. Воду давали по графику, где-то разрывали мотыгой запруду, вода шла на участок, а мы должны были направлять её по рядкам своей картошки.
Она иссякала на первых же кустах. Кто-то снова перекрывал запруду и направлял воду к себе. Мама бежала с мотыгой, снова открывала путь этой драгоценной влаге, без которой здесь ничего, просто ничего не растёт, а когда возвращалась, воды в канавках снова не было.
Но потом вода пошла и шла всю ночь, и мы всю ночь распределяли её по своему зелёному клину.
– Мам, давай сначала польём понемногу, а то вода кончится!
– Не кончится, там дядя сторожит с костылём. Он сказал, иди поливай, я им покажу!
Помню эту картошку и сейчас. Сосед привёз её в сетках на своей арбе, отгородил треть комнаты досками почти в мой рост и уложил горой.
Картошка светилась сквозь сетку, желтовато-кремовая, крупная, одна в одну. Сколько раз я потом вспоминала её золотые бока, её белоснежную рассыпчатую сердцевину! Мы успели, успели ещё попробовать её и варёной, и печённой в золе, даже солить не надо было и чистить тоже, только подуть, перебрасывая из одной ладошки в другую.
И тут, наконец, пришло письмо. Девочка-почтальон несла его отдельно от остальных и кричала ещё издали:
– Танцуй, танцуй, Светка! Вам письмо!
– От папы? – с замиранием сердца спрашиваю я. – Он… живой?
– Это не от папы, письма с фронта не в таких конвертах. Это гражданское письмо, из Ростова. Ладно, можешь не танцевать.
Мама прочла его вечером. Она ходила по комнате с письмом и плакала, плакала, я никогда не видела у неё столько слёз, даже когда бабушка умерла.
– Мама, что там написано? Что-то с папой?
– Нет, нет…
– Наш дом разбомбили?
– Нет, нет, ох, Господи… Убили дедушку.
– В него попала бомба, да?
– Нет, нет… Его расстреляли на площади.
– За что? Он был партизан?
– Он был еврей.
У меня в душе что-то оборвалось и повеяло жгучим холодом.
– Я знала, я знала, – повторяла мама, – так просила его поехать с нами! Не хотел быть в тягость никому. Я знала, знала!
– Значит, если бы мы не уехали…
– Да. Это было безумие – остаться!
– А папа тоже еврей?
– Да. Но он на фронте, только бы не попал в плен.
– Только бы не попал в плен, – повторила я, как заклинание.
– Поедем в Ростов, дом наш цел, будет крыша над головой. Тётя Валя не отвечает, но это ничего, поживём вместе, пока вернутся папа и дядя Миша, тёти-Валин муж. В тесноте, да не в обиде. А вдруг там письма от папы? Ведь он не знает нашего адреса, а домой-то напишет наверняка. Как узнает, что Ростов освободили, так и напишет!
– Конечно, поедем домой! Мама, а нельзя повезти с собой картошку?
– Нет, её придётся продать.
Картошку купил сосед. Я слышала, как они разговаривали с мамой, когда ни досок уже не было, ни сеток, только в углу сиротливо стояло ведёрко.
– Но здесь больше, здесь много денег!
– В дороге тебе много не покажется. Детей береги.
– Да, да…
– А может, останешься? Куда ты, неразумная, в зиму, в голод? И картошки бы хватило, и дрова есть, куда ты с малыми детьми?
– Домой.
– Ну, дай вам Бог, дай вам Бог добраться.
На каждой пересадке мы с Вовкой сидим на вещах. Вещи уменьшаются – уже нет узла в маминой шали, и самой шали нет, выменяли на продукты.
Мы сидим то у розовой вокзальной стены, то в огромном здании вокзала с куполом, как в церкви, но купол разрушен, и видно небо.
Стоим на перроне, мама раскрывает чемодан, достаёт пачку махорки.
Больше мы не виделись никогда. Осенью его определили сразу в третий класс, да и мы вскоре уехали.
А пока – впереди огромное лето.
Писем от отца не было, кроме первого, ещё в Грозном, – треугольника с чёрной печатью: «Доехали хорошо, находимся на формировании».
Как только Ростов освободили, мама написала знакомой, тёте Вале, которая почему-то ушла из своей квартиры и жила теперь у нас. Хотела узнать самое главное, самое важное – нет ли писем от папы?
Время шло, а тётя Валя не отвечала. Мама написала другим знакомым, и я каждый день ждала почтальона.
Почтальон – девочка-подросток, смуглая, чёрненькая, черноглазая. Она смотрела прямо на меня, когда входила во двор.
У меня на лице, наверно, было написано такое ожидание! Я вставала с земли, где играла в камушки, или выбегала на порог…
– Вам нет ничего! Я бы сразу принесла!
Нам дали огород за городом, и мы посадили картошку. Теперь надо было окучивать её, полоть, а главное, поливать, без воды ничего не росло на этой земле. Полив был глубокой ночью, и мама брала меня с собой. Наверно, ей было очень страшно одной.
Поливали арыками. Земля так пересыхала под азиатским солнцем, что никакими вёдрами напоить её было невозможно. Воду давали по графику, где-то разрывали мотыгой запруду, вода шла на участок, а мы должны были направлять её по рядкам своей картошки.
Она иссякала на первых же кустах. Кто-то снова перекрывал запруду и направлял воду к себе. Мама бежала с мотыгой, снова открывала путь этой драгоценной влаге, без которой здесь ничего, просто ничего не растёт, а когда возвращалась, воды в канавках снова не было.
Но потом вода пошла и шла всю ночь, и мы всю ночь распределяли её по своему зелёному клину.
– Мам, давай сначала польём понемногу, а то вода кончится!
– Не кончится, там дядя сторожит с костылём. Он сказал, иди поливай, я им покажу!
Помню эту картошку и сейчас. Сосед привёз её в сетках на своей арбе, отгородил треть комнаты досками почти в мой рост и уложил горой.
Картошка светилась сквозь сетку, желтовато-кремовая, крупная, одна в одну. Сколько раз я потом вспоминала её золотые бока, её белоснежную рассыпчатую сердцевину! Мы успели, успели ещё попробовать её и варёной, и печённой в золе, даже солить не надо было и чистить тоже, только подуть, перебрасывая из одной ладошки в другую.
И тут, наконец, пришло письмо. Девочка-почтальон несла его отдельно от остальных и кричала ещё издали:
– Танцуй, танцуй, Светка! Вам письмо!
– От папы? – с замиранием сердца спрашиваю я. – Он… живой?
– Это не от папы, письма с фронта не в таких конвертах. Это гражданское письмо, из Ростова. Ладно, можешь не танцевать.
Мама прочла его вечером. Она ходила по комнате с письмом и плакала, плакала, я никогда не видела у неё столько слёз, даже когда бабушка умерла.
– Мама, что там написано? Что-то с папой?
– Нет, нет…
– Наш дом разбомбили?
– Нет, нет, ох, Господи… Убили дедушку.
– В него попала бомба, да?
– Нет, нет… Его расстреляли на площади.
– За что? Он был партизан?
– Он был еврей.
У меня в душе что-то оборвалось и повеяло жгучим холодом.
– Я знала, я знала, – повторяла мама, – так просила его поехать с нами! Не хотел быть в тягость никому. Я знала, знала!
– Значит, если бы мы не уехали…
– Да. Это было безумие – остаться!
– А папа тоже еврей?
– Да. Но он на фронте, только бы не попал в плен.
– Только бы не попал в плен, – повторила я, как заклинание.
– Поедем в Ростов, дом наш цел, будет крыша над головой. Тётя Валя не отвечает, но это ничего, поживём вместе, пока вернутся папа и дядя Миша, тёти-Валин муж. В тесноте, да не в обиде. А вдруг там письма от папы? Ведь он не знает нашего адреса, а домой-то напишет наверняка. Как узнает, что Ростов освободили, так и напишет!
– Конечно, поедем домой! Мама, а нельзя повезти с собой картошку?
– Нет, её придётся продать.
Картошку купил сосед. Я слышала, как они разговаривали с мамой, когда ни досок уже не было, ни сеток, только в углу сиротливо стояло ведёрко.
– Но здесь больше, здесь много денег!
– В дороге тебе много не покажется. Детей береги.
– Да, да…
– А может, останешься? Куда ты, неразумная, в зиму, в голод? И картошки бы хватило, и дрова есть, куда ты с малыми детьми?
– Домой.
– Ну, дай вам Бог, дай вам Бог добраться.
На каждой пересадке мы с Вовкой сидим на вещах. Вещи уменьшаются – уже нет узла в маминой шали, и самой шали нет, выменяли на продукты.
Мы сидим то у розовой вокзальной стены, то в огромном здании вокзала с куполом, как в церкви, но купол разрушен, и видно небо.
Стоим на перроне, мама раскрывает чемодан, достаёт пачку махорки.