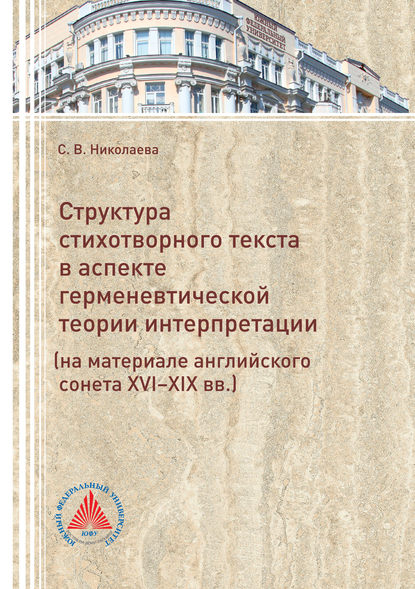По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Структура стихотворного текста в аспекте герменевтической теории интерпретации (на материале английского сонета XVI-XIX вв.)
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1.1.2. Стихотворный текст как порождаемая структура. Концепт и конструкт в тексте
Термин «текст» (от лат. textus – «ткань, сплетение, соединение») в современных науках гуманитарного цикла выступает одной из наиболее востребованных базовых понятийных номинаций. Он находит широкое применение не только в лингвистике и литературоведении, но также в семиотике, культурологии, философии, неся и передавая в своей семантической структуре самые разные оттенки значений в контексте каждой их этих отраслей знания. Постоянно возрастающим значением феномена текста в жизни современного общества, несомненно актуальной проблемой разностороннего его изучения – на фоне очевидной сложности, неоднозначности текста как объекта исследования – обусловлена множественность и разноаспектность дефиниций, заявленных в последние десятилетия в трудах отечественных и зарубежных ученых. Суммируя основные, наиболее значительные из этих концепций, можно сказать, что текст – это звено (наряду с двумя иными участниками – продуцентом и реципиентом) письменной речевой коммуникации; это фиксируемый на письме, сознательно организованный результат речетворческого процесса, характеризующийся цельностью, связностью, системностью (см. в трудах лингвистов [Ахманова, 1966: 470; Гальперин, 1981: 3, 18; Николаева, 1990; Лотман, 2001; Розенталь, Теленкова, 2001: 553; Николаев, 2004; Чувакин, 2004; Костомаров, 2005: 48; Лукин, 2005 и мн. др.]; литературоведов [Хализев, 2002; Гиндин, 2003 и др.]; сходное понимание текста, хотя и несколько расширенное, нашло отражение в философской герменевтике; см. [Гадамер, 1999; Рикёр, 2002: 102] и др.). Нам известно, что сегодня в качестве текста рассматривается также и устное высказывание, причем соотношение между устной и письменной формами уже выстраивается по типу иерархии с альтернативным предпочтительным выделением как письменной [Bussmann, 1996: 479; Стариченок, 2008: 638], так и устной [Жеребило, 2005: 279–280] манифестации. В нашей работе, с учетом формальной специфики объекта исследования, текст рассматривается как принципиально письменная форма репрезентации высказывания.
К стихотворному тексту, выступающему одной из функциональных разновидностей текста в целом, применимы все вышеперечисленные качества – цельность, связность, системность. Принимая во внимание особое значение структурного фактора при рассмотрении малых поэтических форм, мы выделяем, в качестве важнейшей характеристики текста, его системность.
Известно, что значимость отдельных единиц текста, а также внутритекстовых корреляций в составе произведения, зависит от «физической» величины, или протяженности (линейность является имманентным свойством любого письменного текста, см. [Лукин, 2005: 22]), текстового пространства. Если в крупных художественных текстах – как прозаических (повесть, роман), так и стихотворных (поэма, роман в стихах и т. д.) – становится возможным чередование более и менее значимых для идеи всего произведения эпизодов, то строгая регламентация объема произведения, сведение его до заданного числа строк, строф и т. д., такую возможность, как правило, исключает. В этом случае повышается информативность текста, то есть каждый его элемент (слово, словосочетание, текстовый эпизод) становится функционально значимым. «Краткостью непосредственно определяется интенсивность задуманного эффекта», – отмечал еще Э. А. По в своем эссе «Философия творчества» [По, 1984: 642]. Строгое распределение функций в стихотворном тексте подразумевает четкую формально-семантическую организацию текстового пространства. В то время как, по замечанию Ю. М. Лотмана, любой художественный текст характеризуется признаком особой упорядоченности [Лотман, 1999: 50], текст стихотворный ощущается как «речь повышенной важности», он рассчитан на запоминание и повторение [Гаспаров, 2003а: 7], поэтому связан четкой, сознательно заданной структурой. Итак, системность стихотворного текста, будучи, с одной стороны, ключевой его характеристикой, с другой, обеспечивает его связность – неразрывность и взаимозависимость элементов, эту систему образующих.
Цельность, третье из названных нами качеств, обеспечивается общим единством конструктивного и концептуального уровней текста, т. е. единством формы и содержания (дихотомия, принятая в литературоведческой традиции – см., например, [Хализев, 2002: 185–194; Кожинов, 2003б] и др.). В связи с этим в данной работе предлагается последовательное различение двух важнейших понятий – «концепт» и «конструкт».
Концепт, относясь к сфере ментальности, порождается мыслительными процессами, однако сам по себе задействован и реализован в коммуникации быть не может. Ему требуется внешнее воплощение, оболочка – «имя концепта», – чего можно достичь лишь в случае взаимодействия между смежными сферами мышления и языка; при этом происходит поиск таких вербальных средств, которые могли бы наиболее адекватно отразить, т. е. «оформить» тот или иной концепт (подробнее о термине «концепт» см. в работах [Степанов 1997; Арутюнова 1998] и др.).
Термин конструкт получил ряд толкований в современных гуманитарных отраслях знания. Так, в философии конструкт есть некое гипотетическое понятие, которое принадлежит к зоне перехода от эмпирического знания к концептуальному и обратно, выполняя функции перехода между областями эмпирического и теоретического [НФС, 1998: 327]. В психологии конструктом называют оценочную систему, которая используется индивидом для классификации различных объектов его жизненного пространства (термин введен и обоснован Джорджем Келли в работе: [Келли, 2000]). Развивая ту же мысль, некоторые лингвисты говорят о существовании уровней конструктов; эти уровни определяются как «понятия о ненаблюдаемых объектах науки, постулируемые для объяснения фактов, данных в наблюдении» [Ахманова, 1966: 204]. С другой стороны, в литературоведении утвердилась номинация конструктивный фактор, под которой понимается некое организующее начало художественного текста, причем оно может относиться как к формальному (ритм), так и к содержательному (сквозная тема, единая авторская эмоция) уровню произведения [Тынянов, 1977: 259–260; Фоменко, 2003: 27; Гареева, 2004: 81–82].
В рамках своего исследования под конструктом мы намерены понимать системно организованную совокупность вербальных средств, составляющих внешнее, языковое воплощение некоего концепта. Строгой дифференциации терминов концепт и конструкт, по нашему мнению, не противоречит функциональная связь, объективно объединяющая и тот, и другой в рамках единого текстового пространства.
Важно учесть, что концепт, принимая на себя онтологическую функцию инварианта, может быть оформлен с помощью различных языковых средств, поэтому одному концепту вовсе не должен соответствовать один определенный конструкт (с этим утверждением тесно связано понятие концептуальной парадигмы, см. об этом [Савенкова, 2006: 298]). Разнообразие внешних воплощений концепта обусловливает мнение о том, что текст как результат языкового оформления концептуального единства может пониматься как один из его вариантов. Говоря проще, под концептом мы намерены подразумевать фактор содержания, а под конструктом – его формально-материальное воплощение.
Специфика стихотворного текста по отношению к феномену текста вообще обнаруживается как на конструктивном, так и на концептуальном уровнях. Современный этап общефилологических исследований предполагает выделение нескольких формальных признаков стихотворного текста. Наиболее устойчивыми из них по-прежнему выступают ритм/метр и рифма. На логичный вопрос о том, какой из этих признаков является облигаторным, а потому ключевым в определении поэзии, а какие – факультативными, однозначного ответа не существует. Так, согласно дефиниции, предложенной В. М. Жирмунским, стихотворная речь отличается от прозаической упорядоченностью звуковой формы, выражаемой в закономерном чередовании сильных и слабых слогов [Жирмунский, 1975: 8]. По мнению В. Е. Холшевникова, «главное свойство стихотворной речи <…> – это ритмичность» [Холшевников, 2004: 8]. Такой точки зрения придерживается и Б. В. Томашевский, подчеркивающий, что «стихотворная речь есть речь ритмическая» [Томашевский, 1959а: 293]; на «строение ритма» как на главную внешнюю особенность поэзии указывает и В. В. Кожинов [Кожинов, 2003а: 778].
Тем не менее многие ученые сегодня сходятся на том, что ни ритм, ни рифма (сами по себе или во взаимном сочетании) не могут считаться основными дифференциальными признаками стихотворного текста. На первый план все более активно выдвигается понятие текстуальной графики. Так, один из наиболее авторитетных современных исследователей стихотворного дискурса М. Л. Гаспаров определяет поэзию как «речь, четко расчлененную на относительно короткие “ряды”, отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой» [Гаспаров, 1993: 5–6]. При этом ученый уточняет, что такое членение – как правило, интонационное – присутствует и в прозаическом тексте, однако в стихотворении оно общеобязательно задано и графически оформлено, что наделяет текст совершенно новым качеством: «Если мы воспринимаем прозу как бы в одном измерении, “горизонтальном”, то стих в двух – “горизонтальном” и “вертикальном”; это разом расширяет сеть связей, в которые вступает каждое слово, и тем повышает смысловую емкость стиха» [Там же: 8]. Подчеркнем, что метр и рифма при этом понимаются отнюдь не как дифференциальные признаки, но лишь как средства усиления названной двухмерности.
Такая точка зрения находит отклик в целом ряде других исследований, см., например, [Куцый, 1981; Дарк, 1995; Штайн, 1995; Степанов, 1999; Федотов, 2002; Степанов, 2004] и др. О. И. Федотов, например, полагает, что графическая сегментация стихотворного текста на стихи и, далее, строфы служит «особого рода сигналом установки на стих», таким образом настраивая читателя на определенную внетекстовую структуру и историко-культурную традицию [Федотов, 2002а: 38]. В связи с этим предлагается следующее определение: «Стих – особая разновидность поэтической речи, главным определяющим признаком которой является упорядоченное чередование закономерно повторяющихся (возвращающихся) обособленных речевых звеньев (стиховых рядов)» [Федотов, 2002а: 12–13].
К мнению о том, что графику текста можно относить к дифференциальным признакам, отличающим поэзию от прозы, «как и поэзию от непоэзии вообще», присоединяется и С. Г. Николаев [Николаев, 2006: 99].
Обратим внимание и на то, что параметр графического оформления может быть взят за основу при определении стихотворного текста, как это предлагает в одной из своих работ И. В. Арнольд: «Стихи – это текст, полностью или частично повторяющий ту же графическую фигуру, которая на звуковом уровне соответствует повторению той же фонетической фигуры» [Арнольд, 1973а: 15].
Тем не менее совершенно очевидно, что определение стихотворного текста, основанное исключительно на его формальных характеристиках, не может считаться полным и адекватным. Необходимо принять во внимание сущностные особенности концептуального уровня текста. Так, по мнению А. Г. Степанова, стихотворная речь отличается от прозаической полным объемом означающего, где все его признаки представлены как значимые, актуальные [Степанов, 2007: 211]. Другой важнейшей особенностью выступает эстетическая компонента, без которой – даже при наличии всех перечисленных облигаторных и факультативных признаков конструктивного уровня – текст неизбежно теряет статус художественного (ср.: «…единственной функцией, которая будет присутствовать в художественном тексте всегда, остается функция эстетическая, поскольку только она обладает свойством систематизирующего начала в отношении и содержания, и формы литературного произведения» [Николаев, 2004: 51]).
Все сказанное выше объединено в формулировке, предложенной С. Г. Николаевым: стихотворный текст – это «произведение литературного искусства, созданное в соответствии со всеми известными законами языка, характеризуемое наличием незамкнутого ряда сущностных формальных признаков, важнейшими из которых, хотя и не облигаторными, являются ритм и рифма, в котором эстетическая функция выступает как доминирующая, а коммуникативная на ее фоне заметно ослаблена» [Николаев, 2004: 51]. Именно это определение, в котором учтены все генеральные особенности стихотворного текста, представляется нам на сегодняшний день наиболее адекватным. Что, впрочем, никак не мешает нам дополнить его упомянутым ранее особым графическим обликом стихотворного текста как одним из его сущностных дифференциальных признаков.
Нами уже отмечалось, что немаловажной характеристикой любого текста является его коммуникативная направленность. Эта мысль развивается и обосновывается еще в философской герменевтике, рассматривающей язык и текст с позиций их онтологической значимости: только при наличии реципиента язык может осуществить свою главную, назывательную, функцию. «Текст представляет собой <…> фазу в процессе установления взаимопонимания», – отмечает Г.-Г. Гадамер [Гадамер, 1999: 211–212]. Это утверждение поддерживают и представители современной лингвистики – с той лишь разницей, что коммуникативная функция текста сегодня может мыслиться не только как первостепенная (см., например, определение текста как системы речевых знаков, «воплощающей сопряженную модель коммуникативных деятельностей отправителя и получателя сообщений» [Сидоров, 1987б: 38–39], но и просто как одна из (пусть обязательных, но не ключевых) текстовых характеристик [Левин, 1998: 464]. Поэтому кажется логичным, что создание текста любой направленности, в том числе и текста стихотворного, связано с процессом смыслопорождения, вкладыванием в него определенного сообщения, рассчитанного на то, что рано или поздно – но в любом случае неизбежно – оно будет воспринято и интерпретировано получателем. Эта ассоциация активно изучается не только в контексте лингвистических исследований [Новиков, 1983; Лукин, 2005], но и с позиций дисциплин, находящихся на стыке наук, например, психолингвистики [Выготский, 1956; Лурия, 1979; Залевская, 1999].
Как справедливо отмечает М. М. Бахтин, текст как высказывание определяется двумя интегральными характеристиками: его замыслом (интенцией) и осуществлением замысла, причем взаимоотношения между ними и определяют характер текста [Бахтин, 1986: 298]. Номинация «авторский замысел» (ср. термины психолингвистики и коммуникативной лингвистики «коммуникативное намерение», «коммуникативная интенция») нередко употребляется для обозначения первой ступени творческого акта, предшествующей непосредственному порождению текста (см., например, [Крупчанов, 2003: 273–274]). Однако это утверждение представляется не вполне исчерпывающим, поскольку в процессе создания текста его замысел редко сохраняет свою изначальную сущность, меняясь в соответствии с дальнейшим ходом мысли автора, как и под влиянием выбранной/выбираемой (и также изменяемой в процессе творчества) формы произведения. «Всякое воплощение замысла всегда есть и его уточнение, а в большинстве случаев и его изменение», – отмечает Д. С. Лихачев [Лихачев, 1983: 581]. Подтверждение этой мысли находим и в более поздних исследованиях российских лингвистов. Ю. В. Казарин видит в дихотомии «поэтический замысел – поэтический результат» основное противоречие, в рамках которого рождается необходимая для создания стихотворного текста «поэтическая энергия» [Казарин, 2004: 18] (ср. сходное высказывание В. А. Лукина [Лукин, 2005: 284]).
С последним утверждением согласуются и выводы западных текстологов. Так, представитель французской генетической критики Д. Феррер убежден в том, что не генезис детерминирует текст, а сам текст является «жестким определителем» своего генезиса [Феррер, 1999: 230–231]. Говоря об обратной связи в процессе порождения текста, ученый образно характеризует данный феномен как «постоянное переписывание истории» текста им же самим [Там же: 233]. Особенно важным в нашем случае представляется последующее замечание Д. Феррера о том, что явление обратной связи по сути не противоречит остаточному явлению изначального контекста, но дополняет его, поскольку они проявляются друг через друга [Там же: 237].
Таким образом, в большинстве случаев взаимосвязь смысло- и текстопорождения выражается в том, что эти процессы, во-первых, взаимообусловлены и, во-вторых, протекают практически одновременно. С точки зрения лингвистики художественного текста эта взаимосвязь прослеживается в единстве его конструктивного и концептуального уровней (ср. «…реально форма и содержание нерасчленимы, ибо форма есть не что иное, как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии, а содержание есть <…> внутренний смысл данной формы» [Кожинов, 2003б: 1145]; «замысел существует только в динамике изменений, нестабильности, в поисках “наилучшей формы”» [Лукин, 2005: 265–266]).
Обратим внимание и на то, что чисто семиотической характеристикой текста является и его знаковость, см. [Лотман, 1992: 129]. В этом смысле он обладает той же дихотомической структурой, что и любой языковой знак в соответствии с учением Ф. де Соссюра [Соссюр, 1999: 68–70, 112–114].
Сказанное приобретает особую значимость при обращении к тексту стихотворному (см. [Якобсон, 1987: 81]). Сегодня большинство ученых сходятся на том, что такой текст, «возможно, как никакой другой художественный (текст. – С. Н.) – необходимо рассматривать одновременно и как единое целое, <…> и как сложную структуру, которая складывается из элементов, сравнимых с единицами языка, но обладающих своей неповторимой спецификой» [Николаев, 2004: 56].
Итак, «стихотворный текст есть целое» и «стихотворный текст есть структура» – вот два важнейших положения, в которых раскрывается глубинная сущность любого произведения поэтического искусства. Первое из них предполагает реализацию одной из базовых характеристик текста вообще – его цельности, выражаемой здесь в единстве конструктивного и концептуального уровней. Важна их неразрывность, взаимопроникновение, при которых форма не противопоставляется содержанию, не выступает его «подчиненной оболочкой», но мыслится как его естественное продолжение, неотъемлемая часть. При этом содержание данного текста может получить только данное материальное воплощение: форма становится понятием глубоко индивидуальным, индивидуализированным, а ее изменение ведет к изменению содержания. Более того: форма также понимается как один из факторов смыслопорождения, влияющий на формирование и воплощение авторского замысла. Все отмеченное указывает на то, что единство конструктивного и концептуального уровней в стихотворном тексте лежит в основе его порождения и восприятия. Уточним, что мы намерены употреблять термин «форма» как частное воплощение конструктивного уровня текста, сужая его значение до особенностей словесно-фразовой структуры, графической и ритмической организации текста (хотя приведенные замечания сохранят свою релевантность и при широком понимании формы, принятом в литературоведении: см., например, [Кожинов, 2003б: 1145–1148]).
В защиту мнения о том, что стихотворный текст следует рассматривать в ракурсе единства его конструктивного и концептуального уровней, высказываются многие авторитетные ученые. Так, по утверждению Ю. М. Лотмана, «стихотворение – сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые, являются обозначениями определенного содержания» [Лотман, 1999: 48]. На этой же мысли настаивает Е. Г. Эткинд: «В поэзии все без исключения оказывается содержанием. <…> Понимать поэзию значит <…> понимать форму, ставшую содержанием» [Эткинд, 2001: 43]. Об актуальности означенной проблемы свидетельствует и возникновение в первой половине XX в. понятия «содержательной формы» (а также функционально сходных с ним сложных концептов «оформленное содержание» и «формообразующая идеология»), в отечественном литературоведении разработанного и обоснованного М. М. Бахтиным [Бахтин, 1994: 304–321] (ср. также замечание В. Е. Холшевникова о том, что форма не просто органически связана с содержанием, а, «более того, форма содержательна» [Холшевников, 1983: 6], и наблюдение М. И. Шапира о «семантизации внешней формы» [Шапир, 2000: 19]). Некоторыми учеными высказывается мысль о том, что в поэзии форма, продиктованная традицией (имеются в виду устойчивые стихотворные формы – сонет, рондо и др.), не вступает в отношения взаимовлияния со смыслом поэтического произведения, а, напротив, «накладывается» на содержание [Эткинд, 1998: 58]. С таким утверждением трудно согласиться, поскольку формальные признаки любого стихотворного текста так или иначе обусловливают структуру его концептуального плана, в то время как смысл стихотворения корректирует его форму.
Положение о том, что любой, даже самый незначительный, на первый взгляд, компонент стихотворного текста функционально равноценен его содержательной составляющей, объясняется его повышенной информативностью, восполняющей сравнительно небольшой текстовый объем по числу инкорпорированных в него разноуровневых языковых единиц. Существенно и то, что нередко стихотворный текст на основании своих свойств – лаконичности, повышенной информативности и неразрывности конструктивного и концептуального уровней – метафорически приравнивается к сложному языковому знаку [Залевская, 2002: 63; Бабенко, Казарин, 2005: 12] и даже лингвистическому понятию единого слова [Потебня, 1990: 139–140; Лотман, 2001: 184].
Второе из ранее приведенных нами положений, согласно которому стихотворный тест следует рассматривать как сложную структуру, где каждый из элементов обладает функциональной значимостью, понимается учеными по-разному. Р. О. Якобсон писал: «Поэзия подчеркивает конститутивные элементы на всех уровнях языка, начиная с различительных признаков и кончая композицией текста в целом» [Якобсон, 1987: 81]. С развитием этого подхода к изучению стихотворного произведения связаны идеи А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова, обоснованные в рамках так называемой структурной поэтики, или поэтики выразительности, возникновение которой приходится на середину XX в. Представляя художественное произведение неким «техническим устройством», каждый из элементов которого «работает» на передачу смысла, эти ученые видели свою цель в изучении средств, техник, приемов, с помощью которых «совокупность “внешних знаков” приобретает способность заражать получателя этих знаков заданными чувствами, идеями и отношениями к действительности» [Жолковский, Щеглов, 1996: 12]. Центральными понятиями поэтики выразительности выступают концепты «тема» и «текст». Тема в данном случае воплощает в себе изначальный замысел произведения, его центральный инвариант, тогда как текст являет собой результат ее воплощения, один из вариантов реализации. Эти концепты образуют своего рода оппозицию на основе критерия выразительности: тема рассматривается здесь как нейтральный член оппозиции, текст же стилистически маркирован. Таким образом, А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов предлагают анализ любого литературного произведения, прежде всего стихотворного, основанный на понятии темы и на системе приемов выразительности. «В поэзии любой речевой элемент превращается в фигуру поэтической речи», – отмечает Роман Якобсон, соглашаясь с тем, что стихотворный текст по самой своей сути тяготеет к экспрессивности и строгой организации [Якобсон, 1975: 228].
Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина рассматривают этот вопрос в рамках экспрессивной стилистики, определяя экспрессию как «выразительно-изобразительные качества речи, отличающие ее от обычной (стилистически нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность» [Хазагеров, Ширина, 1994: 168], и предлагая развернутую классификацию средств усиления экспрессии на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях (подробнее об этом см.: [Хазагеров, 1992; Хазагеров, Ширина, 1994; Хазагеров и др., 1998] и др.). Заметим, что, хотя категории экспрессивной стилистики в равной мере относятся как к стихотворной, так и к прозаической речи, необходимо принять во внимание, что многие схемы и стилистические фигуры (в частности, фонетические фигуры и фигуры прибавления) зачастую выполняют в стихотворном тексте формообразующую функцию. Так, существует достаточное количество стихотворений, внутренняя организация которых основана на анафоре, эпифоре, кольце и параллелизме (фигуры прибавления), а также аллитерации и ассонансе (фонетические фигуры).
С несколько иных позиций рассматривает проблему экспрессивности Ю. М. Скребнев. Вводя понятие «позитивная стилистическая значимость» и противопоставляя ее «нейтральности» текста, он предлагает рассмотреть этот феномен в рамках известных языковых уровней – фонетического, морфемного, лексического и синтаксического. В основу понятия позитивной стилистической значимости текста ученый кладет понятие рекуррентности, регулярности языковых явлений, объясняя это его дефицитностью, относительно редкой встречаемостью, а следовательно, – способностью привлечь большее внимание реципиента: «Позитивная стилистическая значимость текста наблюдается в тех случаях, <…> когда имеют место отклонения от общего принципа нерегулярности (выделено нами. – С. Н.) текстовой структуры» [Скребнев, 1975: 82–83]. Так, на фонетическом уровне позитивно значимой считается ритмическая регулярность стихотворного текста; сюда же относятся аллитерация, ассонанс и, особенно, рифма. На морфемном и лексическом уровнях могут, соответственно, повторяться морфемы и отдельные слова, что также рассматривается как действенный стилистический прием. На синтаксическом уровне стилистически релевантной оказывается повторяемость структур (параллелизм), взаимовлияние смежных структур и повторяемость их последовательностей, регулярное чередование типов предложений и т. д. [Скребнев, 1975: 82–83].
В отличие от своих предшественников, Ю. В. Казарин предпринимает попытку сузить проблематику, рассматривая стихотворный текст с точки зрения его членения не на общеизвестные языковые уровни, а на так называемые уровни формы. Он говорит о «полиформальной структуре» стихотворения, т. е. наличии нескольких «форм» (иначе – формальных уровней) стихотворного текста, через взаимодействие которых автору удается достигнуть максимального смысловыражения. К ним относятся: а) графическая форма (строфика, фигурная графика), б) дискурсная форма (интонация, ритм), в) фонетическая форма (фоносмысловая организация текста), г) языковая форма (совокупность планов выражения единиц языка в стихотворном тексте) [Казарин, 2004: 18].
Таким образом, стихотворный текст, одновременно порождаемый и как единое целое, и как сложная, многоуровневая, «полиформальная» структура, всегда создается с расчетом на его дальнейшее восприятие, декодирование и интерпретацию. Вот почему необходимо отметить, что процесс порождения любого стихотворного текста неизбежно связан с выбором и применением различных средств и герменевтических техник текстопостроения, которые, взаимодействуя друг с другом, способствуют (или же, напротив, препятствуют) максимальному смысловыражению. (Заметим в скобках, что этот выбор часто обусловлен не только авторскими предпочтениями, прагматической установкой и коммуникативными целями, но и рядом литературно-эстетических и культурно-исторических факторов. В числе первых назовем жанр и традицию, в русле которых создается произведение. К числу вторых относятся особенности эпохи создания текста и, возможно, социальный статус самого автора). С одной из наиболее распространенных техник связаны понятия экспликации и импликации.
Дихотомия экспликация – импликация была впервые введена и разработана Ю. М. Скребневым в его трудах по стилистике и коллоквиалистике [Скребнев, 1958; Скребнев, 1985]. Вслед за этим ученым мы пониманием под экспликацией «использование и восприятие единиц языка как узуально избыточных при их соотнесении с узуально принятыми референтами», расширение плана выражения при сужении плана содержания. Импликация же, напротив, мыслится как «узуальная недостаточность используемых единиц языка», сужение плана выражения при расширении плана содержания (цитируется по: [Богин, 1969: 17]).
Сегодня можно говорить о двояком понимании дихотомии экспликация – импликация. С одной стороны, эти явления рассматриваются учеными в качестве одной из техник понимания текста, которая, следовательно, используется лишь при интерпретации сообщения, но не при его создании (на это указывает, в частности, Г. И. Богин, см. [Богин – Интернет]). С другой стороны, экспликация и импликация функционируют и как средства текстопостроения, сознательно применяемые автором для того, чтобы в дальнейшем обеспечить наиболее корректную, с его точки зрения, интерпретацию текста: [Макеева, 2000: 19–20; Колодина, 2002: 16] и др. По-видимому, не будет ошибкой принять к рассмотрению обе точки зрения: экспликация и импликация, безусловно, используются и отправителем, и получателем сообщения, однако стоит подчеркнуть, что далеко не всегда это происходит с их сторон сознательно. В процессе текстопорождения автор нередко действует интуитивно (что особенно характерно для применения импликации), неосознанно закладывая в произведение некие дополнительные, скрытые смыслы, которые обнаруживаются лишь позднее, уже при толковании текста. Вообще возможность разных трактовок одного художественного произведения объясняется именно тем, что любой художественный текст тяготеет к широкому использованию импликации (ср.: «…хороший художественный текст, в отличие от текста научной прозы, ориентирован на преобладание не экспликационности, а, наоборот, импликационности» [Богин – Интернет (a)]).
Применительно к тексту стихотворному можно также говорить об особой роли импликации при создании определенного (или усилении имеющегося) настроения, ощущения или эффекта. Так, например, в качестве импликативной формы сообщения может выступать выбранный размер, в звучании которого, в силу его ритмической природы или традиции, заложена та или иная смысловая компонента. Очевидно, что такая связь может восприниматься интуитивно, но она не может быть выявлена и обоснована без специальных стиховедческих знаний, а потому ее нельзя назвать эксплицитной (подробнее об этом см. [Гаспаров, 1999]). Напротив, неожиданные ритмические перебои и другие отступления от заданного размера становятся значимыми, маркируя данный текст по сравнению с его нейтральным, немаркированным вариантом.
Имплицитно осуществляется и один из важнейших этапов порождения стихотворного текста – размещение в его пространстве смысловых узлов, определение ключевых эпизодов. Отметим, что значимым здесь становится не только фактическое включение, но и взаимное позиционирование смысловых единиц в пространстве текста, расположение того или иного эпизода, который, в соответствии с авторской интенцией, может играть служебную (дополняющую, поясняющую) роль или же, напротив, занимать одну из «сильных позиций».
Термин «сильная позиция текста» был введен и обоснован И. В. Арнольд, впервые сформулировавшей идею значимого позиционирования высказывания в пространстве текста в рамках стилистики декодирования. «Смысл текста не является суммой смыслов составляющих его единиц, зависимость между ними значительно сложнее, и место тех или иных единиц в предложении влияет на их значение», – отмечает ученый [Арнольд, 1973б: 23], далее утверждая, что расположение любой единицы в тексте может рассматриваться в качестве его сильной или слабой позиции. Сильная позиция, которой в дальнейшем будет уделено намного больше внимания со стороны ученых, нежели слабой (см., в частности, [Москальчук, 2003: 38–49]), представляет собой один из типов выдвижения, понимаемого как «специфическая организация контекста, обеспечивающая выдвижение на первый план важнейших смыслов текста <…> как сложной конкретно-образной сущности» [Арнольд, 1973б: 24]. Среди основных функций выдвижения И. В. Арнольд называет установление иерархии смыслов, фокусирование внимания на самом важном, усиление эмоциональности и эстетического эффекта, а также обеспечение связности текста [Там же].
Элементы сильной позиции – а ключевыми из них мыслятся заглавие, эпиграф, начало и конец текста – выделяются на основании расположения в тексте и характера передаваемой информации, взаимоотношения с текстом, грамматической структуры, наличия или отсутствия аллюзий, сочетаемости с другими типами выдвижения и оформления границ [Арнольд, 1973б: 31]. Особо отметим такой фактор, как психология восприятия: так, например, заглавие и эпиграф, будучи визуально обособленными от основной части стихотворного текста, априорно, уже благодаря своей позиции сосредоточивают на себе повышенное внимание реципиента.
Оговоримся, что важную роль в тексто- и смыслопорождении играет не только деление текстового пространства на более и менее значимые эпизоды, но и возникающие между ними внутритекстовые корреляции. Последние зачастую составляют каркас текста и произведения в целом; нередко именно в характере этих связей скрыт ключ к пониманию произведения, «зашифрована» его генеральная идея и т. д. Более подробной теоретической разработке этого вопроса мы надеемся посвятить параграф 1.2.2 настоящего исследования.
1.1.3. Стихотворный текст как воспринимаемая структура. Семантическая составляющая конструктивного уровня
Общеизвестно, что минимальный отрезок речевой коммуникации как процесса передачи определенного сообщения, или «мысленного содержания» [Ахманова, 1966: 201], предполагает наличие по меньшей мере трех звеньев: отправителя, или продуцента сообщения; его получателя, или реципиента; а также самого сообщения как ключевого звена коммуникации [Якобсон, 1975: 198]. В том случае, когда роль передаваемого сообщения выполняет художественный текст, коммуникация не может быть сведена лишь к его порождению и восприятию: здесь имеет место двусторонняя и двунаправленная связь текста как с отправителем (процесс порождения), так и с получателем (процесс восприятия и интерпретации).
С одной стороны, даже после того как произведение формально завершено, процесс смыслопорождения нельзя считать завершенным. Текст всегда нуждается в дальнейшей интерпретации, поэтому далее вступает в финальную стадию акта коммуникации – стадию восприятия и толкования. Здесь происходит дополнительное смыслообразование, своеобразное «достраивание» смысла получателем сообщения. Таким образом, зафиксированный в графике текст, несмотря на всю свою кажущуюся статичность и завершенность, являет собой динамическую сущность и должен изучаться (и восприниматься) в развитии.
С другой же стороны, художественный текст представляется не пассивным объектом совершаемого с ним действия (толкования), но полноправным активным участником коммуникации. Он сам оказывает воздействие на сознание интерпретатора [Абрамов, 2006: 8]; более того, текст организует весь процесс коммуникации и управляет им, осуществляя «регулятивную функцию» [Сидоров, 1987а: 44].
На первый взгляд, высказанное выше утверждение об облигаторности толкования текста может показаться спорным. Известно, что определенные виды текстов изначально не предполагают наличия адресата (к ним относятся черновики, дневниковые записи и т. п.). И тем не менее процесс интерпретации не обязательно осуществляется неким вторым лицом, но в равной степени и самим создателем текста – с той лишь оговоркой, что теперь сам автор выступает в роли реципиента (обозначение поэтической коммуникации как «автокоммуникации» см. в работах: [Фатеева, 1995: 54; Масленникова, 2004: 10–11]).
Интерпретация как ключевое понятие и метод герменевтической науки получила неодинаковые трактовки в работах исследователей. Разница в понимании и дефинициях данного метода особенно очевидна в контексте сопоставления традиционной философской и современной филологической герменевтики, для которых характерны принципиально разные цели и способы применения интерпретативного метода. Несмотря на различия, неизменную основу трактовки данного понятия составляет следующее общее положение: интерпретация рассматривается как метод выявления смыслов (в том числе и скрытых), а также процесс применения этого метода, результатом которого является понимание [Рикёр, 2002: 44–45; Сулима, 1999; Абрамов, 2006: 11 и др.]. Сегодня в основе интерпретации лежит понятие рефлексии, причем вербализованная рефлексия и есть собственно интерпретация [Гадамер, 1988: 111; Богин – Интернет(а)].
Стадия восприятия и интерпретации представляет собой сложную взаимосвязь многочисленных факторов, определяющих понимание и толкование текста, начиная с личности самого интерпретатора и завершая широким контекстом создания произведения. В качестве первого из них исследователи традиционно выделяют фактор предпонимания, трактуемый как значимое знание и ориентировка интерпретатора в широком контексте сообщения, наличие предварительных установок в сознании реципиента. Для обозначения этого фактора в герменевтике употребляются разные термины. Так, М. Хайдеггер определяет предпонимание через единство трех понятий – «предвзятие», «предсмотрение» и «предрешение», которые складываются в «предрассуждение» толкователя [Хайдеггер, 2003: 177–178]; Г.-Г. Гадамер пользуется терминами «предмнение», «предпонимание», а также «предструктура понимания» [Гадамер, 1988: 317–364; Гадамер, 1999].
Характерно, что значимость фактора предпонимания признается и за пределами герменевтической науки. Так, сторонниками когнитивного подхода к пониманию текста были введены и обоснованы термины «когнитивные предпосылки» и «пресуппозиционные основания» модели понимания текста, которые в широком своем значении близки по смыслу к вышеназванным герменевтическим номинациям [Дейк ван, Кинч, 1988: 158–161]. Термин «пресуппозиция» также получил распространение в современной лингвистике и переводоведении, см. об этом [Падучева, 1990].
Предпонимание, по сути, составляющее первую, предварительную ступень интерпретации, тесно связано со следующим фактором восприятия и толкования художественного произведения – фактором контекста. Эта связь видится нам в присутствии в обоих случаях некоего дополнительного знания, которое берется толкователем не непосредственно из текста произведения, а из внешних по отношению к тексту источников (сходная мысль высказывается и в работах по эстетике, см., например, [Шопенгауэр, 1992: 465]).
Разница между предпониманием и знанием контекста заключается в следующем. Первое предполагает наличие обобщенного знания, некоторого жизненного опыта, помогающего понять и, возможно, применить к себе описываемую ситуацию. Знание контекста в отношении художественного произведения обладает литературной, культурно-эстетической и отчасти исторической спецификой. Наличие такого знания у интерпретатора хотя и может расцениваться как необязательное (на это указывает практика имманентного анализа в современной филологической науке), но в большинстве случаев содержит дополнительные «подсказки», а порой и необходимые ключи к адекватному толкованию текста. Особую роль контекст, как правило, играет для стихотворных произведений, которые зачастую могут быть правильно поняты только с привлечением дополнительной информации. А она в свою очередь делится на информацию: а) о творчестве автора изучаемого текста (узкий контекст), б) об истории и особенностях жанра данного произведения, в) о национальной традиции и г) о литературном направлении, в рамках которого работал автор (широкий контекст), и т. д. (ср. классификацию видов контекста в работе [Макеева, 2004: 48] и специфику контекста для поэтического произведения в статье [Абрамов, 2006: 4]).
Высокая значимость контекста отмечается в трудах по эстетике и философской герменевтике. Так, Ф. Шлейермахер указывает на то, что любое произведение искусства «укоренено в своей почве, в своем окружении» и неизбежно теряет свое значение в процессе имманентного восприятия (цит. по: [Гадамер, 1988: 217]). Сходную мысль видим в высказывании В. Дильтея о том, что смысл всякого поэтического произведения определяется «сознательностью поэта и его века», а способы организации текста в разных произведениях должны быть поняты как выражение не только индивидуальных, но и исторических различий в постижении жизни [Дильтей, 2001: 107]. В работах Г.-Г. Гадамера «реконструкция» смысла текста с учетом знания литературного и лингвистического контекста эпохи или творчества автора (имеются в виду особенности словоупотребления) понимается как одна из первостепенных задач герменевтики [Гадамер, 1988: 319].
Данная мысль находит отражение и в более поздних исследованиях. Так, в системе техник понимания текста, описанных в трудах по герменевтике Г. И. Богина, немаловажное место занимают жанроопределение и контекстная догадка (в данном случае имеются в виду более широкий и более узкий контексты соответственно): см. [Богин – Интернет; Богин – Интернет (а)]. На значимость и актуальность проблемы контекста указывает и то, что сегодня она активно разрабатывается в общефилологических исследованиях. Ю. М. Лотман в трудах по семиотике справедливо отмечает, что текст – это не только «генератор новых смыслов», но и «конденсатор культурной памяти», обладающий способностью сохранять память о своих предшествующих контекстах [Лотман, 2001: 162]. В связи с этим ученый вводит термин «внетекстовые связи», определяя его как отношение множества элементов, зафиксированных в тексте, к множеству элементов, из которого осуществляется выбор того или иного элемента [Лотман, 1998: 59]. Развивая ту же мысль, В. А. Миловидов указывает на необходимость разграничивать авторские и читательские внетекстовые структуры так же, как и авторский и читательский варианты прочтения текста [Миловидов, 1998: 11].
В работах Е. Г. Эткинда проводится четкая иерархия языковых и художественных контекстов стихотворного произведения, обозначаемая термином «лестница контекстов» [Эткинд, 2001: 64–66, 81]. Наконец, идея важности контекста косвенно отражена и в литературоведческих работах. Показательно в этом плане конвенционально принятое в науке понимание интерпретации как «толкования смысла произведения в определенной культурно-исторической ситуации его прочтения» [БЭС, 1997: 453].