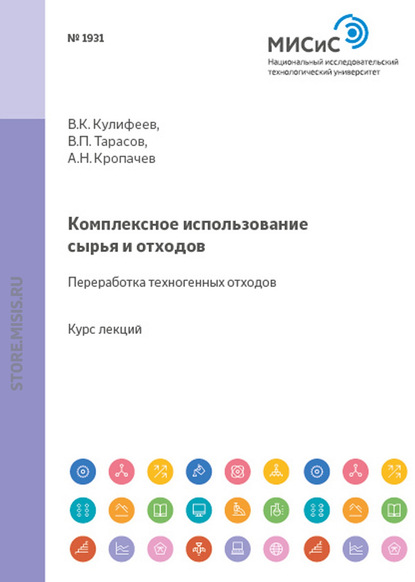По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Театральная улица: Воспоминания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Театральная улица: Воспоминания
Тамара Платоновна Карсавина
Воспоминания Тамары Карсавиной, одной из звезд легендарной труппы Сергея Дягилева, в составе которой были Нижинский и Павлова, стали признанной классикой литературы о балете. Детство, уроки танцев, годы обучения в Императорском балетном училище и последовавшие за ними триумфальные выступления в Мариинском, а затем в лучших театрах европейских столиц – все, что повлияло на становление величайшей балерины мира, отражено на этих страницах. Ярко и образно рассказывает балерина о своей жизни и замечательных людях, окружавших ее.
Тамара Карсавина
Театральная улица: Воспоминания
Предисловие
Я закончила писать эту книгу 20 августа 1929 года, в тот самый день, когда услышала о смерти Дягилева. Но я не стала менять ничего из написанного о нем: он остался на моих страницах живым, таким, каким я его знала. В этом исправленном издании я сделала то же самое, но добавила главу, где предприняла попытку внести некое единство в характеристику его личности, хотя описание отдельных его черт разбросано по всей книге, о некоторых же из них рассказывается впервые.
Эта глава не ставит целью стать краткой биографией или произвести психоанализ личности, это просто портрет в зеркале моей любви.
Т. К.
20 октября 1947
Часть первая
Воспитанница
Глава 1
Мои первые воспоминания. – «Толстая няня». – Моя мать. – Санкт-Петербург. – «Дуняша».
Отчасти из рассказов отца, отчасти из собственных воспоминаний я могу представить довольно последовательно историю своего детства, которая кажется мне теперь похожей на ряд картинок из азбуки.
Отец любил рассказывать мне о тех временах, когда я была совсем маленькой. В свободное время он садился у окна с альбомом и акварельными красками, я обычно пристраивалась рядом и смотрела, как он работает. И сейчас я вижу перед собой эти миниатюрные картинки с изображением различных национальных костюмов – испанских, венгерских, украинских, польских; на одной странице мужчина, на противоположной – женщина. Их одежды были выписаны чрезвычайно тщательно, но все лица, по моему мнению, отличались чересчур большими носами, а цвет лица дам казался слишком смуглым.
Отец никогда не отрывал глаз от своей работы, разыгрывая передо мной эпизоды моего раннего детства. Он прекращал рисовать только для того, чтобы промыть и обтереть кисточку. Эти картинки предназначались в помощь его ученикам, изучающим национальные танцы.
Мое первое воспоминание связано с тем, как няня поставила меня на ножки на тропинку у какого-то дома.
Сначала она направляла меня, поддерживая под мышки, потом отпустила. Я заковыляла довольно уверенно, но затем меня понесло вперед все быстрее и быстрее, так что я не успевала переступать ногами. Отец поймал меня вовремя.
Следующее воспоминание связано с Лиговом неподалеку от Петербурга. Дом, в котором мы жили, находился в парке поместья графа Позена. Мы приехали туда ранней весной. Я поправлялась после воспаления легких, и врач порекомендовал мне пить березовый сок. Сразу за домом простиралась лужайка, окруженная молодыми березками, еще не покрывшимися листвой. Мне нравилось наблюдать за тем, как добывали сок, обильно струившийся из надреза, сделанного в стволе. Обычно его собирали по утрам в глиняный кувшин. Сок имел сладкий терпковатый вкус.
О предшествовавшей этому болезни воспоминаний почти не сохранилось – помню только, как лежала на большом диване, превращенном в постель, с зеркальцем в руках и пускала им солнечных зайчиков по потолку и обоям. Меня пугало появление матери с холодным компрессом – она меняла их по нескольку раз в день. Позже она призналась мне, что и сама боялась подходить ко мне – так слабо и жалобно я плакала. Мои воспоминания об этом времени немного поблекли. Однако отдельные детали произвели на меня такое сильное впечатление и столь глубоко врезались в память, что даже сейчас не утратили очарования и остались по-прежнему яркими. Дом, в котором мы жили в Лигове, казался мне огромным и очень красивым, и вполне вероятно, мои детские воспоминания не обманывают меня – та большая комната со сводчатым потолком и нишами могла находиться только в большом загородном доме конца XVIII века.
Хотя дом очень отличался от нашей маленькой городской квартиры, это место казалось мне до странности знакомым. По какой-то необъяснимой причине мной овладели смутные разрозненные образы иной жизни, которой я никогда не видела и о которой ничего не слышала. Они не имели ни начала, ни конца – это были просто яркие, словно внезапные вспышки, картины, которые я не могла ни с чем связать. Одно особенно часто посещавшее меня видение казалось настолько живым, что походило на воспоминание, и я часто ломала себе голову над тем, что бы оно могло означать. Представьте себе тихий пруд правильной формы. Я, совсем маленькая девочка, и какая-то женщина, по-видимому моя мать, выходим из экипажа. Она держит меня за руку, мы огибаем пруд и направляемся к большому дому с гладким фасадом и множеством окон.
Я передвигаюсь с трудом – тропинка посыпана гравием, и мне тяжело идти по ней на высоких каблуках. На мне не мое повседневное платье, а пышное, тяжелое и жесткое. Я ощущаю робость, как всегда, когда меня везут куда-то с визитом. На этом видение обрывается, а меня так мучает невозможность узнать, кого же мы собирались посетить, что я задаю матери бесчисленное множество вопросов по этому поводу. Моя история, похоже, позабавила ее, но ни тогда, ни после она не попыталась найти правдоподобного объяснения этому видению.
Не знаю, велик ли был участок земли вокруг дома. Похоже, поместье приходило в упадок. Не помню, были ли там клумбы. Парк был тенистый, с неподстриженными деревьями. Неподалеку от дома стоял павильон с минаретами, который называли турецкой баней, одна из затей русского maison de plaisance[1 - Загородный дом (фр.).] своего времени. Отец говорил мне, что мы провели там только одно лето и больше не возвращались, так как там было слишком сыро. Искусственный пруд перед домом порос зеленой звездообразной травой. Павильон стоял пустой, и нам с братом позволяли там играть. Нам доставляло огромное удовольствие смотреть через разноцветные стеклышки высоких мавританских окон – при солнечном свете внешний мир казался ярким и светящимся – красным, зеленым, желтым, нереальным и чрезвычайно привлекательным.
В жаркие дни няня часто водила моего брата купаться. Он был на два года старше меня. Мы шли по берегу мелкой быстрой речушки до того места, где она образовывала маленький пруд с чистой водой. Мне купаться не разрешали, и няня переносила меня на плечах на большой камень, поднимавшийся из воды. Там я и сидела, пока они купались. Держась за руки, они прыгали, погружаясь в воду и выскакивая, как лягушки. Няня напевала: «Ладушки, ладушки, где были?» – «У бабушки» – одну из детских песенок, которых знала множество.
Няне, «толстой няне», как мы называли ее, было запрещено пугать нас. Но для простой крестьянской девушки, исполненной предрассудков, подобное требование оказалось невыполнимым. Из множества причудливых существ, созданных воображением русского народа, обладающих рогами, копытами и хвостами, она выбрала некоего «буку», к помощи которого прибегала в тех случаях, когда ее собственного авторитета оказывалось недостаточно. Бука уносил непослушных детей. Он прятался где-то поблизости и дожидался того момента, когда ребенок откажется идти спать. Непонятно, что это за существо, возможно, своего рода черт, который мог послужить целям воспитания детей. Я попыталась расспрашивать о нем отца, и он не стал отрицать существования буки. Но в его описаниях бука выглядел совершенно не страшным, пожалуй, просто озорным, но довольно дружелюбным существом, которое легко можно было умиротворить. По-видимому, он был покрыт шерстью и имел хвост, в общем, напоминал собаку.
В то время я побаивалась матери. Когда я была совсем маленькой, со мной случались столь сильные припадки плача, что я задыхалась и лицо у меня синело. Это обычно происходило по утрам во время одевания. Услышав мои крики, мама приказывала принести меня к себе, и няня неохотно подчинялась. Обмакнув губку в холодную воду, мама выжимала ее на мое голое тельце. Впоследствии она рассказывала, что я немедленно замолкала, не успев даже закрыть рта.
Мама часто говорила, что испытывает к детям «разумную» любовь. Я помню ее порой суровой, но шутливой или нежной – никогда, она умела подавлять мои порывы, и это делало меня вдвойне застенчивой, а порой толкало на детский бунт против нее. Однако со временем я поняла, что ради нас она готова пойти на любую жертву, и в глубине души восхищалась и гордилась ею. Мне очень нравилось смотреть, как она одевается, готовясь куда-нибудь пойти. У нее была чрезвычайно тонкая талия и очень маленькие ножки, которыми она гордилась. Я строила честолюбивые планы относительно нее и часто повторяла: «Когда вырасту, построю для мамы огромный дом», а обидевшись, пряталась под кровать или под стол и угрожала оттуда: «Не построю тебе дома». Но спокойный ответ матери: «А кому нужен твой дом?» – тотчас же приводил меня в чувство, словно еще один холодный душ.
Наказывали нас достаточно мягко. «Носом в угол» – считалось более унизительным, чем просто «в угол, лицом к комнате». Брат Лева обычно смягчал наказание чистосердечным раскаянием, но меня ничто не могло подвигнуть на подобное. Только ласковые слова отца могли заставить меня раскаяться. Он часто брал меня за руку и приводил к матери просить прощения. Выговоры, даже заслуженные, глубоко ранили меня. В отличие от большинства детей я никогда не давала волю слезам в присутствии других людей. Если же у меня возникала надежда склонить чашу весов правосудия в свою сторону, я предупреждала тихим дрожащим голосом: «Я заплачу». Когда мать отвечала: «Ну и плачь, если хочешь», я бежала в дальнюю комнату и рыдала там под кроватью или за мамиными юбками в шкафу. Впоследствии я смеялась, когда отец разыгрывал передо мной подобные сцены, но тогда воспринимала их как настоящую трагедию.
В Санкт-Петербурге мы жили на верхнем этаже пятиэтажного дома, принадлежавшего вдове богатого купца. Все деловые отношения с домовладелицей носили патриархальный характер. Жилищных агентов тогда не существовало. Раз в год мать ходила к хозяйке и возвращалась с радостной новостью, что срок аренды продляется еще на год и квартирная плата остается прежней. Плата четыре фунта в месяц кажется сейчас невероятно низкой, но в те времена такова была обычная цена довольно большой пяти-шести-комнатной квартиры. Позже, когда наше материальное положение ухудшилось, домовладелица переселила нас в более дешевую квартиру в другом крыле здания, почти не отличавшемся от нашего – только у парадного входа не было швейцара в ливрее.
Дом стоял на берегу канала[2 - По сведениям петербургских краеведов, Карсавины жили на набережной Екатерининского канала, д. 170.], там, где тот делает изгиб и впадает в Фонтанку. На этом тихом участке нашей улицы почти не было движения. Окна парадных комнат выходили на канал, летом заполненный баржами, перевозившими лес; зимой он замерзал и мы переходили его по льду, сокращая дорогу на другую сторону. Для нас, детей, главным достоинством этой квартиры была возможность наблюдать за стоявшей напротив каланчой пожарной станции, где постоянно дежурил часовой. А какое прекрасное зрелище представляли собой пожарные в форме, в медных касках, когда по сигналу тревоги проносились по улице под звуки рожка на четверке лошадей, мчащейся галопом. У нас просто дух захватывало при виде этой безумной скачки.
Для русского человека огонь имеет какую-то непреодолимую притягательную силу. Стремление бежать смотреть на пожар – характерная черта российской жизни. Не только простой народ, но даже чиновники, наэлектризованные словом «пожар», спешно покидали рабочие места и мчались к месту происшествия.
Пожарные были героями детворы и самыми лучшими кавалерами для кухарок. Обычное условие, которое ставила повариха, нанимаясь на работу, чтобы «куму пожарному» дозволялось ее навещать. Часто работодатель первым поднимал этот вопрос и спрашивал, часто ли на кухне будет присутствовать пожарный.
Когда мне было лет пять, «толстую няню» рассчитали и снова взяли Дуняшу, мою бывшую кормилицу. Не знаю, по какой причине ее уволили прежде, но с тех пор, как Дуняша вернулась, она нас уже больше не покидала. Со временем она стала горничной, а затем единственной прислугой, делившей с нашей семьей все радости и беды.
В период выпавшей на ее долю немилости она часто приходила навестить меня, иногда домой, но чаще встречалась со мной во время прогулки, всегда приносила мне сладости или маленькие игрушечки, а прощаясь со мной, рыдала. Она вообще легко плакала, и мама порой называла ее притворщицей, но я не согласна с ней. Дуняша испытывала неудержимую жалость ко всем живым созданиям, попавшим в беду, и меня научила этому.
Она была высокой и худой; и в те времена, когда в доме держали двух нянь – ее и няню моего брата, Дуняшу стали называть «длинной няней». И это имя осталось за ней навсегда. Несомненным украшением Дуняши были ее волосы, необычайно длинные и густые. Она щедро поливала голову керосином, смешанным с лампадным маслом, и утверждала, будто именно благодаря этому волосы у нее такие густые. Дуняшу беспокоило, что мои волосы плохо растут, и она стала втирать керосин и мне в голову. Он издавал отвратительный запах, и мама положила конец подобной практике.
– Глупости, – отрезала она в ответ на мою просьбу продолжить втирать керосин, который, как я надеялась, поможет мне отрастить такие же волосы, как у Дуняши. – Имей хорошую голову на плечах, а волосы вырастут сами собой.
Все свое имущество Дуняша аккуратно складывала в большой деревянный сундук. Снаружи он был украшен узорами из узких белых полосок кованого железа, напоминающими муаровый шелк. Я всегда пользовалась возможностью заглянуть к ней в сундук, когда она его открывала. Изнутри крышка была заклеена картинками, вырезанными из иллюстрированных юмористических журналов. Дуняша позволяла мне их рассматривать, но не любила, когда я рылась в ее вещах.
Глава 2
Отец. – Мариус Петипа. – Наша жизнь. – Безобидный сумасшедший. – «Амелия». – Ужасный сон.
В то время мой отец занимал положение первого танцовщика и исполнителя мимических ролей в балете. Согласно правилам, после двадцати лет службы он должен был выйти на пенсию. Срок службы исчислялся начиная с шестнадцати лет, хотя в этом возрасте танцовщик еще обучался в школе. Двадцатилетний срок службы отца приближался к концу, и они с матерью постоянно предавались размышлениям и беседам о том, не продлят ли отцу срок службы. Насколько я поняла из этих разговоров, отец находился в полном расцвете сил и оставался прекрасным танцовщиком, но против него плелись какие-то интриги. Часто упоминалось имя всесильного Мариуса Петипа.
Петипа был великим балетмейстером, французом по происхождению. Он так и не выучил русского языка, хотя приехал в Санкт-Петербург совсем молодым и оставался на службе в театре до самой смерти. Возможно, отец не всегда сохранял беспристрастие, но из его слов у меня создалось впечатление, что актеры скорее боялись Петипа, нежели любили. Он обладал почти безграничным влиянием на директора Всеволожского и делал la pluie et le beau temps[3 - Погода (фр.).] в театре. В мое время каждый имел доступ к директору, обычно принимавшему посетителей два раза в неделю. Любой актер мог прийти к нему и излить свои горести. Но Всеволожский никогда или, по крайней мере, очень редко принимал актеров. Только Петипа пользовался его благосклонным вниманием.
Мой отец был учеником Петипа, а какое-то время даже его любимцем. Что испортило их отношения, я не знаю. Отец обладал большим талантом к имитации. Он всегда отмечал, что Петипа талантливый хореограф, одаренный богатым воображением, и замечательный педагог, но далеко не блестящий танцор. И отец часто высмеивал его танец и исполнительскую манеру, используя весь арсенал ложного пафоса: дрожащие колени, блуждающий взгляд, зубовный скрежет и топот ног. Мы, дети, постоянно просили отца исполнить сцену из «Фауста», как ее играл Петипа. Но мама обычно говорила:
– Лучше бы ты, Платон, держал язык за зубами; твои добрые друзья и веселые собутыльники с радостью донесут о твоих насмешках.
Отец обычно уходил из дому рано утром. Мы все пили на завтрак чай со сдобными булочками или сухариками, но он никогда ничего не ел, только выпивал три или четыре стакана чаю. Второй завтрак – вещь невозможная в балетном мире: вслед за уроками обычно идут репетиции, так что отец возвращался после репетиций голодный как волк. Иногда он приходил в три, а иногда и в четыре часа дня и требовал, чтобы к его приходу супница уже стояла на столе. Было очень трудно приготовить обед точно к его возвращению, поскольку приходил он в разное время, но малейшая задержка ужасно раздражала его, хотя по природе был довольно спокойным и невозмутимым. Но в этом случае он не желал слушать никаких объяснений и нетерпеливо ворчал: «Полная кухня женщин, а голодный мужчина не может пообедать».
Подлинной страстью отца был чай. У него под рукой постоянно стоял стакан чаю, и он пил его целый день. Закончив один стакан, тут же кричал:
– Женщины, чаю!
Иногда мать пользовалась маленьким колокольчиком, но обычно, когда что-то было нужно, мы или окликали служанку, или шли на кухню, чтобы ее позвать. Впоследствии отец модернизировал свое хозяйство и купил спиртовку. Он переносил ее за собой из одной комнаты в другую, и это давало ему возможность постоянно иметь горячий чай, даже когда самовар не был растоплен.
После завтрака нас отправляли на прогулку. На одевание уходило много времени, и я часто теряла терпение, если была готова первой и приходилось ждать, пока оденут Леву. Зимой перед выходом на улицу мне надевали под платье красную фланелевую нижнюю юбку и панталоны, а на ноги валенки. Поверх ватного капора повязывали шаль, концы которой заправляли под пальто; в особенно холодные дни шалью прикрывали рот. Шаль так туго затягивали, что я не могла повернуть голову и часто жаловалась:
– Няня, ты меня задушишь.
Если я протестовала слишком громко, из соседней комнаты слышался голос матери:
Тамара Платоновна Карсавина
Воспоминания Тамары Карсавиной, одной из звезд легендарной труппы Сергея Дягилева, в составе которой были Нижинский и Павлова, стали признанной классикой литературы о балете. Детство, уроки танцев, годы обучения в Императорском балетном училище и последовавшие за ними триумфальные выступления в Мариинском, а затем в лучших театрах европейских столиц – все, что повлияло на становление величайшей балерины мира, отражено на этих страницах. Ярко и образно рассказывает балерина о своей жизни и замечательных людях, окружавших ее.
Тамара Карсавина
Театральная улица: Воспоминания
Предисловие
Я закончила писать эту книгу 20 августа 1929 года, в тот самый день, когда услышала о смерти Дягилева. Но я не стала менять ничего из написанного о нем: он остался на моих страницах живым, таким, каким я его знала. В этом исправленном издании я сделала то же самое, но добавила главу, где предприняла попытку внести некое единство в характеристику его личности, хотя описание отдельных его черт разбросано по всей книге, о некоторых же из них рассказывается впервые.
Эта глава не ставит целью стать краткой биографией или произвести психоанализ личности, это просто портрет в зеркале моей любви.
Т. К.
20 октября 1947
Часть первая
Воспитанница
Глава 1
Мои первые воспоминания. – «Толстая няня». – Моя мать. – Санкт-Петербург. – «Дуняша».
Отчасти из рассказов отца, отчасти из собственных воспоминаний я могу представить довольно последовательно историю своего детства, которая кажется мне теперь похожей на ряд картинок из азбуки.
Отец любил рассказывать мне о тех временах, когда я была совсем маленькой. В свободное время он садился у окна с альбомом и акварельными красками, я обычно пристраивалась рядом и смотрела, как он работает. И сейчас я вижу перед собой эти миниатюрные картинки с изображением различных национальных костюмов – испанских, венгерских, украинских, польских; на одной странице мужчина, на противоположной – женщина. Их одежды были выписаны чрезвычайно тщательно, но все лица, по моему мнению, отличались чересчур большими носами, а цвет лица дам казался слишком смуглым.
Отец никогда не отрывал глаз от своей работы, разыгрывая передо мной эпизоды моего раннего детства. Он прекращал рисовать только для того, чтобы промыть и обтереть кисточку. Эти картинки предназначались в помощь его ученикам, изучающим национальные танцы.
Мое первое воспоминание связано с тем, как няня поставила меня на ножки на тропинку у какого-то дома.
Сначала она направляла меня, поддерживая под мышки, потом отпустила. Я заковыляла довольно уверенно, но затем меня понесло вперед все быстрее и быстрее, так что я не успевала переступать ногами. Отец поймал меня вовремя.
Следующее воспоминание связано с Лиговом неподалеку от Петербурга. Дом, в котором мы жили, находился в парке поместья графа Позена. Мы приехали туда ранней весной. Я поправлялась после воспаления легких, и врач порекомендовал мне пить березовый сок. Сразу за домом простиралась лужайка, окруженная молодыми березками, еще не покрывшимися листвой. Мне нравилось наблюдать за тем, как добывали сок, обильно струившийся из надреза, сделанного в стволе. Обычно его собирали по утрам в глиняный кувшин. Сок имел сладкий терпковатый вкус.
О предшествовавшей этому болезни воспоминаний почти не сохранилось – помню только, как лежала на большом диване, превращенном в постель, с зеркальцем в руках и пускала им солнечных зайчиков по потолку и обоям. Меня пугало появление матери с холодным компрессом – она меняла их по нескольку раз в день. Позже она призналась мне, что и сама боялась подходить ко мне – так слабо и жалобно я плакала. Мои воспоминания об этом времени немного поблекли. Однако отдельные детали произвели на меня такое сильное впечатление и столь глубоко врезались в память, что даже сейчас не утратили очарования и остались по-прежнему яркими. Дом, в котором мы жили в Лигове, казался мне огромным и очень красивым, и вполне вероятно, мои детские воспоминания не обманывают меня – та большая комната со сводчатым потолком и нишами могла находиться только в большом загородном доме конца XVIII века.
Хотя дом очень отличался от нашей маленькой городской квартиры, это место казалось мне до странности знакомым. По какой-то необъяснимой причине мной овладели смутные разрозненные образы иной жизни, которой я никогда не видела и о которой ничего не слышала. Они не имели ни начала, ни конца – это были просто яркие, словно внезапные вспышки, картины, которые я не могла ни с чем связать. Одно особенно часто посещавшее меня видение казалось настолько живым, что походило на воспоминание, и я часто ломала себе голову над тем, что бы оно могло означать. Представьте себе тихий пруд правильной формы. Я, совсем маленькая девочка, и какая-то женщина, по-видимому моя мать, выходим из экипажа. Она держит меня за руку, мы огибаем пруд и направляемся к большому дому с гладким фасадом и множеством окон.
Я передвигаюсь с трудом – тропинка посыпана гравием, и мне тяжело идти по ней на высоких каблуках. На мне не мое повседневное платье, а пышное, тяжелое и жесткое. Я ощущаю робость, как всегда, когда меня везут куда-то с визитом. На этом видение обрывается, а меня так мучает невозможность узнать, кого же мы собирались посетить, что я задаю матери бесчисленное множество вопросов по этому поводу. Моя история, похоже, позабавила ее, но ни тогда, ни после она не попыталась найти правдоподобного объяснения этому видению.
Не знаю, велик ли был участок земли вокруг дома. Похоже, поместье приходило в упадок. Не помню, были ли там клумбы. Парк был тенистый, с неподстриженными деревьями. Неподалеку от дома стоял павильон с минаретами, который называли турецкой баней, одна из затей русского maison de plaisance[1 - Загородный дом (фр.).] своего времени. Отец говорил мне, что мы провели там только одно лето и больше не возвращались, так как там было слишком сыро. Искусственный пруд перед домом порос зеленой звездообразной травой. Павильон стоял пустой, и нам с братом позволяли там играть. Нам доставляло огромное удовольствие смотреть через разноцветные стеклышки высоких мавританских окон – при солнечном свете внешний мир казался ярким и светящимся – красным, зеленым, желтым, нереальным и чрезвычайно привлекательным.
В жаркие дни няня часто водила моего брата купаться. Он был на два года старше меня. Мы шли по берегу мелкой быстрой речушки до того места, где она образовывала маленький пруд с чистой водой. Мне купаться не разрешали, и няня переносила меня на плечах на большой камень, поднимавшийся из воды. Там я и сидела, пока они купались. Держась за руки, они прыгали, погружаясь в воду и выскакивая, как лягушки. Няня напевала: «Ладушки, ладушки, где были?» – «У бабушки» – одну из детских песенок, которых знала множество.
Няне, «толстой няне», как мы называли ее, было запрещено пугать нас. Но для простой крестьянской девушки, исполненной предрассудков, подобное требование оказалось невыполнимым. Из множества причудливых существ, созданных воображением русского народа, обладающих рогами, копытами и хвостами, она выбрала некоего «буку», к помощи которого прибегала в тех случаях, когда ее собственного авторитета оказывалось недостаточно. Бука уносил непослушных детей. Он прятался где-то поблизости и дожидался того момента, когда ребенок откажется идти спать. Непонятно, что это за существо, возможно, своего рода черт, который мог послужить целям воспитания детей. Я попыталась расспрашивать о нем отца, и он не стал отрицать существования буки. Но в его описаниях бука выглядел совершенно не страшным, пожалуй, просто озорным, но довольно дружелюбным существом, которое легко можно было умиротворить. По-видимому, он был покрыт шерстью и имел хвост, в общем, напоминал собаку.
В то время я побаивалась матери. Когда я была совсем маленькой, со мной случались столь сильные припадки плача, что я задыхалась и лицо у меня синело. Это обычно происходило по утрам во время одевания. Услышав мои крики, мама приказывала принести меня к себе, и няня неохотно подчинялась. Обмакнув губку в холодную воду, мама выжимала ее на мое голое тельце. Впоследствии она рассказывала, что я немедленно замолкала, не успев даже закрыть рта.
Мама часто говорила, что испытывает к детям «разумную» любовь. Я помню ее порой суровой, но шутливой или нежной – никогда, она умела подавлять мои порывы, и это делало меня вдвойне застенчивой, а порой толкало на детский бунт против нее. Однако со временем я поняла, что ради нас она готова пойти на любую жертву, и в глубине души восхищалась и гордилась ею. Мне очень нравилось смотреть, как она одевается, готовясь куда-нибудь пойти. У нее была чрезвычайно тонкая талия и очень маленькие ножки, которыми она гордилась. Я строила честолюбивые планы относительно нее и часто повторяла: «Когда вырасту, построю для мамы огромный дом», а обидевшись, пряталась под кровать или под стол и угрожала оттуда: «Не построю тебе дома». Но спокойный ответ матери: «А кому нужен твой дом?» – тотчас же приводил меня в чувство, словно еще один холодный душ.
Наказывали нас достаточно мягко. «Носом в угол» – считалось более унизительным, чем просто «в угол, лицом к комнате». Брат Лева обычно смягчал наказание чистосердечным раскаянием, но меня ничто не могло подвигнуть на подобное. Только ласковые слова отца могли заставить меня раскаяться. Он часто брал меня за руку и приводил к матери просить прощения. Выговоры, даже заслуженные, глубоко ранили меня. В отличие от большинства детей я никогда не давала волю слезам в присутствии других людей. Если же у меня возникала надежда склонить чашу весов правосудия в свою сторону, я предупреждала тихим дрожащим голосом: «Я заплачу». Когда мать отвечала: «Ну и плачь, если хочешь», я бежала в дальнюю комнату и рыдала там под кроватью или за мамиными юбками в шкафу. Впоследствии я смеялась, когда отец разыгрывал передо мной подобные сцены, но тогда воспринимала их как настоящую трагедию.
В Санкт-Петербурге мы жили на верхнем этаже пятиэтажного дома, принадлежавшего вдове богатого купца. Все деловые отношения с домовладелицей носили патриархальный характер. Жилищных агентов тогда не существовало. Раз в год мать ходила к хозяйке и возвращалась с радостной новостью, что срок аренды продляется еще на год и квартирная плата остается прежней. Плата четыре фунта в месяц кажется сейчас невероятно низкой, но в те времена такова была обычная цена довольно большой пяти-шести-комнатной квартиры. Позже, когда наше материальное положение ухудшилось, домовладелица переселила нас в более дешевую квартиру в другом крыле здания, почти не отличавшемся от нашего – только у парадного входа не было швейцара в ливрее.
Дом стоял на берегу канала[2 - По сведениям петербургских краеведов, Карсавины жили на набережной Екатерининского канала, д. 170.], там, где тот делает изгиб и впадает в Фонтанку. На этом тихом участке нашей улицы почти не было движения. Окна парадных комнат выходили на канал, летом заполненный баржами, перевозившими лес; зимой он замерзал и мы переходили его по льду, сокращая дорогу на другую сторону. Для нас, детей, главным достоинством этой квартиры была возможность наблюдать за стоявшей напротив каланчой пожарной станции, где постоянно дежурил часовой. А какое прекрасное зрелище представляли собой пожарные в форме, в медных касках, когда по сигналу тревоги проносились по улице под звуки рожка на четверке лошадей, мчащейся галопом. У нас просто дух захватывало при виде этой безумной скачки.
Для русского человека огонь имеет какую-то непреодолимую притягательную силу. Стремление бежать смотреть на пожар – характерная черта российской жизни. Не только простой народ, но даже чиновники, наэлектризованные словом «пожар», спешно покидали рабочие места и мчались к месту происшествия.
Пожарные были героями детворы и самыми лучшими кавалерами для кухарок. Обычное условие, которое ставила повариха, нанимаясь на работу, чтобы «куму пожарному» дозволялось ее навещать. Часто работодатель первым поднимал этот вопрос и спрашивал, часто ли на кухне будет присутствовать пожарный.
Когда мне было лет пять, «толстую няню» рассчитали и снова взяли Дуняшу, мою бывшую кормилицу. Не знаю, по какой причине ее уволили прежде, но с тех пор, как Дуняша вернулась, она нас уже больше не покидала. Со временем она стала горничной, а затем единственной прислугой, делившей с нашей семьей все радости и беды.
В период выпавшей на ее долю немилости она часто приходила навестить меня, иногда домой, но чаще встречалась со мной во время прогулки, всегда приносила мне сладости или маленькие игрушечки, а прощаясь со мной, рыдала. Она вообще легко плакала, и мама порой называла ее притворщицей, но я не согласна с ней. Дуняша испытывала неудержимую жалость ко всем живым созданиям, попавшим в беду, и меня научила этому.
Она была высокой и худой; и в те времена, когда в доме держали двух нянь – ее и няню моего брата, Дуняшу стали называть «длинной няней». И это имя осталось за ней навсегда. Несомненным украшением Дуняши были ее волосы, необычайно длинные и густые. Она щедро поливала голову керосином, смешанным с лампадным маслом, и утверждала, будто именно благодаря этому волосы у нее такие густые. Дуняшу беспокоило, что мои волосы плохо растут, и она стала втирать керосин и мне в голову. Он издавал отвратительный запах, и мама положила конец подобной практике.
– Глупости, – отрезала она в ответ на мою просьбу продолжить втирать керосин, который, как я надеялась, поможет мне отрастить такие же волосы, как у Дуняши. – Имей хорошую голову на плечах, а волосы вырастут сами собой.
Все свое имущество Дуняша аккуратно складывала в большой деревянный сундук. Снаружи он был украшен узорами из узких белых полосок кованого железа, напоминающими муаровый шелк. Я всегда пользовалась возможностью заглянуть к ней в сундук, когда она его открывала. Изнутри крышка была заклеена картинками, вырезанными из иллюстрированных юмористических журналов. Дуняша позволяла мне их рассматривать, но не любила, когда я рылась в ее вещах.
Глава 2
Отец. – Мариус Петипа. – Наша жизнь. – Безобидный сумасшедший. – «Амелия». – Ужасный сон.
В то время мой отец занимал положение первого танцовщика и исполнителя мимических ролей в балете. Согласно правилам, после двадцати лет службы он должен был выйти на пенсию. Срок службы исчислялся начиная с шестнадцати лет, хотя в этом возрасте танцовщик еще обучался в школе. Двадцатилетний срок службы отца приближался к концу, и они с матерью постоянно предавались размышлениям и беседам о том, не продлят ли отцу срок службы. Насколько я поняла из этих разговоров, отец находился в полном расцвете сил и оставался прекрасным танцовщиком, но против него плелись какие-то интриги. Часто упоминалось имя всесильного Мариуса Петипа.
Петипа был великим балетмейстером, французом по происхождению. Он так и не выучил русского языка, хотя приехал в Санкт-Петербург совсем молодым и оставался на службе в театре до самой смерти. Возможно, отец не всегда сохранял беспристрастие, но из его слов у меня создалось впечатление, что актеры скорее боялись Петипа, нежели любили. Он обладал почти безграничным влиянием на директора Всеволожского и делал la pluie et le beau temps[3 - Погода (фр.).] в театре. В мое время каждый имел доступ к директору, обычно принимавшему посетителей два раза в неделю. Любой актер мог прийти к нему и излить свои горести. Но Всеволожский никогда или, по крайней мере, очень редко принимал актеров. Только Петипа пользовался его благосклонным вниманием.
Мой отец был учеником Петипа, а какое-то время даже его любимцем. Что испортило их отношения, я не знаю. Отец обладал большим талантом к имитации. Он всегда отмечал, что Петипа талантливый хореограф, одаренный богатым воображением, и замечательный педагог, но далеко не блестящий танцор. И отец часто высмеивал его танец и исполнительскую манеру, используя весь арсенал ложного пафоса: дрожащие колени, блуждающий взгляд, зубовный скрежет и топот ног. Мы, дети, постоянно просили отца исполнить сцену из «Фауста», как ее играл Петипа. Но мама обычно говорила:
– Лучше бы ты, Платон, держал язык за зубами; твои добрые друзья и веселые собутыльники с радостью донесут о твоих насмешках.
Отец обычно уходил из дому рано утром. Мы все пили на завтрак чай со сдобными булочками или сухариками, но он никогда ничего не ел, только выпивал три или четыре стакана чаю. Второй завтрак – вещь невозможная в балетном мире: вслед за уроками обычно идут репетиции, так что отец возвращался после репетиций голодный как волк. Иногда он приходил в три, а иногда и в четыре часа дня и требовал, чтобы к его приходу супница уже стояла на столе. Было очень трудно приготовить обед точно к его возвращению, поскольку приходил он в разное время, но малейшая задержка ужасно раздражала его, хотя по природе был довольно спокойным и невозмутимым. Но в этом случае он не желал слушать никаких объяснений и нетерпеливо ворчал: «Полная кухня женщин, а голодный мужчина не может пообедать».
Подлинной страстью отца был чай. У него под рукой постоянно стоял стакан чаю, и он пил его целый день. Закончив один стакан, тут же кричал:
– Женщины, чаю!
Иногда мать пользовалась маленьким колокольчиком, но обычно, когда что-то было нужно, мы или окликали служанку, или шли на кухню, чтобы ее позвать. Впоследствии отец модернизировал свое хозяйство и купил спиртовку. Он переносил ее за собой из одной комнаты в другую, и это давало ему возможность постоянно иметь горячий чай, даже когда самовар не был растоплен.
После завтрака нас отправляли на прогулку. На одевание уходило много времени, и я часто теряла терпение, если была готова первой и приходилось ждать, пока оденут Леву. Зимой перед выходом на улицу мне надевали под платье красную фланелевую нижнюю юбку и панталоны, а на ноги валенки. Поверх ватного капора повязывали шаль, концы которой заправляли под пальто; в особенно холодные дни шалью прикрывали рот. Шаль так туго затягивали, что я не могла повернуть голову и часто жаловалась:
– Няня, ты меня задушишь.
Если я протестовала слишком громко, из соседней комнаты слышался голос матери: