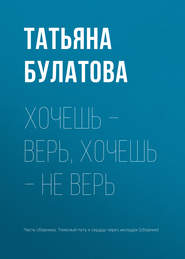По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да. Нет. Не знаю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да ладно тебе, Михаил Кондратьевич. – Аурика сняла с пиджака молодого человека какую-то ниточку. – Поцеловались – и баста. С кем не бывает. Хорошо время провели. Можно сказать, не зря Новый год встретили.
– Зачем ты так говоришь?! – понизив голос, спросил Коротич.
– Как?
– Так, словно это ничего не значит. Словно ты могла бы это проделать с такой же легкостью с любым, кто оказался бы в тот момент рядом с тобой. Это же низко!
– Низко, говоришь?! – Аурика выпятила грудь и двинулась на гостя с выражением лица базарной бабы, готовой вцепиться в волосы обидчика. – Так это исключительно высокие помыслы заставили тебя целовать меня взасос и мять мою грудь?! И тебе ничего не хотелось?! Ничего из того, что обычно делают мужчина и женщина?! Совсем ничего?! Ни так? – она, тяжело дыша, стала расстегивать на нем рубашку. – А может, вот так? – Аурика неожиданно скользнула рукой между ног и несильно сжала твердую плоть Коротича. – Ого! Это, видимо, высокий дух заставляет подниматься орган столь низкой природы! Да вы не бойтесь, Михаил Кондратьевич! Все ваши достоинства и принципы так при вас и останутся. Ничем не придется жертвовать до свадьбы. Так что терпите! – она наконец-то убрала руку, после чего Миша брезгливо отряхнул штаны и, презрительно скривив губы, тихо произнес:
– Я, конечно, Аурика Георгиевна, предполагал, что вы распущенны, но что настолько…
– Насколько? – медленно облизнула губы девушка и вновь двинулась к Коротичу. – Насколько?
– Да ни насколько! – неожиданно жестко и без доли иронии сказал Миша. – Развратница из вас никакая! Грубая, примитивная. Жалкая. И все это по?шло. Не знаю, в каких книжках вы ознакомились с такой техникой соблазнения, но либо вы читали невнимательно, либо ученица из вас бездарная.
– Все сказал?
– Нет. Не все, – оборвал ее юноша.
– А по-моему, уже достаточно, – тон Аурики изменился, она побледнела: – Хватит.
– Нет, не хватит. Я разочарован.
– Я сказала, хватит, – надменно подняла брови младшая Одобеску. – Ты вообще-то у меня в гостях.
– Я не у тебя в гостях. Меня пригласил Георгий Константинович, но, если бы я знал, что меня ждет, точно бы отклонил приглашение.
– Кто тебе мешает это сделать в следующий раз?
– Теперь – никто, – отрезал Коротич и вышел в прихожую, чтобы одеться.
Аурика не тронулась с места. И только когда сработал, щелкнув, английский дверной замок, она подошла к окну и, отодвинув портьеру, посмотрела вниз. Из подъезда вышел Миша, перешел на другую сторону и, не поднимая головы, пошел прочь.
* * *
«Придурок, – пробормотала девушка и резко задернула плотный занавес. – Разочарован он, видите ли!» Но на самом деле слова Коротича неприятно задели ее своей правдивостью, у Аурики возникло ощущение гадливости по отношению к самой себе. В сущности, Миша не сделал ей ничего дурного. Ничем не обидел. Какая муха ее укусила?! Могли бы и правда стать товарищами. «А, может, и не товарищами», – подумала девушка и тут же честно себе призналась, что теперь-то уж точно нет. Теперь Коротич будет от нее шарахаться так же, как когда-то Масляницын. Увидит – и перейдет на другую сторону или сделает вид, что не заметил.
«Что со мной не так?» – задумалась Аурика и попыталась проанализировать их с Мишей словесную перепалку там, наверху, для того, чтобы понять, что именно могло ее так разозлить, отчего она потеряла контроль над собой и устроила ту омерзительную сцену. Ревизия не принесла никаких ощутимых результатов, кроме одного: при воспоминаниях о поцелуях Коротича ее тело начинало реагировать знакомым возбуждением, после которого ей обязательно была нужна разрядка, иначе странное томление не покидало ее и мучило целый день, распаляя воображение и заставляя бросаться на окружающих в поисках выхода этого невнятного раздражения.
«Это не там», – догадалась Аурика и попробовала вспомнить, что произошло, когда они вошли в дом. «Ты могла бы это проделать с такой же легкостью с любым, кто оказался бы рядом», – всплыло в ее сознании. «Вот оно!» – поняла девушка по тому, как к лицу прилила кровь. «Да какое он имеет право!» – возмутилась она, но быстро сникла, вспомнив свои августовские приключения, встречу с Вильгельмом Эдуардовичем и еще много чего, что превращало горькие слова Коротича в жестокую правду. «Я такая же, как и моя мать. Я даже хуже», – пригвоздила она себя к позорному столбу и ткнулась лбом в холодное стекло. «Я не хочу так, как она, – пыталась унять бившую ее дрожь Аурика. – Не хочу. Я не такая». «Такая!» – продолжала она мучить себя, испытывая странное наслаждение от подступающих к горлу рыданий, которые оборачивались нехваткой воздуха. «Нет!» – выкрикнула она так громко, что разбудила Глашу, задремавшую на хозяйском плече.
– Аурика, – затрясла она Георгия Константиновича.
– А? Что? – испугался тот и, забыв накинуть халат, в одних штанах бросился в гостиную. – Золотинка, девочка моя! – Он сразу понял, что что-то случилось, и притянул дочь к себе. – Что с тобой?
– Мне очень плохо, – обескуражила она отца ответом и безропотно дала себя обнять.
– У тебя что-то болит? – засыпал ее вопросами Одобеску. – Что? Где?
– Ничего у меня не болит, – Аурика пыталась сдержать слезы.
– Тогда почему ты плачешь?
– Я не плачу, – ответила девушка и разрыдалась.
Мудрый Одобеску довел ее до дивана, усадил, махнул рукой обеспокоенной Глаше, чтобы та не входила в комнату, и приготовился ждать. Он не торопил дочь ненужными вопросами, не успокаивал, не гладил по голове. Он просто молча сидел рядом в своих полосатых пижамных штанах, из под которых виднелись худые босые ноги. И он мог бы просидеть так целую вечность, не двигая ни рукой, ни ногой. «Хоть до смерти!» – думал Георгий Константинович и, закрыв глаза, ощущал себя непозволительно счастливым от того, что вот она, Аурика, рядом, и пусть она плачет, ведь это полезно, потому что со слезами выходит боль, а душа освобождается, делается чистой и щедрой. Он это знает так же хорошо, как и то, что женские истерики рано или поздно заканчиваются, поэтому до смерти досидеть не придется. По характеру всхлипываний становилось понятно, что сила «горя», оплакиваемого девушкой, становится все слабее, зевота все слаще. Одобеску краем глаза сквозь разметанные по лицу дочери кудри видел: еще немного – и она заснет, прямо здесь, на отцовском плече. «Когда это было!» – мысленно усмехнулся Георгий Константинович, но вспомнить не смог, а потому шепотом спросил зареванную Золотинку:
– Хочешь, я принесу тебе подушку? Ляжешь?
Аурика отрицательно помотала головой, выдохнула из себя нечто напоминающее сердитое фырканье ежа и попробовала подняться:
– Давай я тебя отнесу? – явно переоценивая собственные возможности, предложил Одобеску.
– Ага, – словно с набитым ртом промямлила не очень-то прекрасная в этот момент Золотинка и добавила: – А потом тебя отнесут на Ваганьковское кладбище, в те ряды, где хоронят цирковых артистов. Там тебе понравится – с ними весело.
– Не уверен, что их там хоронят, но, пожалуй, мне лучше остаться с тобой. С тобой тоже нескучно, – сострил Георгий Константинович и, опередив дочь, заторопился к ней в комнату, где умело разобрал кровать, не забыв аккуратно – край к краю – сложить покрывало и взбить подушки. – Ты шутишь, – обернулся Одобеску к подоспевшей дочери. – Это хороший знак.
– Это – знак качества, – подтвердила Аурика и бухнулась на кровать, не раздеваясь.
– Ты только подумай, – высокопарно произнес Георгий Константинович. – Твой знак качества – это природное чувство юмора. Этим ты пошла в Одобеску.
– Интересно, а оно хроническое или эпизодическое? У меня такое ощущение, что мое природное чувство юмора в последнее время перешло из состояния комы в состояние летаргического сна.
– А разве это не одно и то же? – усомнился барон.
– Завтра проверим, – пообещала Аурика и ткнулась лицом в подушку.
– Сегодня, – поцеловал ее отец и вышел из комнаты на цыпочках, боясь потревожить моментально уснувшую дочь.
До пяти часов вечера в доме Одобеску царила полная тишина, изредка нарушаемая покашливанием Георгия Константиновича и звяканьем вытираемой Глашей посуды. Телефонная трубка, предусмотрительно снятая хозяином с аппарата, мирно покоилась на столике возле зеркала: барон Одобеску легко пожертвовал возможностью получать поздравления в обмен на хрупкое спокойствие, воцарившееся в доме.
Георгий Константинович прозорливо предположил, что вчера за короткое время их с Глашей отсутствия между Аурикой и Коротичем могло произойти нечто, что изменило порядок вещей в целом, но волевым усилием гасил собственное любопытство, подозревая, что вчерашние слезы дочери могли быть вызваны причинами не обязательно приятного свойства.
Об этом же размышляла и Глаша, по-собачьи вскидывавшая голову всякий раз, когда хозяин заходил на кухню. Но она тоже тактично молчала, понимая, что и без нее разберутся.
– Обедать будете? – теребила женщина Георгия Константиновича и, получив отказ, в сердцах убирала посуду в буфет и выключала на плите газовые конфорки.
– Как вы думаете, Глаша, – первым не выдержал Одобеску, облюбовавший для себя место за кухонным столом, заставленным не уместившимися в холодильнике закусками, – что бы это могло значить?
– Что? – не сразу поняла его Глаша и уселась напротив.
– Эти слезы, истерика…
– Бесится она, – в который раз повторила помощница Одобеску, поглаживая и так гладкую клеенку.
– Почему?
– Может, обиделась. А, может, сама обидела. А потом пожалела. И вот вам…