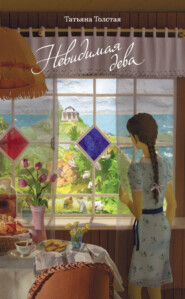По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Девушка в цвету (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Девушка в цвету (сборник)
Татьяна Никитична Толстая
В новую книгу Татьяны Толстой «Девушка в цвету» вошли как новые, так и публиковавшиеся ранее автобиографические тексты – о молодости и о семье, о путешествиях во Францию и о жизни в Америке, а также эссе о литературе, кино, искусстве.
Татьяна Толстая
Девушка в цвету (сборник)
© Толстая Т. Н.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Иногда мама позволяла рассматривать вещи в ящиках комода. Там были какие-то чудесные шарфы, ожерелье в форме серебряной стружки, сумочка шанель, красивые часики, туфли… Мне так хотелось всего этого – браслетов, колец, серег, бус, – и чтобы много, с избытком, через край. Мне так хотелось закутаться во все шали и намотать себе на голову тюрбаны из всех шарфов, а из тех, что останутся, сшить себе восточные шаровары или, на худой конец, цыганские юбки. Я алчно рассматривала книжные, альбомные картинки с этой избыточностью, невозможной в реальной, нормальной, ежедневной жизни. Но я росла под насмешливым голубым взглядом мамы, которая умела как-то без слов, одним поворотом головы дать понять, что это всё для бездельников, а надо работать. Учиться, например.
Татьяна Толстая
Девушка в цвету
Девушка в цвету
На втором курсе университета я осталась без стипендии. А мне были деньги нужны. Кофе, такси, сигареты. И я устроилась на почту разносить телеграммы.
Был июнь, вечером светло как днем, не страшно и очень красиво: пустой летний Ленинград, волшебные улицы Петроградской стороны; на стенах домов, над парадными – коты и ундины, треугольные девичьи лица оглушительной красоты: опущенные глаза, пышные волосы, дневные сны; глубокие подворотни, полные полумглы, лиловая сирень в садах и скверах, и вдалеке за Невой светла Адмиралтейская игла.
Отделение почты было на Кронверкском проспекте. Мне были рады: мало кто хочет работать летом в такую чудную погоду за такие ничтожные деньги. Начальница, воспаленная государственными тревогами и сложностями финансовой ответственности, рассказала мне, как строится нелегкая работа разносчика телеграмм.
Есть Маршрут номер 1, налево, и Маршрут номер 2, направо. Почтальон приходит в отделение, берет пришедшие телеграммы и идет либо туда, либо сюда, по очереди. Формально телеграмма заклеена, но почтальон обязательно заглядывает в нее, никакой тайны переписки, забудьте. Потому что почтальон – не тупой робот, а тонкий психолог.
При чем тут психология? А вот при чем. Лето. Люди тонут в водоемах. За месяц хоть одна телеграмма с сообщением о том, что «Николай утонул», непременно придет. И вот представьте: вы приносите эту телеграмму, вручаете ее приветливой женщине, может, отводящей тыльной стороной руки прядь волос со лба, может, вытирающей руки о фартук. Женщины же все время что-то стряпают. Вот вы стоите на пороге коммуналки, эта женщина вам улыбается, солнце светит на лестничную площадку сквозь пыльные, чудом сохранившиеся остатки питерских витражей, как сквозь воду. Чистенько.
И если вы, не зная о содержании телеграммы, тоже будете улыбаться, радоваться жизни и комментировать прекрасную погоду и прочие глупости, а потом она развернет бумагу – а там «Николай утонул…» – это же какой удар, это же какое коварство, это, может быть, инфаркт.
Нет, к горю надо подводить, по мере возможности, плавно. Горе легче принять, если принес его тебе злой человек. Поэтому надо сделать неприятное, злое лицо; откроют дверь – мрачно буркнуть: телеграмма! Не улыбаться, смотреть мимо, в пол. Сунуть квиточек: тут распишитесь. Расписались – сунуть телеграмму, и с лестницы горошком вниз. И ниже площадкой можно постоять у стены, зажмурившись, стиснув зубы и запрокинув голову, не в силах выбросить из головы чужое, милое, последний раз в жизни счастливое лицо той, ни о чем не подозревающей, там, наверху. На берегу.
Постояла. Постаралась забыть. И дальше по маршруту.
И, наоборот, если приходит, например, «встречная». То есть: «встречай 15-го поезд 256 вагон 8». Мирная, хорошая весть. А дверь открывает бабушка. Днем-то в основном бабушки дома. А бабушка эта – ведь у нас начало семидесятых – бабушка эта и войну помнит, и от эвакуации еще не отошла, и сколько ж похоронок она в руках держала! Поэтому, увидев телеграмму, бабушка обычно начинает пятиться со страхом в глазах, выставляет ладоши, чтобы оттолкнуть надвигающееся известие, бормочет: нет, нет, нет… Так что на случай, если откроет дверь бабушка, надо заранее, еще за дверью, сделать беспечно-счастливое лицо и сразу, с порога, помахивая телеграммой, запеть: все хорошо, вам телеграммочка хорошая, едут, едут, пеките пироги! – и прочую ерунду.
За одну доставленную телеграмму платят семь копеек. За недоставленную – три. То есть если никого нет дома, ты пишешь на маленьком бланке маленькое извещение: «вам пришла телеграмма, она на почте, можете позвонить». И бросаешь бланк в почтовый ящик. Но это не значит, что такую телеграмму повторно разносить не надо. Нет, ты тупо идешь с ней и через час, и через два… А люди-то на работе, людей-то дома нет… Коррупционный механизм, надеюсь, понятен.
Поэтому утренняя смена – она посытнее кормит. Три раза не доставишь, потом один раз доставишь – вот тебе и шестнадцать копеек с телеграммы. Многие тем и жили. Официальная же зарплата разносчика телеграмм, не соврать, была тридцать два рубля в месяц. А если ты не в штате, свободный художник, то примерно столько же, по рублю в день, баш на баш и выходит. Но зато есть возможность ограбить бюджет на шестнадцать копеек, и я в грабителей этих не брошу камня. Не всякий вор должен сидеть в тюрьме, так я вам скажу.
Есть и такой источник обогащения, как чужое горе. Поминки. Один раз мне повезло: я приношу телеграмму соболезнования: «всем сердцем с вами, скорблю о вашей потере», – дверь открывает безутешная вдова, за ней в проеме – интеллигентная, небедная квартира. Синие обои, мебель ампир. Портреты в овалах. Сделав приличествующее, чуть опечаленное лицо, вручаю телеграмму. Вдова расписывается на квитанции и вручает мне двадцать копеек на чай.
Обана! Первый раз в жизни получила на чай. Интересное ощущение. Вышла, села на лавочку в скверике покурить и обдумать. Это же какие деньжищи. Прикинула: унижают ли чаевые человека? – Неа, не унижают, только радуют; извините, вдова и покойник. Вам время тлеть, а мне цвести. Мне восемнадцать лет, и я намерена цвести. Красно-лиловым персидским цветом.
Докурила, вернулась на почту – еще одно скорбное послание. Бодренько отнесла вдове. Вдова приняла послание и по лицу ее прошла тень. Не от могильной сени, но от предстоящего ей ущерба: на этот раз она наградила меня пятнадцатью копейками. Окей, тенденция понятна. «Повадились тут ходить, деньги мои выпрашивать!» – читалось на ее заплаканном лице, хотя я не произносила ни слова, молча протягивала квитанцию и шариковую авторучку на мочальной веревочке и молча же уходила в пахучую тьму подъезда; первый этаж был, со двора. Батареи отопления какие-то с торчащей паклей, ледяные летом. Коричневые, земляного цвета стены. Лампочка вывинчена. Третья телеграмма принесла мне гривенник, а все последующие вдова хватала с нескрываемой ненавистью в глазах и чаевых больше не давала. Просто вырывала телеграммы из моих рук и с глухим стуком захлопывала войлочную, утепленную дверь.
Питерские дворы устроены интересно и запутанно. Нумерация квартир непредсказуемая. 14, 15, 15а, 3, 78, 90, 16, 24, 18, а на самом верхнем этаже – 1. 7-й и 8-й квартир в этом доме нет. А квартира номер 6 есть, но вход в нее из другого дома. Или из подворотни. А на некоторых дверях номеров и вовсе нет, и света на площадке нет, и вот ты стоишь на лестнице черного хода и водишь руками по войлоку, ощупывая дверь и слыша слабую вонь помойного ведра, невидимого во тьме, и различая глухие голоса за дверью, а чаще – глухое молчание, как под водой. Пока найдешь нужную квартиру – потеряешь кучу драгоценного времени. Уже в конце моего почтальонского срока я подружилась с почтальоном-инвалидом, у которого в книжечке была начертана четкая и ясная схема всех парадных и черных ходов Маршрута номер 1 и Маршрута номер 2, – любо-дорого посмотреть! Он работал в штате, за тридцать два рубля, и уважал свою работу: никуда не спешил, ходил не быстро, знал, где опасные квартиры, а где приветливые, где живет маньяк, хватающий тебя за руку, чтобы втащить в свое жаркое, удушающе пахнущее сладким одеколоном жилище, а где живут девушки-близнецы, кто лежит прикованный к кровати, а у кого неделями никого нет дома. Странный был человек, немножко ку-ку, инвалид по голове. Ничего, кроме разноса телеграмм, его вообще не интересовало.
Он был как бы такой солдат Почтового Государства, государственный человек, без юмора. Почтовое дело представлялось ему, кажется, сияющим Проектом, одной из систем, благодаря которой Государственный Организм функционирует: лимфатической системой, или там нервной. Он гордился, что он часть этого Проекта. А нас, временных и легкомысленных, он как минимум не уважал. Должно быть, он виделся себе старинным, еще 1808-го какого-нибудь года, чиновником в свежеизобретенном мундире Почтового ведомства: темно-зеленый кафтан с черным воротником и черными же обшлагами, на пуговицах – перекрещенные якорь и топор. Мне, во всяком случае, он виделся именно таковым, и, завидев его издалека в слабом летнем потоке людей, прямого, сухого, возвращающегося с маршрута, я думала: вот идет, сквозь беспечную и смеющуюся толпу, само Государство, идет размеренно и строго и пахнет сургучом, мочальными веревочками, чернильными карандашами и резиновыми штампами.
Он показал мне свои схемы, не выпуская их из рук, не делясь со мной: если надо, пройди по парадным сама и срисуй. Он как бы давал понять, что причастен Государственным Секретам, планам железных дорог, синькам подземных заводов, чертежам стратегических зернохранилищ, но врагу и конкуренту не отдаст. Если пуля, если смерть – быстро схватит и проглотит книжечку, разжует! И чернила с разлинованных страниц будут стекать в его уже мертвую гортань.
В этом районе было много старых красивых домов, еще не полностью умерших, несмотря ни на что: несмотря на блокаду, на советскую нищету, на тени без вины арестованных и уведенных отсюда на подгибающихся ногах по этим чуть сбитым ступеням. В одной парадной, в фойе, был камин – так и простоял, холодный и запустелый, с дореволюционных времен. А наверно, когда-то его топили, и по лестнице вверх поднималась ковровая дорожка, ну, хотя бы до бельэтажа или там третьего этажа. И было тепло, и был консьерж с усами. И пахло кофе и ванилью. И лифт был коробкой света в сквозном, ажурном колодце. А теперь камин – могильная яма – был покрашен масляной зеленой краской, как и вся парадная. Прямо по мрамору, масляной зеленой краской.
А квартиры в основном были, конечно, коммунальными. Поэтому на дверях было по нескольку звонков, причем встречались и старые-престарые, – плоская щеколда размером с половинку бабочки, с надписью кругом по латунному кружку: ПРОШУ ПОВЕРНУТЬ. Это был звонок механический, не электрический. Я знаю, как он работал, у наших знакомых такой был в квартире. От бабочки идет проволока, потом там под потолком латунная планка, и к ней подвязан колокольчик. Повернешь бабочку – колокольчик зазвонит. (Когда население обнаружило, что латунь содержит медь – ценный металл, все эти милые «ПРОШУ…» были вырваны по-мандельштамовски, с мясом, и сданы в металлолом; отвинчивали и медные ручки с дверей, но их не сдавали, они просто наполнили собой комиссионные магазины. Такие красивые делали ручки в 1914 году! Лилии, водоросли, а не ручки.)
А на одной двери был звонок удивительный. Стеклянная коробочка, имя хозяина, и когда ты звонишь, загорается лампочка в коробочке и высвечивается надпись: «Слышу. Иду». И они слышат! И идут! Какие чудесные люди! А если никого нет дома, то надпись «Извините, дома никого нет». Я спросила открывшую мне девушку, как переключаются надписи? Оказалось, это работает от ключа в комнате. Уходя, поворачивают ключ – и вот «нет дома». Как это прекрасно!
Отнесешь телеграмму в дальний конец Маршрута, километр туда, километр назад, вернешься – а уже новая лежит, тебя ждет. Снова иди туда же. Мне было восемнадцать лет, мне хотелось привнести разумность и порядок в устройство почтовой службы, если не всего мироздания, хотелось быть полезной. Я говорила начальнице отделения: «Но почему же я должна так спешить отнести “встречную” телеграмму? Человек приезжает только через неделю! Да и люди все днем на работе. Давайте я накоплю штук десять и часа через два-три пройду по Маршруту. И мне веселее, и почта деньги сэкономит».
Но она пугливо отвечала: нет, нет, нельзя; такова инструкция, относить сразу. Она вообще была женщиной испуганной, встревоженной, согнувшейся под каким-то невидимым грузом. Как-то утром, прекрасным и сияющим, как и весь тот июнь, – росистым, с белой сиренью, с птичьим щебетом, – я видела, как она торопливо прошла на работу, ссутуленная, очками вперед, ничего не видя, кроме своей государственной заботы; руки плетьми висели перед туловищем. Она плохо спала; утро ее не радовало; росу долой, птиц к черту, сирень в топку. Есть ведь инструкция, а люди норовят ее нарушить. Как проследить? Как навести порядок? Каждого не проверишь! Не пойдешь за ним одновременно по Маршруту номер 1 и Маршруту номер 2! А тут еще и секретное учреждение! Сигма! Приходит зашифрованное сообщение по государственным телеграфным проводам в засекреченную государственную Сигму! И эту наисекретнейшую телеграмму с болью отдаешь в руки легкомысленной вертихвостке! А если враги как-нибудь чего-нибудь там? Можно было бы подождать полчаса, дождаться инвалида с Маршрута номер 2 и поручить Гостайну ему. Он солдат! Он в мундире! Но ждать нельзя! Инструкция! Вот где засада.
И она вручала мне тщательно заклеенную телеграмму для Сигмы. Я должна была промаршировать прямо на проходную этого загадочного секретного учреждения и молча передать Гостайну в руки вахтера в чине не меньше полковника. Так же молча получить расписку. И – строевым шагом – назад. Она сжимала мне руки своими холодными руками, с тревогой и недоверием вглядываясь мне глубоко в глаза: доставишь? не подведешь? могу ли довериться? Она глядела мне вслед, стуча зубами от волнения, но ни разу не было, чтобы я ушла подземными тропами к врагам, унося шифры и коды.
Бедная, она всегда была на посту! Между тем, местное население, как это всегда бывает, прекрасно знало, что таится за стенами без вывески: институт прикладной химии, занимавшийся отравляющими веществами и взрывчаткой и испоганивший на десятилетия воду и землю в красивейшем месте города. Для тех, кто не знает нашей топографии: вот так Пушкинский Дом, а вот так – через реку – баки с зарином и заманом, не знаю, с ипритом каким. Рачительно так, по-советски. Я в первый же раз запуталась, куда идти: ну а как, если вывески и адреса нет? «А вы не знаете, где тут Сигма какая-то?..» – «А, ГИПХ! Вон там перейдете и вон туда! Вдоль забора, а там проходная!» Естественно, я отгибала уголок, запускала глаз под охранную ленточку и читала секретные телеграммы, отправляемые Центром Сигме по открытой связи. Всякий бы прочитал. Ничего там интересного не было.
Зато по другую сторону Кронверкского проспекта простирался мирный Зоологический Сад, тоже утопавший в белой и лиловой сирени, и туда я тоже иногда ходила: на Алтае поймали медвежонка и спрашивали, не надо ли саду медведя? Потом почему-то пришла телеграмма, сообщавшая, что украли шестьдесят одеял. Каких одеял? Кто мог их украсть? Где? При чем тут Зоосад? Все это были клочки, обрывки чужих историй, рассыпанная мозаика, форточки в чужую жизнь, – облачко музыки из окна, смех из распахнувшейся двери, таинственный угол комнаты, видный через щель в занавесках. Где-то там жила самая загадочная из моих адресатов – некая Конкордия Дрожжеедкина. Сколько ей было лет? Как можно было так назвать девочку? Счастлива ли она? Видит ли из своего окна белую ночь, подворотни, наполненные прозрачной мглой, и кусты цвета сумерек? Кого она любит? Кто любит ее? А я, кого я люблю?
Я бесплатно пробиралась в Зоосад – почтальону можно – и забредала в дальние углы, к воде, к Неве, там, где птицы, там где никому не интересно: люди ведь ходят смотреть на слона, на белых медведей, на жирафа, на площадку молодняка, где можно погладить маленьких, еще безобидных тигрят, а на птиц смотреть не ходят. И я задумала вырвать у павлина перо и носить его в волосах или как-то еще, я точно не придумала. Просто вот захотелось павлинье перо, и все тут. Я решила прикормить павлина булочкой, а когда он подойдет близко к прутьям клетки, схватить его за хвост – может быть, перо и выпадет. Вон же там, на земле, рукой не дотянешься, валяются сброшенные птицами перья. Но вольер был забран густой сеткой, и павлин смотрел на меня враждебно, и булочка моя его не соблазнила, и над всей аллеей внезапно раздался громкий, издевательский хохот: меня явно разоблачили сторожа.
Я отдернулась от места совершаемого преступления, торопливо вставая с четверенек, делая вид, что ничего не происходит, отряхивая коленки и придавая лицу отстраненное выражение: я? я ничего, я просто склонилась надпись прочитать, плохо вижу. Но рядом никого не было, и на аллеях никого не было видно, а насмешливый женский хохот, звонкий, издевательский, висел в теплом воздухе зонтиком, куполом, полусферой летнего неба. А-ха-ха-ха-ха! – надо мной, и над моими планами обобрать павлина, и над моими скопидомскими расчетами – копеечка к копеечке, всё в кубышку; и над моими планами цвести, и над моими планами жить, – сам по себе висел этот смех, как будто мироздание внезапно обратило на меня внимание: ага, это ты подсматриваешь за чужими жизнями, мелкая мошка? – да ты сама как на ладони! А-ха-ха-ха-ха!..
Это был какой-то момент истины, непонятно какой, но истины: когда над вами смеются, а кто, не видать, – открываются какие-то внутренние горизонты, раздвигаются стены, загорается свет, расстилается простор. Я стояла, вросши ногами в плотную песчаную дорожку, объятая смутным экзистенциальным стыдом. Вот так будет на Страшном Суде. А-ха-ха-ха-ха!.. – женщина, она же Бог, начала свои разоблачения по третьему кругу, и я ее увидела: светлая, с серыми крыльями, с тонкими длинными ногами, она разинула клюв и, запрокинув голову, хохотала в своем вольере: чайка-хохотунья, она же степная чайка, Larus cachinnans. Пошла к черту, дура. Напугала только.
…«Пришлите судно и клизму». Я отнесла телеграмму – никого – бланк в ящик – вернуться на почту. «Не надо судна и клизмы». Так надо или уже не надо? Что у них там случилось? Я спросила у начальницы, – она никогда не спала, сидела и смотрела воспаленными красными глазами на неуправляемый мир, – так мне относить эти вот телеграммы или нет? Одна ведь отменяет другую. И дома у них никого. Может, они катаются по Неве на кораблике? Может, ну их? «Неси! Инструкция говорит: неси! Мало ли что. С нас спросят!»
Я отнесла раз, и два; и третий раз я отнесла загадочным держателям кружки Эсмарха взаимоисключающие просьбы. Я ходила взад-вперед до позднего вечера, но квартира молчала, никто мне не открыл, никто не перезвонил на почту, и назавтра никого не было, и послезавтра тоже. А потом мне все это надоело. И я уволилась.
Инвалид посмотрел мне вслед с осуждением: так он и знал, из меня не вышло солдата Почтовой Службы. Начальница уже с тревогой думала о следующем работнике – он только что вышел из тюрьмы, был белый как утопленник, и его водила за руку молодая красивая жена с огромным, дутым золотым браслетом. «Как ты думаешь, ему доверять можно?» – спросила она меня, но не стала ждать ответа, ведь она разговаривала сама с собой.
Я уволилась, заработав целые тридцать пять рублей, прямо как стипендия отличника; наелась черносмородинного мороженого с сиропом и уехала на дачу: июль обещал быть таким же чудным, каким был июнь. Чудным он и был. Только мне долго потом казалось, что мир как-то неуловимо изменился. Как будто шумы какие-то умолкли. Или я оглохла, что ли.
Варвары
Если бы моя жизнь сложилась иначе, я сшила бы себе желтые шелковые шаровары, носила бы турецкие гаремные тапки с загнутыми носами и двадцать пять серебряных цепочек, а лучше монисто – туркменское какое-нибудь такое, или грузинское. Браслеты, конечно, до локтя. Шали розовые, жаркие, с голубыми огурцами, с фиолетовыми розами. Тюрбаны. Курила бы кальян. Глаза подводила бы сурьмой, волосы – когда не тюрбан – носила бы вольными, распущенными, а по праздникам надевала бы тюбетеечку или жемчужную сетку.
Я варвар, мне можно.
Собственно, никто и никогда мне не препятствовал именно так почему-либо одеваться, просто денег не было, да и куда бы я поперлась в таком дурацком виде? У нас не Серебряный век, и тут не Монпарнас. А главное – темперамент мне не позволял шляться в таких театрально-балаганных, Бакстовских костюмах, потому что они предполагают компанию богемную, расслабленную, пьющую, вольных нравов, я же была кабинетным очкариком и книжным червем, и даже на танцы ходить не любила: скучно.
Нас у мамы было семеро, причем девочек – пять, и ни одна шить не умела, так что с красивой одеждой были проблемы. В магазинах висели какие-то халаты. Были какие-то неумелые портнихи. Однажды в допотопные времена мне что-то сшили в ателье – уж не помню что. Помню, что у приемщицы были необыкновенно длинные красные ногти невиданной красы, они летали над белыми разлинованными квитанциями, как лепестки. Я была заворожена ими, сказала маме. Мама – сухо, как всегда – заметила мне, что это ногти бездельницы.
Сама мама трудилась за семерых: готовила, подметала, стирала, вязала, делала всю черную ручную работу, таскала тяжести, копалась на даче в огороде, а кроме того, обучала младших детей иностранным языкам. У нее вообще никаких ногтей не было, а ей, наверно, хотелось. Но если она сказала, что длинные красные ногти это неправильно, то значит неправильно.
Папа ездил за границу и старался нам всем привезти подарки. Это было непросто. Однажды он купил пять пар обуви – для всех дочерей, – и его задержали на таможне за намерение спекулировать. Все оправдания, что детей семеро, а сам он профессор Университета, не действовали. Отбился с трудом.
Татьяна Никитична Толстая
В новую книгу Татьяны Толстой «Девушка в цвету» вошли как новые, так и публиковавшиеся ранее автобиографические тексты – о молодости и о семье, о путешествиях во Францию и о жизни в Америке, а также эссе о литературе, кино, искусстве.
Татьяна Толстая
Девушка в цвету (сборник)
© Толстая Т. Н.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Иногда мама позволяла рассматривать вещи в ящиках комода. Там были какие-то чудесные шарфы, ожерелье в форме серебряной стружки, сумочка шанель, красивые часики, туфли… Мне так хотелось всего этого – браслетов, колец, серег, бус, – и чтобы много, с избытком, через край. Мне так хотелось закутаться во все шали и намотать себе на голову тюрбаны из всех шарфов, а из тех, что останутся, сшить себе восточные шаровары или, на худой конец, цыганские юбки. Я алчно рассматривала книжные, альбомные картинки с этой избыточностью, невозможной в реальной, нормальной, ежедневной жизни. Но я росла под насмешливым голубым взглядом мамы, которая умела как-то без слов, одним поворотом головы дать понять, что это всё для бездельников, а надо работать. Учиться, например.
Татьяна Толстая
Девушка в цвету
Девушка в цвету
На втором курсе университета я осталась без стипендии. А мне были деньги нужны. Кофе, такси, сигареты. И я устроилась на почту разносить телеграммы.
Был июнь, вечером светло как днем, не страшно и очень красиво: пустой летний Ленинград, волшебные улицы Петроградской стороны; на стенах домов, над парадными – коты и ундины, треугольные девичьи лица оглушительной красоты: опущенные глаза, пышные волосы, дневные сны; глубокие подворотни, полные полумглы, лиловая сирень в садах и скверах, и вдалеке за Невой светла Адмиралтейская игла.
Отделение почты было на Кронверкском проспекте. Мне были рады: мало кто хочет работать летом в такую чудную погоду за такие ничтожные деньги. Начальница, воспаленная государственными тревогами и сложностями финансовой ответственности, рассказала мне, как строится нелегкая работа разносчика телеграмм.
Есть Маршрут номер 1, налево, и Маршрут номер 2, направо. Почтальон приходит в отделение, берет пришедшие телеграммы и идет либо туда, либо сюда, по очереди. Формально телеграмма заклеена, но почтальон обязательно заглядывает в нее, никакой тайны переписки, забудьте. Потому что почтальон – не тупой робот, а тонкий психолог.
При чем тут психология? А вот при чем. Лето. Люди тонут в водоемах. За месяц хоть одна телеграмма с сообщением о том, что «Николай утонул», непременно придет. И вот представьте: вы приносите эту телеграмму, вручаете ее приветливой женщине, может, отводящей тыльной стороной руки прядь волос со лба, может, вытирающей руки о фартук. Женщины же все время что-то стряпают. Вот вы стоите на пороге коммуналки, эта женщина вам улыбается, солнце светит на лестничную площадку сквозь пыльные, чудом сохранившиеся остатки питерских витражей, как сквозь воду. Чистенько.
И если вы, не зная о содержании телеграммы, тоже будете улыбаться, радоваться жизни и комментировать прекрасную погоду и прочие глупости, а потом она развернет бумагу – а там «Николай утонул…» – это же какой удар, это же какое коварство, это, может быть, инфаркт.
Нет, к горю надо подводить, по мере возможности, плавно. Горе легче принять, если принес его тебе злой человек. Поэтому надо сделать неприятное, злое лицо; откроют дверь – мрачно буркнуть: телеграмма! Не улыбаться, смотреть мимо, в пол. Сунуть квиточек: тут распишитесь. Расписались – сунуть телеграмму, и с лестницы горошком вниз. И ниже площадкой можно постоять у стены, зажмурившись, стиснув зубы и запрокинув голову, не в силах выбросить из головы чужое, милое, последний раз в жизни счастливое лицо той, ни о чем не подозревающей, там, наверху. На берегу.
Постояла. Постаралась забыть. И дальше по маршруту.
И, наоборот, если приходит, например, «встречная». То есть: «встречай 15-го поезд 256 вагон 8». Мирная, хорошая весть. А дверь открывает бабушка. Днем-то в основном бабушки дома. А бабушка эта – ведь у нас начало семидесятых – бабушка эта и войну помнит, и от эвакуации еще не отошла, и сколько ж похоронок она в руках держала! Поэтому, увидев телеграмму, бабушка обычно начинает пятиться со страхом в глазах, выставляет ладоши, чтобы оттолкнуть надвигающееся известие, бормочет: нет, нет, нет… Так что на случай, если откроет дверь бабушка, надо заранее, еще за дверью, сделать беспечно-счастливое лицо и сразу, с порога, помахивая телеграммой, запеть: все хорошо, вам телеграммочка хорошая, едут, едут, пеките пироги! – и прочую ерунду.
За одну доставленную телеграмму платят семь копеек. За недоставленную – три. То есть если никого нет дома, ты пишешь на маленьком бланке маленькое извещение: «вам пришла телеграмма, она на почте, можете позвонить». И бросаешь бланк в почтовый ящик. Но это не значит, что такую телеграмму повторно разносить не надо. Нет, ты тупо идешь с ней и через час, и через два… А люди-то на работе, людей-то дома нет… Коррупционный механизм, надеюсь, понятен.
Поэтому утренняя смена – она посытнее кормит. Три раза не доставишь, потом один раз доставишь – вот тебе и шестнадцать копеек с телеграммы. Многие тем и жили. Официальная же зарплата разносчика телеграмм, не соврать, была тридцать два рубля в месяц. А если ты не в штате, свободный художник, то примерно столько же, по рублю в день, баш на баш и выходит. Но зато есть возможность ограбить бюджет на шестнадцать копеек, и я в грабителей этих не брошу камня. Не всякий вор должен сидеть в тюрьме, так я вам скажу.
Есть и такой источник обогащения, как чужое горе. Поминки. Один раз мне повезло: я приношу телеграмму соболезнования: «всем сердцем с вами, скорблю о вашей потере», – дверь открывает безутешная вдова, за ней в проеме – интеллигентная, небедная квартира. Синие обои, мебель ампир. Портреты в овалах. Сделав приличествующее, чуть опечаленное лицо, вручаю телеграмму. Вдова расписывается на квитанции и вручает мне двадцать копеек на чай.
Обана! Первый раз в жизни получила на чай. Интересное ощущение. Вышла, села на лавочку в скверике покурить и обдумать. Это же какие деньжищи. Прикинула: унижают ли чаевые человека? – Неа, не унижают, только радуют; извините, вдова и покойник. Вам время тлеть, а мне цвести. Мне восемнадцать лет, и я намерена цвести. Красно-лиловым персидским цветом.
Докурила, вернулась на почту – еще одно скорбное послание. Бодренько отнесла вдове. Вдова приняла послание и по лицу ее прошла тень. Не от могильной сени, но от предстоящего ей ущерба: на этот раз она наградила меня пятнадцатью копейками. Окей, тенденция понятна. «Повадились тут ходить, деньги мои выпрашивать!» – читалось на ее заплаканном лице, хотя я не произносила ни слова, молча протягивала квитанцию и шариковую авторучку на мочальной веревочке и молча же уходила в пахучую тьму подъезда; первый этаж был, со двора. Батареи отопления какие-то с торчащей паклей, ледяные летом. Коричневые, земляного цвета стены. Лампочка вывинчена. Третья телеграмма принесла мне гривенник, а все последующие вдова хватала с нескрываемой ненавистью в глазах и чаевых больше не давала. Просто вырывала телеграммы из моих рук и с глухим стуком захлопывала войлочную, утепленную дверь.
Питерские дворы устроены интересно и запутанно. Нумерация квартир непредсказуемая. 14, 15, 15а, 3, 78, 90, 16, 24, 18, а на самом верхнем этаже – 1. 7-й и 8-й квартир в этом доме нет. А квартира номер 6 есть, но вход в нее из другого дома. Или из подворотни. А на некоторых дверях номеров и вовсе нет, и света на площадке нет, и вот ты стоишь на лестнице черного хода и водишь руками по войлоку, ощупывая дверь и слыша слабую вонь помойного ведра, невидимого во тьме, и различая глухие голоса за дверью, а чаще – глухое молчание, как под водой. Пока найдешь нужную квартиру – потеряешь кучу драгоценного времени. Уже в конце моего почтальонского срока я подружилась с почтальоном-инвалидом, у которого в книжечке была начертана четкая и ясная схема всех парадных и черных ходов Маршрута номер 1 и Маршрута номер 2, – любо-дорого посмотреть! Он работал в штате, за тридцать два рубля, и уважал свою работу: никуда не спешил, ходил не быстро, знал, где опасные квартиры, а где приветливые, где живет маньяк, хватающий тебя за руку, чтобы втащить в свое жаркое, удушающе пахнущее сладким одеколоном жилище, а где живут девушки-близнецы, кто лежит прикованный к кровати, а у кого неделями никого нет дома. Странный был человек, немножко ку-ку, инвалид по голове. Ничего, кроме разноса телеграмм, его вообще не интересовало.
Он был как бы такой солдат Почтового Государства, государственный человек, без юмора. Почтовое дело представлялось ему, кажется, сияющим Проектом, одной из систем, благодаря которой Государственный Организм функционирует: лимфатической системой, или там нервной. Он гордился, что он часть этого Проекта. А нас, временных и легкомысленных, он как минимум не уважал. Должно быть, он виделся себе старинным, еще 1808-го какого-нибудь года, чиновником в свежеизобретенном мундире Почтового ведомства: темно-зеленый кафтан с черным воротником и черными же обшлагами, на пуговицах – перекрещенные якорь и топор. Мне, во всяком случае, он виделся именно таковым, и, завидев его издалека в слабом летнем потоке людей, прямого, сухого, возвращающегося с маршрута, я думала: вот идет, сквозь беспечную и смеющуюся толпу, само Государство, идет размеренно и строго и пахнет сургучом, мочальными веревочками, чернильными карандашами и резиновыми штампами.
Он показал мне свои схемы, не выпуская их из рук, не делясь со мной: если надо, пройди по парадным сама и срисуй. Он как бы давал понять, что причастен Государственным Секретам, планам железных дорог, синькам подземных заводов, чертежам стратегических зернохранилищ, но врагу и конкуренту не отдаст. Если пуля, если смерть – быстро схватит и проглотит книжечку, разжует! И чернила с разлинованных страниц будут стекать в его уже мертвую гортань.
В этом районе было много старых красивых домов, еще не полностью умерших, несмотря ни на что: несмотря на блокаду, на советскую нищету, на тени без вины арестованных и уведенных отсюда на подгибающихся ногах по этим чуть сбитым ступеням. В одной парадной, в фойе, был камин – так и простоял, холодный и запустелый, с дореволюционных времен. А наверно, когда-то его топили, и по лестнице вверх поднималась ковровая дорожка, ну, хотя бы до бельэтажа или там третьего этажа. И было тепло, и был консьерж с усами. И пахло кофе и ванилью. И лифт был коробкой света в сквозном, ажурном колодце. А теперь камин – могильная яма – был покрашен масляной зеленой краской, как и вся парадная. Прямо по мрамору, масляной зеленой краской.
А квартиры в основном были, конечно, коммунальными. Поэтому на дверях было по нескольку звонков, причем встречались и старые-престарые, – плоская щеколда размером с половинку бабочки, с надписью кругом по латунному кружку: ПРОШУ ПОВЕРНУТЬ. Это был звонок механический, не электрический. Я знаю, как он работал, у наших знакомых такой был в квартире. От бабочки идет проволока, потом там под потолком латунная планка, и к ней подвязан колокольчик. Повернешь бабочку – колокольчик зазвонит. (Когда население обнаружило, что латунь содержит медь – ценный металл, все эти милые «ПРОШУ…» были вырваны по-мандельштамовски, с мясом, и сданы в металлолом; отвинчивали и медные ручки с дверей, но их не сдавали, они просто наполнили собой комиссионные магазины. Такие красивые делали ручки в 1914 году! Лилии, водоросли, а не ручки.)
А на одной двери был звонок удивительный. Стеклянная коробочка, имя хозяина, и когда ты звонишь, загорается лампочка в коробочке и высвечивается надпись: «Слышу. Иду». И они слышат! И идут! Какие чудесные люди! А если никого нет дома, то надпись «Извините, дома никого нет». Я спросила открывшую мне девушку, как переключаются надписи? Оказалось, это работает от ключа в комнате. Уходя, поворачивают ключ – и вот «нет дома». Как это прекрасно!
Отнесешь телеграмму в дальний конец Маршрута, километр туда, километр назад, вернешься – а уже новая лежит, тебя ждет. Снова иди туда же. Мне было восемнадцать лет, мне хотелось привнести разумность и порядок в устройство почтовой службы, если не всего мироздания, хотелось быть полезной. Я говорила начальнице отделения: «Но почему же я должна так спешить отнести “встречную” телеграмму? Человек приезжает только через неделю! Да и люди все днем на работе. Давайте я накоплю штук десять и часа через два-три пройду по Маршруту. И мне веселее, и почта деньги сэкономит».
Но она пугливо отвечала: нет, нет, нельзя; такова инструкция, относить сразу. Она вообще была женщиной испуганной, встревоженной, согнувшейся под каким-то невидимым грузом. Как-то утром, прекрасным и сияющим, как и весь тот июнь, – росистым, с белой сиренью, с птичьим щебетом, – я видела, как она торопливо прошла на работу, ссутуленная, очками вперед, ничего не видя, кроме своей государственной заботы; руки плетьми висели перед туловищем. Она плохо спала; утро ее не радовало; росу долой, птиц к черту, сирень в топку. Есть ведь инструкция, а люди норовят ее нарушить. Как проследить? Как навести порядок? Каждого не проверишь! Не пойдешь за ним одновременно по Маршруту номер 1 и Маршруту номер 2! А тут еще и секретное учреждение! Сигма! Приходит зашифрованное сообщение по государственным телеграфным проводам в засекреченную государственную Сигму! И эту наисекретнейшую телеграмму с болью отдаешь в руки легкомысленной вертихвостке! А если враги как-нибудь чего-нибудь там? Можно было бы подождать полчаса, дождаться инвалида с Маршрута номер 2 и поручить Гостайну ему. Он солдат! Он в мундире! Но ждать нельзя! Инструкция! Вот где засада.
И она вручала мне тщательно заклеенную телеграмму для Сигмы. Я должна была промаршировать прямо на проходную этого загадочного секретного учреждения и молча передать Гостайну в руки вахтера в чине не меньше полковника. Так же молча получить расписку. И – строевым шагом – назад. Она сжимала мне руки своими холодными руками, с тревогой и недоверием вглядываясь мне глубоко в глаза: доставишь? не подведешь? могу ли довериться? Она глядела мне вслед, стуча зубами от волнения, но ни разу не было, чтобы я ушла подземными тропами к врагам, унося шифры и коды.
Бедная, она всегда была на посту! Между тем, местное население, как это всегда бывает, прекрасно знало, что таится за стенами без вывески: институт прикладной химии, занимавшийся отравляющими веществами и взрывчаткой и испоганивший на десятилетия воду и землю в красивейшем месте города. Для тех, кто не знает нашей топографии: вот так Пушкинский Дом, а вот так – через реку – баки с зарином и заманом, не знаю, с ипритом каким. Рачительно так, по-советски. Я в первый же раз запуталась, куда идти: ну а как, если вывески и адреса нет? «А вы не знаете, где тут Сигма какая-то?..» – «А, ГИПХ! Вон там перейдете и вон туда! Вдоль забора, а там проходная!» Естественно, я отгибала уголок, запускала глаз под охранную ленточку и читала секретные телеграммы, отправляемые Центром Сигме по открытой связи. Всякий бы прочитал. Ничего там интересного не было.
Зато по другую сторону Кронверкского проспекта простирался мирный Зоологический Сад, тоже утопавший в белой и лиловой сирени, и туда я тоже иногда ходила: на Алтае поймали медвежонка и спрашивали, не надо ли саду медведя? Потом почему-то пришла телеграмма, сообщавшая, что украли шестьдесят одеял. Каких одеял? Кто мог их украсть? Где? При чем тут Зоосад? Все это были клочки, обрывки чужих историй, рассыпанная мозаика, форточки в чужую жизнь, – облачко музыки из окна, смех из распахнувшейся двери, таинственный угол комнаты, видный через щель в занавесках. Где-то там жила самая загадочная из моих адресатов – некая Конкордия Дрожжеедкина. Сколько ей было лет? Как можно было так назвать девочку? Счастлива ли она? Видит ли из своего окна белую ночь, подворотни, наполненные прозрачной мглой, и кусты цвета сумерек? Кого она любит? Кто любит ее? А я, кого я люблю?
Я бесплатно пробиралась в Зоосад – почтальону можно – и забредала в дальние углы, к воде, к Неве, там, где птицы, там где никому не интересно: люди ведь ходят смотреть на слона, на белых медведей, на жирафа, на площадку молодняка, где можно погладить маленьких, еще безобидных тигрят, а на птиц смотреть не ходят. И я задумала вырвать у павлина перо и носить его в волосах или как-то еще, я точно не придумала. Просто вот захотелось павлинье перо, и все тут. Я решила прикормить павлина булочкой, а когда он подойдет близко к прутьям клетки, схватить его за хвост – может быть, перо и выпадет. Вон же там, на земле, рукой не дотянешься, валяются сброшенные птицами перья. Но вольер был забран густой сеткой, и павлин смотрел на меня враждебно, и булочка моя его не соблазнила, и над всей аллеей внезапно раздался громкий, издевательский хохот: меня явно разоблачили сторожа.
Я отдернулась от места совершаемого преступления, торопливо вставая с четверенек, делая вид, что ничего не происходит, отряхивая коленки и придавая лицу отстраненное выражение: я? я ничего, я просто склонилась надпись прочитать, плохо вижу. Но рядом никого не было, и на аллеях никого не было видно, а насмешливый женский хохот, звонкий, издевательский, висел в теплом воздухе зонтиком, куполом, полусферой летнего неба. А-ха-ха-ха-ха! – надо мной, и над моими планами обобрать павлина, и над моими скопидомскими расчетами – копеечка к копеечке, всё в кубышку; и над моими планами цвести, и над моими планами жить, – сам по себе висел этот смех, как будто мироздание внезапно обратило на меня внимание: ага, это ты подсматриваешь за чужими жизнями, мелкая мошка? – да ты сама как на ладони! А-ха-ха-ха-ха!..
Это был какой-то момент истины, непонятно какой, но истины: когда над вами смеются, а кто, не видать, – открываются какие-то внутренние горизонты, раздвигаются стены, загорается свет, расстилается простор. Я стояла, вросши ногами в плотную песчаную дорожку, объятая смутным экзистенциальным стыдом. Вот так будет на Страшном Суде. А-ха-ха-ха-ха!.. – женщина, она же Бог, начала свои разоблачения по третьему кругу, и я ее увидела: светлая, с серыми крыльями, с тонкими длинными ногами, она разинула клюв и, запрокинув голову, хохотала в своем вольере: чайка-хохотунья, она же степная чайка, Larus cachinnans. Пошла к черту, дура. Напугала только.
…«Пришлите судно и клизму». Я отнесла телеграмму – никого – бланк в ящик – вернуться на почту. «Не надо судна и клизмы». Так надо или уже не надо? Что у них там случилось? Я спросила у начальницы, – она никогда не спала, сидела и смотрела воспаленными красными глазами на неуправляемый мир, – так мне относить эти вот телеграммы или нет? Одна ведь отменяет другую. И дома у них никого. Может, они катаются по Неве на кораблике? Может, ну их? «Неси! Инструкция говорит: неси! Мало ли что. С нас спросят!»
Я отнесла раз, и два; и третий раз я отнесла загадочным держателям кружки Эсмарха взаимоисключающие просьбы. Я ходила взад-вперед до позднего вечера, но квартира молчала, никто мне не открыл, никто не перезвонил на почту, и назавтра никого не было, и послезавтра тоже. А потом мне все это надоело. И я уволилась.
Инвалид посмотрел мне вслед с осуждением: так он и знал, из меня не вышло солдата Почтовой Службы. Начальница уже с тревогой думала о следующем работнике – он только что вышел из тюрьмы, был белый как утопленник, и его водила за руку молодая красивая жена с огромным, дутым золотым браслетом. «Как ты думаешь, ему доверять можно?» – спросила она меня, но не стала ждать ответа, ведь она разговаривала сама с собой.
Я уволилась, заработав целые тридцать пять рублей, прямо как стипендия отличника; наелась черносмородинного мороженого с сиропом и уехала на дачу: июль обещал быть таким же чудным, каким был июнь. Чудным он и был. Только мне долго потом казалось, что мир как-то неуловимо изменился. Как будто шумы какие-то умолкли. Или я оглохла, что ли.
Варвары
Если бы моя жизнь сложилась иначе, я сшила бы себе желтые шелковые шаровары, носила бы турецкие гаремные тапки с загнутыми носами и двадцать пять серебряных цепочек, а лучше монисто – туркменское какое-нибудь такое, или грузинское. Браслеты, конечно, до локтя. Шали розовые, жаркие, с голубыми огурцами, с фиолетовыми розами. Тюрбаны. Курила бы кальян. Глаза подводила бы сурьмой, волосы – когда не тюрбан – носила бы вольными, распущенными, а по праздникам надевала бы тюбетеечку или жемчужную сетку.
Я варвар, мне можно.
Собственно, никто и никогда мне не препятствовал именно так почему-либо одеваться, просто денег не было, да и куда бы я поперлась в таком дурацком виде? У нас не Серебряный век, и тут не Монпарнас. А главное – темперамент мне не позволял шляться в таких театрально-балаганных, Бакстовских костюмах, потому что они предполагают компанию богемную, расслабленную, пьющую, вольных нравов, я же была кабинетным очкариком и книжным червем, и даже на танцы ходить не любила: скучно.
Нас у мамы было семеро, причем девочек – пять, и ни одна шить не умела, так что с красивой одеждой были проблемы. В магазинах висели какие-то халаты. Были какие-то неумелые портнихи. Однажды в допотопные времена мне что-то сшили в ателье – уж не помню что. Помню, что у приемщицы были необыкновенно длинные красные ногти невиданной красы, они летали над белыми разлинованными квитанциями, как лепестки. Я была заворожена ими, сказала маме. Мама – сухо, как всегда – заметила мне, что это ногти бездельницы.
Сама мама трудилась за семерых: готовила, подметала, стирала, вязала, делала всю черную ручную работу, таскала тяжести, копалась на даче в огороде, а кроме того, обучала младших детей иностранным языкам. У нее вообще никаких ногтей не было, а ей, наверно, хотелось. Но если она сказала, что длинные красные ногти это неправильно, то значит неправильно.
Папа ездил за границу и старался нам всем привезти подарки. Это было непросто. Однажды он купил пять пар обуви – для всех дочерей, – и его задержали на таможне за намерение спекулировать. Все оправдания, что детей семеро, а сам он профессор Университета, не действовали. Отбился с трудом.