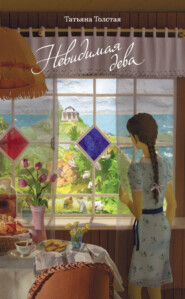По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кысь. Зверотур. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– От то-то ты и дура!!! «Слеповран»! Слеповран без голосу, на то он и слеповран!
Баба глупая опять вякнет:
– Может, он и слепой, а голос у его трубный. Я ж слышу, чай не глухая.
Все:
– Он слепой-то получше твоего видит! Что ему надо, он видит! У его вся сила-то в когтях! А не голос!
Хозяин – бабы этой муж – замечание ей делает:
– Ладно, баба, поговорила – и иди себе. Вари чего-нибудь. Много рассуждать стала.
Вроде бы все как всегда: беседуют, мысли сообщают, сумнения в природе выражают. А Бенедикту вдруг так-то тошнехонько станет! Будто вот тут вот, в середке, изжога припечет, а вокруг того печева, кольцом, – холод какой. И в спине тоже вроде неудовольствие. И за ушами тягучка. И слюна горчит.
Другой раз кому пожалуешься, а тебе и скажут:
– Это тебе кысь в спину смотрит.
Нет. Вряд ли. Непохоже. Это внутрях чего-то уклоняется, а может, как Никита Иваныч говорит, это ФЕЛОСОФИЯ.
Смотришь на людей – на мужиков, на баб, – словно впервые видишь, словно ты другой породы, али только что из лесу вышел, али, наоборот, в лес вошел. И все тебе в диковинку, в скучную диковинку. Вот, думаешь, баба: ну зачем она, баба? Щеки, живот, глазами мыргает, говорит себе чего-то. Головой вертит, губами шлепает, а внутри у ей что? Темнота мясная, кости скрипучие, кишки колечком, а больше и нет ничего. Смеется, пужается, брови хмурит – а есть ли у ей и вправду чувства какие? Мысли? А ну как она притворяется бабой, а сама оборотень болотный? Вроде тех, что по кустам гукают, в старой листве шуршат, скрипят ветвями, а себя не покажут? А вот ежели встать, подойти да проверить: пальцы рогулькой расставить да ей в глаза-то тыкнуть? Что будет? Вяк! – и упадет, верно?
Ну, ясно, крику не оберешься, мужики тебе по шеям накладают, не посмотрят, что ты государственный писец, казенный голубчик, – разворотят тебе мордовасию; а ежели какой малый мурза дознание учинит – клясться будут и божиться, что это так и было, что синяя харя – это у тебя обычное Последствие, что и у родителев твоих такое же рыло неудобосмотримое на морде висело, и у бабушки.
Вот и сегодня, к вечеру, в аккурат на самом рабочем месте, невесть с какой причины у Бенедикта внутрях ФЕЛОСОФИЯ засвербила. Мутно-мутно, как тень под водой, стало что-то в сердце поворачиваться, томить и звать, а куды? – и не скажешь. В спине как озноб какой, и на слезу потянуло. И то ли злоба разжигает, то ли летать хочется. Или жениться.
Колобок из головы нейдет, страшная такая история. Как он все пел, пел… Все катился, катился… На сметане мешон, на окошке стужон… Вот тебе и стужон.
Варвара Лукинишна тоже с разговорами с этими со своими неясными. «Конь» ей знать надо. Беспокойная какая. Мало ли что Федор Кузьмич, слава ему, в стихах выразит. На то и стихи, чтоб ни бельмесу не понимать. А что Федор Кузьмич, слава ему, на голоса разговаривает, так это что ж… Это, поди, всякий так. Вон Бенедикт: с утра из дому по солнышку шел, снегом поскрипывал, мысли всякие хорошие в голове вертел, и все ему было нипочем. А нынче, на ночь глядя, весь он словно другой: слабый и боязливый, и темь за окошком такая, что на улицу выйти – как в валенок головой, а надо. И Оленьки нет, а без нее в избе еще тошнее.
Ударили в колотушку: кончай работу.
Голубчики с мест повскакали, письменные палочки побросали, слюной свечки тушат, спешат, зипуны натягивают, в дверях толкаются. Шакал Демьяныч, малый мурза, столы обходит, готовые свитки в короб собирает, пустые чернильницы в туеса запихивает, письменные палочки ветошкой обтирает. Ворчит, что ржави много изводим, что палочек не напасесси, дак на то он и мурза, чтобы зудеть, людей язвить, а дана ему такая власть над нами, потому как он есть Ветеран Ледового Побоища. А что за Побоище, и в какие годы и с кем Шакал Демьяныч побивался, и много ли голубчиков уложил палицей али клюкой – про то не знаем, да и знать не хотим, да и скажут – не запомним.
Вот и кончен день, и погас, и отгорел, и пала ночь на городок, и Оленька-душа растворилась где-то в кривых улочках, в снежных просторах, как придуманная; и съеден мимолетный друг-колобок, и теперь Бенедикту поспешать домой, добираться по пригоркам, по сугробам, спотыкаясь, и падая, и зачерпывая снег рукавом, и нашаривая тропинку посреди зимы, и разводя зиму руками.
Зима – ведь это что? Это как? Это – вошел ты в избу с мороза, валенками топая, чтоб сбить снег, обтряхиваешь и зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк; повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы: не погасло ли? – не дай бог; рассупонившись, слабеешь в тепле, будто благодаришь кого; и, торопливо вздув огонь, подкормив его сухой, старой ржавью, щепками, полешками, тянешь из вороха тряпиц еще теплый горшок с мышиными щами. Пошарив в потайном укрытии, за печью, достаешь сверток с ложицей и вилицей – и опять будто благодарен: все цело, не поперли, вора, знать, не было, а коли и был, дак не нашел.
И, похлебав привычного, негустого супу, сплюнув в кулак коготки, задумаешься, глядя в слабый, синеватый огонек свечки, слушая, как шуршит под полом, как трещит в печи, как воет, подступает, жалуется за окном, просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное, незримое; и представится тебе вдруг твоя изба далекой и малой, словно с дерева смотришь, и весь городок издалека представится, как оброненный в сугроб, и безлюдные поля вокруг, где метель ходит белыми столбами, как тот, кого волокут под руки, а голова запрокинулась; и северные леса представятся, пустынные, темные, не-проходимые, и качаются ветки северных деревьев, и качается на ветках, – вверх-вниз, – незримая кысь: перебирает лапами, вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской невидимой голове, и плачет, голодная, и тянется, вся тянется к жилью, к теплой крови, постукивающей в человечьей шее: кы-ысь! кы-ысь!
И тревога холодком, маленькой лапкой тронет сердце, и вздрогнешь, передернешься, глянешь вокруг зорко, словно ты сам себе чужой: что это? Кто я?
Кто я?!..
Фу-ты… Это же я. Словно на минуточку себя выпустил из рук, чуть не уронил, еле успел подхватить… Фу… Вот что она делает, кысь-то, вот что она уже издалека с тобой делает, вот как она вынюхивает, чует, нашаривает, – через дальнюю даль, сквозь снежную бурю, сквозь толстые бревенчатые стены, а случись она рядом?..
Нет, нет, нельзя, ну ее, не думать о ней, гнать, не думать, вот засмеяться надо или сплясать – вприсядку пуститься, как на Майский Выходной, песню дробную, громкую запеть!
Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Да разлюлюлечки ду-ду! Да трилялюшечки мои! Да тритатушечки мои!!!
Вот так… Вроде легче… Искусство возвышает, учит Федор Кузьмич, слава ему. Но искусство для искусства – это нехорошо, учит Федор Кузьмич, слава ему. Искусство должно быть тесно связано с жизнью. «Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?» – может быть… Не знаю.
Да и что мы про жизнь знаем? Ежели подумать? Кто ей велел быть, жизни-то? Отчего солнце по небу катится, отчего мышь шебуршит, деревья кверху тянутся, русалка в реке плещет, ветер цветами пахнет, человек человека палкой по голове бьет? Отчего другой раз и бить неохота, а тянет словно уйти куда, летом, без дорог, без путей, туда, на восход солнца, где травы светлые по плечи, где синие реки играют, а над реками мухи золотые толкутся, неведомы деревья ветви до воды свесили, а на тех ветвях, слышь, белым-белая Княжья Птица Паулин. А глаза у той Птицы Паулин в пол-лица, а рот человечий, красный. А красоты она таковой, Княжья Птица-то, что нет ей от самой себя покою: тулово белым резным пером укрыто, а хвост на семь аршин, как сеть плетеная висит, как марь кружевная. Птица Паулин голову все повертывает, саму себя все осматривает и всю себя, ненаглядную, целует. И никому из людей от той белой птицы отродясь никакого вреда не бывало, нет и не будет. Аминь.
Зело
Богатые – они потому богатыми называются, что богато живут.
Взять Варсонофий Силыча, Большого Мурзу. Он над всеми Складами надзирает, решает, когда Складской День назначить, да чья очередь подошла, да какой товар народу раздать.
Ума Варсонофий Силыч государственного, такового же и вида: тучности прямо изумительной, даже и для мурзы редкостной. Вот ежели человек шесть голубчиков вместе связать, так это и до половины Варсонофий Силыча недотянет; нет, недотянет!
Голос у него тяжелый, сиплый и вроде как медленный. Скажем, надобно объявить работникам, чтоб в воскресенье, под Майский Выходной, Центральный Склад отворили и выдали народу по полпуда хлебеды да по два мотка ниток некрашеных. Другой бы, кто попроще, открыл рот, да и сказал что надобно, да и опять рот закрыл, до другого раза.
А вот и вышел бы подход негосударственный, и никто б его, такого, не слушался, и не бывать бы такому Мурзой.
А у Варсонофий Силыча как заведено: призовет с утра малых мурз, Складских Работников, и начнет: «Р-а-з-д-а-й-т-е.......................», а что раздать, и не выговорит до вечера, потому как ему казенного добра жалко.
А и то, как не пожалеть! Это, полпуда-то, – на одного голубчика, а еще выдай и на бабу его, и на детишек, и на дедульку-бабульку слепеньких да хроменьких, да с каждого обихода родня али работники, да и перерожденцев кормить надо? – надо, – а изоб-то в одной Центральной Слободе, почитай, тыща, а ежели весь Федор-Кузьмичск, весь городок наш, набежит кормиться, так это же добра не напасешься!
А самому есть? А семье? А Складским Работникам? А холопам ихним? И-и, милые! – то-то! Без подхода не-льзя!
И ум нужен: думу думать. Скажем, крышки. Опять-таки, простой голубчик, из жалостливых, как бы рассудил? – взять все крышки да попросту и раздать. Мигом бы слух прошел, набежало бы народу – не продохнуть, толчея, давка, крики; на закукорках у ходячих – увечные, те, кого в прошлые разы подавили; вопят: «Инвалиду!.. Инвалиду крышку!!!»; в толпе дети малые снуют – по карманам шарить, подворовывать; кто кота на веревке тащит, кто козляка, чтоб лишнюю крышку прихватить: это, дескать, шурин мой, тоже хочет, а что у него шерсть, рога али вымя – дак это, голубчики, Последствие, али вы сами беленькие? – то-то.
Друг друга поубивают, крышек натащат сколько повезет, – у кого и сердце насмерть лопнет таскаючи, – а опосля в избе сидят, смотрят чего набрано, сами в ум не возьмут: а чего с ними делать-то? Чего ими покрывать? Эта велика, а та мала, никуды не приткнешь. Повертят-повертят, побьют с досады, да и свалят на задний двор под плетень.
Нет, с нами так нельзя.
Вот Варсонофий Силыч, все это рассудивши, да рассмотревши, да думу думавши, и решает: крышек нипочем не выдавать. И народ, и крышки целее будут.
А еще думает: коли суп без крышек кипит, дак он наваристее выходит, вроде как уседает. Оно и вкусней.
А еще думает: коли крышек нетути, дак мечта у каждого будет заветная: эх, крышечку бы мне! А с мечтой и жить сподручней, и засыпать слаще.
Вот оно-то и есть государственный ум.
Оттого и живет Варсонофий Силыч богато, терем у него двухъярусный, с маковками, на верхнем ярусе в обвод терема настил пущен на подпорках, называется галерея, по галерее – для страху – холопы расхаживают, поглядывают, нет ли против хозяина злоумышления, не желает ли кто камнем кинуть в его палаты али чем побольнее.
Во дворе службы разные: сараи, амбары, хлев для перерожденцев, бараки, где холопы живут. А холопов тьма-тьмущая: и мышеловные холопы, и мукомольные, и квасовары, и грибышатники, и хвощевники, и кого только нет! Есть и девки-поломойки, и пряхи, и ткачихи, а есть одна баба особая, и приставлена та баба снежки катать, толчеными огнецами, как мукой, обваливать и к столу подавать, и Варсонофий Силыч те снежки кушать изволит.
Бенедикт один раз сподобился Варсонофий Силыча во всей славе его лицезреть: шел себе мимо да и видит: стой, не пройдешь, малые мурзы дорогу перегораживают, на голубчиков гавкают, а кого и по спине колом огреют: не суйся. Тут тесовые ворота отворяются, колокольцы звенят, перерожденцы валенками топочут, сани скрипят, – ма-а-а-а-атушки мои! – в санях Варсонофий Силыч гора-горой рассемши. Народ обрадовался, шапки поскидал, в пояс кланяется: «Доброго здоровьичка, долгих лет тебе жизни, Варсонофий Силыч, кормилец ты наш ненаглядный, супруге твоей тож, деткам тож! Что б мы без тебя пили-ели, родной ты наш, золотинушка ты наша слатенькая!»
Вот так ему все кричат – и Бенедикт тоже, – чтобы он, ирод, размяк маленько, еды другой раз прибавил: сальца, репы, хвощей к праздничку, а не сам все съедал-то.
А вот Федора Кузьмича Бенедикт никогда в глаза не видал. И уж не чаял сподобиться.
И вот оно, пожалуйста: нонеча, в обычный день, самый что ни на есть простецкий февральский денек, серый, мутноватый, метелистый-порошистый, с северным тревожным ветерком, – дует он и сметает снежный порошок с крыш за воротник, холодит голубчикам шею, набивается в бороду, красит уши в маков цвет, – словом, в обычный такой день, сегодня! сегодня! – подкатили к Рабочей Избе сани, а в санях гонцы разряженные, в кушаках, да шапках, да рукавицах, да ноговицах, да боже ты мой чего на них только не наверчено! – и объявили: жалует вашу Избу сам Федор Кузьмич, слава ему, пресветлым своим посещением.