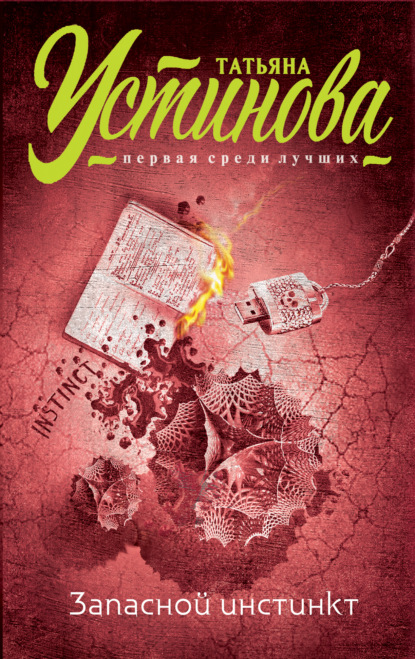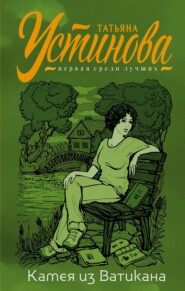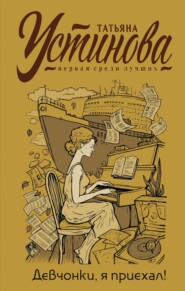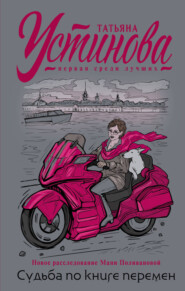По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Запасной инстинкт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ничего нельзя изменить. Ничего нельзя отвратить. Ничего нельзя поправить, потому что поздно, поздно, потому что вот она, уже близко, и это вовсе не миллион тонн воды, а конец мира.
Он оглядывался на волну, ждал ее и боялся. И знал, что женщина, которая рядом, тоже ждет и боится. И все это было так же не похоже на обычные удовольствия, которые он практиковал, как вечерний прибой в городе Анапа на ту самую волну!..
Он смотрел ей в лицо и, кажется, понимал, что это катастрофа, катастрофа!.. И кто-то управлял им, потому что сам собой управлять он никак не мог и был весь мокрый, и от стиснутых зубов ломило в висках и в затылке, и он знал, что больше не может, не может, совсем не может, и тут волна рухнула на пустынный берег, залитый пеной яростного дождя, где на сотню миль вокруг не было ничего живого! Волна ударила его, потащила за собой, захлебывающегося, раздавленного, бездыханного, потому что внутри ее никак нельзя было дышать, и легкие словно выгорали изнутри, и, кажется, в эту секунду он увидел что-то такое, чего никогда не видел раньше, и понял, что катастрофа – это совсем не страшно, и очень просто, и в ней, правда, есть что-то другое, чего не видно со стороны. И ему почудилось, что он видит это, и знает, и понимает – и тогда волна отшвырнула его, и он остался на берегу, залитом яростным отвесным дождем.
Совершенно один, на многие десятки миль вокруг.
Катастрофа.
Он очнулся, потому что рядом с ним происходило что-то странное, чего не должно было происходить. Он открыл глаза и посмотрел.
Потолок – белый. По краям лепнина. Бригада строителей делала ремонт и намеревалась положить полированные доски как раз по этой самой лепнине. Троепольскому было все равно, доски так доски. Приехала его мать и дала бригадиру по шее, это она умела. «Вы что, уважаемый? – спросила сердито. – Или вы тупой? Этим потолкам двести лет, а вы хотите безобразий сверху наколотить!» Бригадир раскаялся и «безобразий» не «наколотил».
Троепольский так и эдак изучил лепнину. Голова болела, как с похмелья, и по телу словно проехался паровой каток. Глазам в орбитах тоже было неудобно, песок, что ли, насыпался?..
Опять шевеление где-то рядом. Что за черт?!
Он стремительно приподнялся, охнул, потому что чернота вдруг залила мозг, сел и помотал головой.
В ней с шелестом осыпалась чернота, и он все понял.
Волна. Мировая катастрофа.
Придерживая голову рукой, он посмотрел вокруг и обнаружил Полину Светлову, сотрудницу и бывшую любовницу, только что опять ставшую настоящей. Она лежала на животе, на краю императорской кровати, довольно далеко от него. Никаких признаков жизни не подавала.
Неужели умерла?..
– Полька?..
Писк, похожий на мышиный, шевеление, он в панике отдернул руку, которой коснулось что-то мокрое и живое. Ему показалось – змея.
Конечно, это была никакая не змея, а голая хохлатая собака Гуччи, которая в истерическом припадке тряслась рядом с его ладонью, поскуливала, подергивалась и тыкалась в него то боком, то носом, косила карим глазом, встряхивала ушами «с начесом».
– Полька, тут… твоя собака.
– М-м…
Так как она даже не шевельнулась, Троепольский подхватил Гуччи под голый розовый живот и, морщась от отвращения, ссадил на пол. Тот посмотрел на него с печальной укоризной и затрясся с утроенной силой. Троепольский отвернулся.
– Полька.
Она шевельнулась и осталась лежать. Арсений сверху задумчиво посмотрел на нее.
Он очень быстро остывал и знал это за собой. Он уже думал «про другое», и теперь это «другое» не давало ему покоя. Не то чтобы он раскаивался в содеянном, но ему очень хотелось, чтобы этого «содеянного» уже как бы и не было. Может быть, именно потому, что этот раз оказался каким-то особенно… впечатляющим.
– Полька, ты слышишь меня?
– Нет.
Он изумился.
– Нет?
– Нет.
Он перекатился на ее сторону и положил руку ей на спину. Спина была очень горячей, как будто температура поднялась. Она изогнулась – волосы перетекли по спине, – сняла его руку и сунула себе под щеку.
Троепольский замер.
Нежностей он не любил, считал, что они «расслабляют», а расслабляться ему было решительно некогда.
Федьку убили. Его самого три дня продержали в КПЗ. Он давно должен быть на работе. Он должен найти убийцу и вернуть разум сотрудникам, которые наверняка там без него совсем пропали, и работа пропала, и… Все, больше «падать в любовь» он не мог.
– Полька, нам надо… Надо вставать и ехать.
Она повернулась, не отпуская его руки, и он моментально отвел глаза.
– И собака твоя, наверное…
– Наверное, – согласилась Полина Светлова.
– Надо ехать.
– Понятно.
– Да ничего тебе не понятно!
Она разжала свои пальцы, державшие его ладонь, словно отпустила на волю.
– Тебе хочется сделать вид, что ничего не было?
Черт бы ее взял!
– Полька, мне некогда делать вид. Мне надо ехать и разгребать завалы.
– Разгребание завалов – очень благородное дело, – заключила Полина Светлова, подтянула длинные ноги, села и двумя руками откинула за плечи волосы. Троепольский опять отвел глаза. Волна, выбросившая его на пустынный берег, все еще не откатилась назад, и океан продолжал бушевать за спиной, и в висках ломило, оттого что он изо всех сил стискивал зубы, когда его швыряло внутри волны, и… и…
Зря он все это затеял. Не надо было. Недаром инстинкты вопили.
Неизвестно зачем он поцеловал ее в веко независимым и неловким поцелуем, имевшим условное название «спасибо тебе за чудный секс», слез с императорской кровати, суетливо подобрал с пола свои джинсы и резво потрусил в сторону ванной. Полина Светлова смотрела ему вслед, прищурившись. Собака Гуччи, в свою очередь, смотрела на Полину, выпучив глаза.
– Понял? – спросила Полина у Гуччи. – Вот такой он весь. Зачем мне его любить? Получается, незачем.
Гуччи потряс ушами в знак того, что совершенно незачем.
– Я его давно разлюбила. И вообще не любила.
– Полька, что ты там бормочешь?!