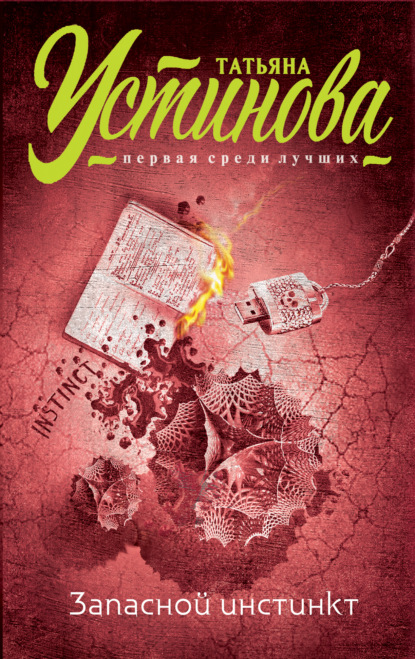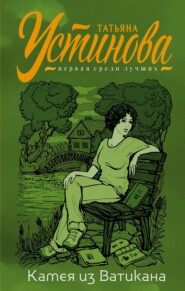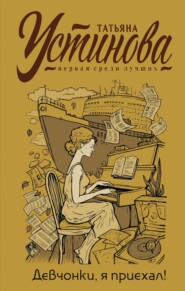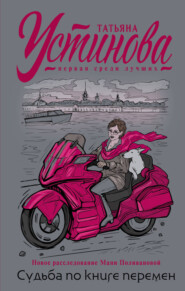По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Запасной инстинкт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мама, замолчи.
– Нам даже не сказали, кто это сделал!
– Мама! – закричала Лера и шваркнула на стол почти полную баночку с йогуртом. Йогурт плюхнул наружу, забрызгал ее водолазку и джинсы. Лера сорвала с крючка полотенце и стала яростно оттирать пятна. Мать смотрела на нее с кротким недоумением – это она умела.
– Никто не знает, кто его убил, мама! Поэтому нам не сказали, черт побери!
Никто не знает. Только она, Лера.
Мать приблизилась, села на краешек стула и отломила кусочек сухого хлебца. Положила в рот и стала жевать, сделав задумчивые глаза.
– Такое несчастье, – прожевав, сказала она. – Жизнь несправедлива.
– Это точно, – буркнула Лера.
Федина смерть все упрощала – во много раз, но мать не должна об этом знать. Лере было жалко своего непутевого дядьку, ночью она даже поплакала потихоньку, чтобы никто не услышал, но подлая мысль, что он ни за что не дал бы ей жить так, как она собиралась, перевешивала все остальные.
Мать попечалилась немного и спросила деловито:
– А наследство? Когда мы сможем его получить?
– Я не знаю.
– Лерочка, это непременно нужно выяснить! Это очень важный вопрос. И налоги! Какие налоги мы должны заплатить? Марья Семеновна говорила, что сейчас с этим делом очень строго.
Марью Семеновну и налоги Лера вынести не смогла – в конце концов, Федя ничего этого не заслужил! Да, он мешал ей, и в последнее время она ненавидела его, остро и бешено, но все равно он не заслужил, черт возьми, таких разговоров, еще даже до похорон!
– Мама! Замолчи сейчас же!
– А что такое я сказала? И завещание! Он ничего не говорил тебе про завещание?
Дочь выскочила из-за стола, посмотрела бешеными глазами, кое-как обулась, и дверь бабахнула, закрываясь.
Мать пожала плечами, хотя никто не мог ее видеть – впрочем, как правило, ей было достаточно одного зрителя, самой себя.
– Вся в отца, – сказала она и пересела так, чтобы видеть себя в полированной дверце кухонного шкафа. – Тот был совершенно, совершенно ненормальный!
Полированная дверца отражала розовую щеку, пижамные оборочки и рюши, растрепанную легкую стрижку. Такая стрижка в салоне стоила сто пятьдесят долларов, а на туфли и стрижки денег она не жалела никогда.
Брат иногда кривлялся, давал меньше, чем нужно, но все-таки давал. Она усмехнулась, потянулась гладким и тоже розовым под пижамой телом и налила себе остывшего кофе из кофеварки.
«Галка, иди работай! – бушевал он в последний раз. – Ты же молодая, диплом у тебя есть! Ну сколько это будет продолжаться?! Я не могу всех содержать до смерти!»
До смерти, подумала сестра, прихлебывая кофе. До смерти. Смерть пришла гораздо раньше, чем предполагал ее брат. Как странно.
«Я не могу работать, – отвечала она ему, чуть не плача, – ты же знаешь, Феденька! Я не переношу чужих людей. Я… я устаю от них. Я не могу с ними. Они на меня… давят!»
«Ничего, совсем не задавят, – отвечал ее непробиваемый братец, – приходи к нам в контору, у нас как раз секретарша рожать пошла! Троепольский орал на всю контору. Давай, Галка! Я тебя возьму».
Но одна мысль о том, что она пойдет на работу – да еще секретаршей, прислугой, девочкой на побегушках! – внушала ей отвращение и ужас. Брата она уже почти ненавидела – как он смеет предлагать ей подобную дикость?! Она окончила университет, она человек «с университетским образованием», и работу ей надо соответствующую – красивую, не требующую усилий, такую, чтобы все могли смотреть на нее и восхищаться ею! Какая еще секретарша!
Брат отвязался от нее, потому что она заплакала, а он не выносил женских слез. Но на этот раз плакать ей пришлось довольно долго. Между затяжными детскими всхлипами ее вдруг поразила ужасная мысль – ибо она всегда рыдала и думала о своем. Неожиданно она поняла, что в следующий раз ее рыдания не помогут. Федя даже не смотрел на нее, таращился в свой компьютер, качал ногой в стоптанной тапке.
Она рыдала, а он качал ногой!
Она унижалась, а он смотрел в компьютер!
Она просила, а он раздумывал, дать денег или не дать – вполне мог и не дать!
А потом ему позвонили, и Галя поняла, что дело плохо – совсем. Просто хуже некуда. Брат говорил две минуты, и моментально вытолкал Галю взашей, и денег дал, даже немножко больше, чем она просила, – все из-за звонка.
Она растерялась. Она не знала, что предпринять. Она начала было его расспрашивать, но Федор весело и решительно выставил ее за дверь, так и не ответив ни на один ее встревоженный вопрос.
«Ты должен быть осторожен, – умоляюще сказала она на прощание. – Очень, очень осторожен! С такими вещами не шутят, это… опасно!»
«Я и не шучу», – уверил он очень серьезно, и Галя ему поверила. Он не шутил.
Она ушла от него с явственным ощущением неотвратимости надвигающейся катастрофы и сознанием, что нужно что-то срочно предпринять – такое, что образумило бы ее несчастного брата.
Только… что? Что?!
Советоваться с дочерью было бессмысленно – она глупа, хоть и очень хороша собой. Впрочем, может быть, она так хороша собой именно потому, что глупа.
С матерью? Она еще глупее, чем дочь.
И Галя посоветовалась с Толиком.
Толик был ее любовником много лет – верный, славный, проверенный Толик, гораздо более надежный, чем самый преданный муж. Толик подумал и подтвердил, что дело плохо.
А потом… потом…
Галя поднялась со стула, зачем-то передвинула его к окну, потом вернула на место и поставила в раковину кружку. Смотреть на свое отражение ей больше не хотелось, словно она боялась увидеть там нечто такое, что свело бы ее с ума – вполне могло.
На засыпанном крошками кухонном столе валялись какие-то мятые бумажки, вытряхнутые Лерой из сумки. Она была патологической неряхой, ее дочь. Галя некоторое время раздумывала, что делать, – соблазн оставить все, как есть, был велик. Лерка приедет ночью, есть, пить и скандалить не будет, а завтра утром придет домработница и… что-нибудь придумает. Галя очень любила это выражение.
Федя «что-нибудь придумает», и деньги появятся как по мановению волшебной палочки.
Мама «что-нибудь придумает», и маленькая Лера целую неделю, а то и две, поживет с бабушкой, чтобы Галя могла спокойно отдохнуть.
Домработница тоже «придумает», и белье постирается, суп сварится, посуда помоется.
Чем разгребать этот дурацкий стол в неаппетитных крошках, гораздо лучше… полежать часок в ванне. Правда же лучше?
А если Лерка приедет раньше? Увидит, что мать даже чашку не помыла, разорется, и не остановить ее будет – вся в отца.
Двумя пальцами Галя взяла тряпку с края раковины – тряпка была мокрая и холодная, как жаба, – плюхнула в середину стола и повозила. Крошки посыпались на пол.
Вполне удовлетворенная результатами своего труда, она поволокла тряпку обратно, заехала в кучу бумаг, они разлетелись по всему полу, одна даже под плиту спланировала.