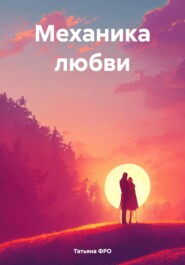По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Каждый пред Богом наг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Каждый пред Богом наг
Татьяна Викторовна ФРО
Сборник рассказов, персонажи которых никак не связаны друг с другом, но в жизни каждого из которых происходят события, изменяющие их отношения к самим себе и к родным и близким людям
Татьяна ФРО
Каждый пред Богом наг
Каждый пред Богом
наг
Жалок,
наг
и убог,
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог…
….......У каждого свой
храм
И каждому свой
гроб…
Иосиф Бродский
ТРАГИЗМ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ
Когда Лёля, единственная, до оторопи и замирания любимая дочь металлическим, но обёрнутым в мягкое голосом, очень тихо сказала: «Мама, я люблю Эльдара…Он мусульманин, мама, и, если ты мою любовь отвергнешь, то я лучше уйду от тебя, я отрекусь от православия и приму его ислам, если он так мне скажет, но я не отрекусь от него, потому что я люблю его…», Наташа взвизгнула мерзким, режущим тембром: «Только через мой труп!!!». В эти мгновения ей показалось, что она свою дочь…не-на-ви-дит, но Наташа успела прикусить язык, чтобы в следующий миг не дать ему выплюнуть: «Будь ты проклята! Ты мне больше не дочь!» – проглотила эти жуткие слова и от их смертельного яда побелела лицом и руками. Лёля страшно испугалась, подхватила маму, оттащила на кухню, влила ей сквозь синие губы валокардин, потом села напротив неё, взяла её руки в свои, уткнулась в них и затихла. Сколько времени они так просидели? Они не знали. Наташа не плакала, ни слёзки не проронила, поцеловала долгим поцелуем мягкое пушистое девичье темечко дочери и прошептала: «Лёлечка моя, пока лучше уходи…».
Лёля с почерневшими, набрякшими глазами молча собрала часть своих вещей и снова взяв мамины руки в свои, поцеловала их и безоговорочно-твёрдо сказала: «Мама, нам лучше пока пожить раздельно, я ведь это не сейчас решила, я уже нашла себе недорогую съемную квартиру, далековато, правда, но платить за неё я смогу: всё-таки и стипендия у меня повышенная, и работа на кафедре…Я всегда буду тебе звонить, и ты…Мама, я очень, очень его люблю…» и – ушла со своим большим чемоданом, тихо и мягко закрыв за собой входную дверь. А Наташа осталась стоять в прихожей. Она так и не заплакала. Ни разу за все свои больше чем 50 лет жизни Наташа не познала ненависти как калёного чувства в его самом чистом виде, ни к кому. Она знала чувства отторжения от того или иного человека, неприязни, брезгливости, гадливости и даже ужаса, но ненависти, то есть, взрывного чувства, толкающего без раздумий убить, столкнуть в пропасть, размозжить башку – не познала ни разу…И теперь она ужаснулась оттого, что оно, непознанное доселе, в какой-то миг вдруг выскочило к дочери! К дочери, любовью к которой Наташа вообще жила на белом свете – только потому, что девочка её стала взрослой и сама хочет делать свою жизнь?!
Тогда оказалось, что не только внутри Наташи, но и вообще всё вокруг неё помертвело и обесцветилось. Наташа видела на мобильнике звонки от Лёли, от бывшего мужа, Игоря, которому Лёля, видимо, всё рассказала, звонки от давних своих приятельниц, даже звонки от Лёлькиных подруг – она не взяла трубку ни разу, как бы ни надрывался бедный мобил. Она читала эсэмэски от них: «Срочно позвони, это важно», «Возьми трубку! Это важно!», «Нужно поговорить, это важно!» – не звонила, не брала, не поговорила: было бы действительно что-то катастрофическое – обязательно сообщили бы в эсэмэске, но такого не было, а, значит, ничего страшного и не случилось.
Она очень быстро уволилась с работы в лицейской библиотеке ничего никому не объясняя, но – категорически: невыносимо было находиться среди сотрудников, волей-неволей вести какие-то, даже и бытовые, разговоры, но и дома ей было было мучительно невыносимо. Она нигде не находила себе места и уходила из дома, едва проснувшись, не проглотив ни куска, а возвращалась поздно Она догадывалась, что несколько раз приезжал Игорь, бывший муж (у него оставался ключ от квартиры), ждал её, но так и уезжал не дождавшись. Нормальный человеческий сон превратился для неё в ошмётья забытья, о еде она просто забывала и всё колесила и колесила то по городу в каких-то незнакомых автобусах от края до края, то на трамваях с длинными маршрутами, то уезжала на дальних электричках куда придётся. Она совсем перестала читать, и это она-то – запойная книгочея, совсем не включала телек: всё, всё было пусто, ненужно, не для чего, не для кого…Проскочила мыслишка о самоубийстве, но не нашла достаточно плодородной почвы и исчезла…
Наташа и в детстве, и в пору юного, казалось бы, самой природой определённого цветения была до жути, до оторопи несимпатична, не уродлива, нет, а просто очень несимпатична внешне, но у неё была её мама, которая укрывала её, как защитным плащом-панцирем, своей любовью от насмешек и ядовитых стрел, как укрывала много лет спустя Наташа свою дочь Лёльку. И в этом коконе маминой любви Наташа спаслась и выросла такой искристо остроумной, легкой и веселой в общении с любым человеком, так отзывчиво впитывала выплакиваемые ей в плечо несчастья и горести, что люди, узнававшие её хоть чуточку ближе, почти сразу начисто переставали видеть её некрасивость, потому что подпадали под нежнейший, мягкий и тёплый свет её удивительной души, которая как будто и перелилась потом, много лет спустя огромной сияющей частью в дочь Лёльку.
Свою некрасивость как девочки, девушки, женщины Наташа сознавала с детства, но, даже в жуткую и жестокую пору отрочества, когда так жаждется всем нутром – нравиться всем, она воспринимала себя, свою некрасивость с лёгкостью непримечательной, бесцветной бабочки, легко и смешливо порхая. И эти лёгкость и смешливость держались на двух незыблемых опорах, невозможных для разрушения: светлой, объемлющей всё Наташкино существо с самого явления на свет, любви её мамы, а ещё – на потрясающей свободе внутри Наташинова существа, то есть, свободе от тяжёлого стремления нравиться, особенно мальчикам, юношам, и это были лёгкость и неземная воздушность оттого, что не надо из себя ничего корчить в жутких потугах нравиться, а можно просто быть собой – такой, какая есть, и вот это было божественной роскошью, мало кому вообще знакомой, мало кому дарованной небесами. Это была потрясающая награда то ли природы, то ли кого-то неведомого и невидимого за некрасивость. Именно эта лёгкость от трезвого осознания своей внешности и влила в Наташину душу незримый свет, притягивающий к ней, теплоту и искристость натуры, не скованной калечащими скрепами «нравиться, лидировать, повелевать, подчинять, владеть». Наташке же свет этот достался от её мамы, как если бы живая вода перелилась из одного сосуда в другой.
Отца своего Наташа совсем не помнила, она была крошечкой, когда он, военный лётчик, погиб где-то на севере, но погребён был здесь, в Москве, так что иногда они с мамой ездили к нему на могилу. Мама замуж больше не вышла, потому что, как она говорила, невозможно было встретить в жизни второго точно такого же человека, как её муж, Наташин отец, а никого другого она не хотела. Но для Наташи безотцовщина не была травмой, во-первых, потому что она отца не помнила, не помнила его рук, его голоса, его лица, и поэтому не тосковала по нему, а, во-вторых, потому что ведь рядом с ней всегда была её МАМА. В детстве отец представлялся ей недосягаемым сказочным принцем с прекрасной внешностью того, кого мама на фотографии указывала как отца, и этот сказочный образ отца был ей несравнимо ближе того реального, о котором говорила мама.
После школы она легко поступила в вожделенный Химико-технологический институт (так он тогда назывался), а окончив его работала в некоем оборонном НИИ по специальности. В эти годы и умерла мучительной смертью её мама, то есть, ещё до Наташиного замужества и до явления в мир внучки – ах, как бы мама ей радовалась! Смерть мамы на всю жизнь осталась для Наташи горем, лютее которого потом для неё не было ни в чём. Больше года после смерти мамы Наташа ездила только на работу и никуда и ни к кому более, ни на дни рождения, ни на праздники, не отвечала ни на какие приглашения, звонки, никто вообще тогда не узнавал в этой девушке ту лёгкую, весёлую и всегда потрясающе остроумную девчонку, какой её и знали все друзья, сотрудники и многочисленные просто знакомые. Даже в Новый год ей ни к кому не хотелось, она запиралась в одиночестве, не наряжала ёлку, никаких яств и вообще ничего не готовила, никого не поздравляла и только плакала в такую ночь немерено, потому что «…мам, мам…а помнишь, как мы с тобой и бабушкой Новый год всегда встречали? Помнишь, как любили мы встречать каждый новый год, как без конца вламывались к нам соседи – деды-морозы, толстые снегурочки с бумажными косичками от ушей, старые зайцы с доморощенными повисшими ушами, серые волки с самодельными картонными мордами, чуть не из всех квартир чуть не со всех этажей вваливались к нам, мы даже дверь не запирали, помнишь, как трезвонил наш древний телефон, а трубку хватал любой из вломившихся зайцев, волков, дедов-морозов, кто оказывался рядом, помнишь, как было это всегда потрясающе весело, мам? Помнишь, как мы песни все вместе орали, мам?..» И вот теперь первый Новый год без мамы, Наташа не открыла дверь квартиры ни на один трезвон, и всё плакала, плакала. Лишь брала мамину старую гитару и тихо пела и пела все те песни, которые когда-то пели они с мамой, а уж на Новый год – особенно. Мамину гитару Наташа не отдала бы никому на свете.
Лишь спустя больше года она чуть приоткрыла наглухо ею задраенную дверь в мир и сделала шажок: позвонила давним друзьям, которые захлебнулись от радости слышать Наташку, и опять начала с ними выкатываться на слёты КСП, без которых раньше и жить-то не могла (так называемые клубы самодеятельной песни, при совке эти КСП, эти слёты были как глотки чистой родниковой воды в непроглядной мути жизни), и это тогда стало единственным местом, где душа её переставала метаться и кровоточить от тоски, и новые, и старые песни, которые она там впитывала, как живительные соки, заживляли её.
…А замуж она выскочила вдруг, именно – вдруг ! – за лихого парня Игоря, с которым познакомилась на одном из таких слётов. Оба они уже лет 10, а то и больше шлялись по одним и тем же слётам, на которых можно было свободно, легко дышать и говорить, только каждый в своей закадычной компании, а познакомились почему-то лишь теперь, вот ведь чудачка-судьба, как хочет, так и рулит! Игорь был хорош собой удивительно, к тому же весел, отчаян, лёгок в любом общении и какого-то глубинного, врождённого, что ли, добросердечия, с которым на деле прекрасно жить в монастыре, но очень тяжело – в миру. Они были ровесники и, когда познакомились, обоим было уже аж за 30, однако, и он и она умудрились до сих пор ни разу не вляпаться в семейную жизнь, и не имело никакого значения, что юность уже отгромыхала, что вроде бы пора и остепениться, только вот никак не получалось остепениться, потому что энергия жизни била в них фонтанами, хотя, казалось бы, с этого возрастного порога должна бы, вроде, затихать…
Она узнала, что после армии Игорь отучился и прекрасно закончил авиационный ВУЗ и, хотя его уговаривали остаться на кафедре вести научную работу и преподавать, он всё-таки решил пойти на завод, как когда-то его любимый дедушка, и с тех пор работал в сборочном цехе одного крупного авиазавода, причём трудился с гигантским энтузиазмом, с энергией, переливающей через все края его натуры, ему и в самом деле нравилась работа на живом производстве, каким бы нелепым и смешным это нынче кому угодно ни показалось.
…Девки же любили его так, что пух и перья летели, причём девки самого разного калибра и полёта, в том числе и очень, очень высокого, благодаря высокопоставленным отцам и всемогущим мамашам, да и что греха таить, и он девчонок любил, но чтобы взять и – жениться, нет, нет, такого уговора с судьбой не было пока, и тут никакие девчоночьи ультиматумы, рыдания с оплеухами по чудесной Игоряшиной физиономии, обманки, мольбы или картины потрясающих возможных перспектив профессионального роста не действовали, отскакивали от него, как гуттаперчевые мячики.
И тут вдруг нарисовалась Наташка, страшненькая, отнюдь уже не молоденькая, без малейших блестящих родственных связей или хотя бы одного, но влиятельного родственника…Все родные Игоря, все друзья онемели и окаменели, когда он вдруг нежданно-негаданно женился на Наташе, как если бы Тунгусский метеорит на башку грохнулся…Но Игорь-то точно знал: никого, кроме Наташки, он не хочет, никого! Эти два чудака как будто вылупились из одного яйца – так они чувствовали друг друга, так слышали, так понимали друг друга. И всё, что другие, то есть, нормальные люди делают с оглушительным шумом, треском и гамом, чтоб уж гульба, свадьба – так чтоб уж вся Вселенная содрогалась, чтобы у всех инопланетян уши вытянулись от зелёного изумления и недоумения: эк, эту маленькую голубую планетку колбасит, вся ходуном ходит – война там, что ли? – так вот, всё что у нормальных людей с грохотом, как и полагается, происходит, эти два инопланетянина, Игорь и Наташа, проделали втихаря ото всех вообще: в ЗАГСе они были лишь вдвоём, в обычных одёжках, а вот столик в дорогом весьма ресторане всё же заказали заранее и позвали на скромное торжество лишь лучшего его, онемевшего друга и её точно так же онемевшую подругу. Они были поразительно счастливы и по-настоящему весело всего лишь вчетвером отгрохали своё событие, а на следующий день тихо отметили всё то же самое у его разобидевшихся родителей. На житьё они поселились у Наташи, в её опустевшей без мамы двухкамерной конурке, хотя родители Игоря, очень солидные, состоятельные люди и звали их к себе, в роскошную квартиру на Кутузовке.
Так и получилось, что КСП (вроде даже нелепо звучит) и Игорь вытянули Наташу из трясины, в которую она неминуемо и добровольно погружалась больше года после смерти мамы.
А меньше, чем через полгода родилась крепенькая, большая и здоровая дочь, имя которой они с наслаждением выбрали вместе – Лёля, Лёлька, Лёлечка !!! Как же им нравилось повторять это имя на все лады, хотя никого с таким именем не было в роду ни у него, ни у неё.
Наташа любила свою дочь с самого её явления на свет, полностью уничтожив всю себя как индивидуальность, как иную, чем дочь, личность, иного, чем дочь, человека, всю себя подчинив дочери, точь-в-точь так ведёт себя медведица, или волчица, или ещё какой дикий большой зверь. А уж Игорь в доченьке души не чаял, и всё повторял: «Не девчонка, а – золото…». Это было почти полное и крайне, крайне! редкое родительское самозабвение.
Любовь на разрыв аорты – мучительнейшее, но осознанное и полностью добровольное самоуничтожение. Однако…разве хоть у кого-то она спрашивает разрешения на вселение? Она просто вселяется в сердце, разрастается в нём и часто разрывает его в клочья, а это всегда так больно… Любая любовь: к ребёнку, к маме или отцу, или любовь двух совсем уже взрослых людей друг к другу. Таким цветком зацвела, распустилась в Наташиной душе любовь, посаженная когда-то её мамой, то есть, любовь как неотъемлемая черта натуры. Любовь не имеет чёткого и универсального определения, в отличие от математических и геометрических понятий, потому что у неё нет единого, узнаваемого лика, потому что она многолика, и лики эти не схожи почти ни в чём, у неё нет никаких законов и границ. Она не подчиняется ни мольбам, ни уговорам, ни просьбам, ни угрозам, ни требованиям, ни слезам, она приходит, когда хочет, и уходит, когда захочет. И не надо искать ей никаких объяснений. Наташина любовь к дочери была так же несопоставима с обычными, понятными и общепринятыми любовями других мам к своим дочерям, как Жар-Птица несопоставима ни с какой птицей, даже самой чудесной, даже с Райской птицей. И как Жар-Птица не относится ни к одному птичьему семейству, так Наташина любовь к дочери не относилась ни к какому семейству или хотя бы классу-подклассу любовей матерей к своим дочерям.
Ах, как счастливо Игорь и Наташа могли бы прожить всю жизнь: они были одной крови, одной породы, одной касты, несмотря на то, что их социальные слои пересекались лишь в одной точке: слой, из которого происходил Игорь, набирал домработниц из того слоя, из которого происходила Наташа, однако по уровню интеллекта второй слой не только частенько не уступал первому, но и частенько возвышался над ним…Ах, могли бы, могли бы, если бы…если бы Игорь не начал круто слетать с резьбы. Он и в молодости, что началось ещё во время службы в рядах тогда ещё советской армии, любил не просто выпить, а напиться в хлам, абсолютно сохраняя при этом, как ни поразительно, и здравость рассудка, и память, и работоспособность, и умение держаться корректно с людьми. На работе он даже после самых, казалось бы, смертоудавочных попоек оставался здравым и чётким, хотя, чёрт его знает, как ему это удавалось, может быть, просто молодость тогда ещё была в нём сильнее водки, может быть…
Есть только две, но очень чёткие категории алкашей: первые, упившись, впадают в неистовство, ненависть ко всему и ко всем, в неконтролируемую и самую чёрную агрессивность и злобность, вторые – как на другом полюсе: упившись, становятся распахнутыми, открытыми для всех, готовыми отдать и сделать всё что угодно для любого, кто только об этом заикнётся, неконтролируемая распахнутая доброта правит ими неуправляемо. Игорь относился ко вторым, напившись, он становился размазнёй, ласковым телёнком, который от поднимающейся в нём нежности ко всем, тычется в каждого мягкой тёплой мордой и всех-всех-всех хочет сделать счастливыми, только не знает – как. С ним тогда можно было делать всё что угодно: попросить у него деньги – и он тотчас отдавал всё, что у него оставалось при себе, снять с него дорогущую кожаную куртку, подбить его на любую авантюру, именно его башку подставив под удар…А протрезвев и мучаясь дикой головной болью, он не помнил ни-че-го. И этот день сурка повторялся и повторялся без окончания.
Он медленно, но верно сползал в эту трясину, то ли потому что оказался всё же слаб духом, то ли потому, что ему это нравилось, то ли и по тому и по другому вместе, но он не отказывался, когда рабочие его цеха, с которыми у него сложились изначально очень уважительные отношения, стали всё чаще и чаще звать его после работы с собой, особенно в дни получки – отметить то одно, то другое, а то и просто так, вообще без повода. Он соглашался и шёл с ними в их прикормленное, глухое местечко за гаражами, и пил с ними по-чёрному, хотя насильно его никто не тянул. Он не видел, что изначальное, прежнее уважение к нему пролетариата постепенно переродилось в снисходительное презрение – он не заметил этого. Не мог им отказать или не хотел отказываться, потому что ему было в кайф? И то и другое. Даже когда дочь, Лёля, родилась – даже после этого он не бросил, не завязал, а погружался всё глубже и глубже. Наташа как умела изо всех силёнок пыталась за него бороться, пыталась с ним договориться, и он с ней соглашался во всём, но…хватало его максимум на месяц, а потом всё катилось туда же. Наташка патологически не умела закручивать смерчи скандалов с битьём тарелок, с хлестанием по физиономии пьяного в дупелину мужа, с воплями неземных субъектов – не умела и всё тут, она могла лишь горько плакать, видя вернувшегося Игоря вот таким, могла лишь пытаться просить его о чём-то, в общем делать всё то, что остальные, то есть, полностью нормальные бабы называют «быть тряпкой», размазнёй и чему без сомнений лепят с размаха ярлык «так тебе и надо!». Ей было очень трудно: новорожденная дочь и – муж, уже неумолимо становившийся махровым алкоголиком. Однако он целых 2 раза согласился на «зашивание» на 3 месяца каждый раз и даже стойко выдерживал зазывные кличи рабочих своего цеха, но…буквально на следующий день после того, как 3 месяца заканчивались, он напивался в дупелину. Жить с мужем-алкашом, даже и не бушующим, а тихим, всё равно очень тяжко, как будто тащить на своём горбу невыносимую ношу, раздавливающую в месиво.
Лёлька, когда была маленькая, обожала папу, причём, особенно, когда он возвращался домой такой странный, мотающийся из стороны в сторону, едва стоявший на ногах, и даже мерзкий дух, исходящий от него в такие дни, не отвращал Лёлю…Мама почему-то каждый раз тихо плакала и в чём-то его уговаривала, а Лёлька – кидалась к нему на шею и умирала от распирающей её существо любви к папе, он такой был особенно ласковым, каким-то настежь распахнутым для Лёльки, любимой им до умопомрачения доченьки, он еле ворочал языком, но всё равно начинал играть с Лёлей во всё, чего бы она ни захотела. Она любила папу любым, а таким – особенно, это лишь с годами она поняла, как тяжко приходилось тогда маме…А Наташа ничего не могла с собой поделать: она до кишок ненавидела алкашество Игоря, но она всё ещё, как прежде, до оторопи, до замирания сердца любила того родного и ненаглядного, который был замурован в ненавистный толстый панцирь алкаша, причём даже годы совместной жизни не сняли с её любви ни одного кольца даже самой тонкой стружки, она любила его, любила, любила, потому что под мерзким коконом алкаша жил по-прежнему всё тот же самый – безмерно любимый парень, но Наташа не знала, как сбросить с него и сжечь этот мерзкий кокон. В ней билась болезненная, жгучая жалость к Игорю и такая же жгучая, неистребимая нежность, но ведь так не бывает, не бы-ва-ет!!! А вот и бывает…
Но в конце концов она стала уставать бороться, не знала, как удавить эту дрянь…И наконец совсем устала. Они не разводились, а просто разъехались, когда Лёле было 5 лет. Уход из дома папы стал для Лёли ударом хлыста, она ещё не могла знать, что такое жить бок о бок с запойным алкоголиком, даже если этот алкаш – всё ещё безмерно любимый муж, а для Лёли он был просто такой любимый папка, тогда зачем, зачем он уехал от них??? Ведь они с мамой так его любят! Игорь уехал жить к родителям, которые безоговорочно винили во всём Наташу. К тому времени Игоря уволили с завода, да и сам завод в те годы стал клониться к развалу вместе с совком. Игорь стал чередой сменять какие-то никчемные, бросовые работы, с которых его быстро гнали, однако затормозить не мог, да и не хотел: то он был сборщиком какой-то мебели, то где-то что-то грузил, то в бутафорском обличье бургера раздавал флайеры, то ещё какой-нибудь хренотенью подвизался, но максимум сколько он мог продержаться на любой работе – месяц, потом опять и опять искал другую.
От родителей он вскоре переехал жить к какому-то давнему другу, тоже капитально пьющему, тоже подвизающемуся время от времени на всяких бросовых, ничтожных, но кому-то очень нужных работах. Оставаться совсем без работы Игорь не мог: он хотел и давал жене и дочке почти все свои смешные заработки, оставляя себе лишь на бухло с другом-собутыльником. Игорь приходил к жене и дочке часто, даже очень часто и, хотя видно уже было, что он спивался, но любовь в нём, в этом алкаше, не умирала. Он любил Наташку так же, как и прежде, а Лёля, оооо, Лёля! Она стала для него единственным светом души и жизни…если бы он мог завязать, ах, если бы мог! Но та алкогольная мразь, которая поселилась в нём, была сильнее его самого, она правила и рулила им, он её ненавидел, но вырвать из себя никак не мог.
Наташа из себя вылезала, пытаясь вырвать с корнем очень болезненную нежность к этому человеку, которого она и поныне называла своим мужем и никакого другого мужа, даже самого непьющего, самого успешного, во всём хорошего и положительного – не хотела. Однако теперь, когда они зажили порознь, Игорь приходил к ним почти всегда трезвый, лишь иногда в подпитии, но никогда – вдрызг упившимся. Ещё когда он жил с ними и стал почти каждый вечер возвращаться домой пьянь пьянью, Наташа, встречая его, не находила внутри себя даже тени ненависти к этому алкашу, который делает их семейную жизнь отвратительной, вонючей. Ведь должна бы вспыхнуть и разгораться ненависть, лютое раздражение, а были лишь жгучая жалость и болезненная нежность. Не относилась Наташа к нормальным тёткам, никаким боком не относилась.
Так что не было ни скандалов, ни истерик, ни выяснения отношений, даже примитивнейшего развода с отметкой в паспорте – и того не было, просто тихо-мирно разъехались в разные стороны, и тут у них всё было не как у всех людей…Ну, набили бы друг другу морды до фиолетовой расцветки, до кровоподтёков, до разбухания губ, как будто ботоксом накачанных, ну, потаскали бы крепко друг друга за волосы на глазах у орущей дочери, ну, наорали бы друг на друга так, чтобы чёрная ненависть накрыла наконец с потрохами, может, и легче бы им стало…а, может, и не стало бы…так ведь нет! Он тогда просто тихо собрал своё барахло, Наташа ему помогала, и Лёля – тоже, хотя ничего не понимала, перед выходом они присели на дорожку, потом он поцеловал своих любимых девчонок и опять же тихо – отвалил.
С деньгами становилось всё беднее, и Наташа вышла на прежнее место работы, хотя и НИИ этот, когда-то хорошо питающийся от оборонки, уже загибался, хотя зарплатки ещё какие-то выдавали, и работками ещё какими-то обязывали, но выбора у Наташи не было, хоть так…Лёлю отдала в детский сад со всеми вытекающими из этого рядовыми последствиями вроде перманентных детских болезней, горьких детских слёз от детсадовских обид, но больничные по уходу за больным ребёнком бедный, чахнущий НИИ всё же оплачивал.
Лёля росла и именно в прекрасные черты Игорева лица, черты как будто с полотен художников Возрождения, и перелилась незаметно её внешность с началом её отрочества, и от страшненькой маленькой девочки, так походившей в детстве на страшненькую лицом маму, постепенно не осталось ничего, а явилась, становясь всё явственней, как будто совсем юная Мадонна то ли Рафаэля, то ли Перуджино, а внутри этой юной Мадонны теплился неугасимый нежный свет чистоты и отзывчивости, так явно доставшийся ей от мамы. Юная Лёлька искренне, вовсе не прикидываясь и не кривляясь, не осознавала своей чудесности, и на все юные сполохи яркой влюблённости в неё мальчишек отвечала искренним добросердечием, также искренне не понимая, что тяжело влюблённым в неё мальчишкам нужны совсем от неё иные чувства, а вовсе не добросердечие и чуткость – это не нужно! А Игорь точно знал, что измордует в кровь любого, кто обидит его девочку, его Лёлю, и ведь и правда измордовал бы, даже и несовершеннолетнего – хорошо, что повода не возникло.
А ведь в детстве и раннем отрочестве Лёля была настолько страшненькой и неуклюжей, какой и мама её была в своём детстве, что дети, очень жестокие существа, не хотели, чтобы она хоть как-то участвовала в их играх, особенно в детском саду, издевались над ней, но…для всех её ранних горьких слёз и ран у неё рядом всегда была мама, которая как невидимым коконом обволакивала Лёлю любовью, и изощрённые детские жестокости не проникали в Лёлину сначала совсем маленькую, но с годами растущую и расцветающую душу, так бывает, когда непривлекательный, едва заметный, страшненький с виду бутон невидимо, в глубине, втайне от всех наливается чудесными соками и красками и однажды распускается…
А Наташа была для дочери таким камертоном, который безошибочно отзывался на любой звук Лёлиной, даже едва ещё только распускающейся души, и именно Наташа сумела не дать Лёлиной ране от ухода Игоря сделаться кровоточащей и незарастающей на всю будущую Лёлину жизнь, Наташа сумела найти для 5-летней своей доченьки такие понятные и простые слова о разверстой пропасти между мамой и папой, об уходе папы, что для Лёли разъезд родителей не перерос в чёрную трагедию, тем более, что папа часто к ним приходил, причём, что важно – всегда трезвый, и мама всегда его радушно и хлебосольно встречала, он очень много времени проводил с Лёлей, много с ней разговаривал обо всём на свете (его богатейший интеллект каким-то образом оставался в нём жив, алкоголь не мог его расплющить), много ездил с ней по всяким интересным, в том числе и для маленькой девочки, местам, да и мама часто ездила вместе с ними: то они в Музеоне весь день, где можно любую скульптуру трогать руками, а, если очень понравится, то и обнять, а то и лазить по ней, причём папа про эти скульптуры много любопытного рассказывал, то они на дизельной подлодке все углы обшаривают, все закоулки рассматривают, то они в японском садике в Ботаническом саду, то на Солярисе в АртПлей, то в захватывающих душу разных павильонах ВДНХ, то поедают сногсшибательные пирожные в жутко исторической Булошной на 5-ти углах невдалеке от Покровки и Чистых прудов, то....да где они только ни побывали, что только ни смотрели-разглядывали…То есть, маленькая Лёля очень быстро перестала ощущать трагизм в том, что папа теперь не жил вместе с ними, а лишь приезжал, зато часто и всегда это сулило что-нибудь дико захватывающее. Это притягательное и очень любовное отношение Лёли к отцу осталось у неё на всю её жизнь, но лишь во взрослости она поняла, как много вложила в это отношение её мама.
Вообще Лёлька получилась как будто единичная авторская работа то ли небес, то ли природы, то ли ненормальных её мамы и папы, то ли ещё кого-то небесно неведомого. Она никак не вписывалась в табун своих ровесников: они уже с 12-13 лет разговаривали друг с другом только матершиной, Лёлька – никогда, ни разу. Сверстники её почти постоянно, на ходу ли, сидя ли на уроках в школе, были уткнуты в свои смартфоны, Лёлька ни за что не позволяла себе уткнуться в свой смарт при учителе, вообще при человеке, который им что-то рассказывает или просто говорит. Её одноклассники в жуткие годы отроческой ломки чуть ли ни ненавидели своих родителей, на любые мнения которых по любому поводу, вопросу плевали открыто, демонстративно, они – ничего не читали, кроме чудовищно безграмотных и жутко тупых сообщений друг другу, кроме чудовищно дебильных соцсетей, ничего не слушали, кроме до крайности дебильных блогеров, Лёлька же, не гнушаясь и перепиской в чатах, запойно читала в электронной книге и родных, и импортных авторов, и классиков, и современников, и для Лёльки даже в этот жуткий период взросления мама и только мама стала настоящей и единственной подругой, перед которой она не боялась быть собой в любом проявлении, то есть даже в те годы, когда дети начинают люто ненавидеть своих родителей ни за что-то, а просто так – за то, что вечно лезут в их взрослеющие дела, за то, что вечно лезут со всякими своими требованиями, вопросами, наставлениями, за то, что не дают им жить в свои 13, 14, 15 и более лет так, как хочется, да и вообще за то, что они, родители, вообще есть и деваться от них некуда. Этим отрокам не приходило в башку, что, будь они без родителей, то есть, сиротами, они бы совершенно по иному смотрели на всё. И вот при том, что Лёлька ненавидела быть как все, делать всё, как все, вести себя, как все, не выносила бегать в табуне – при всём этом она почему-то не стала изгоем среди ровесников, одноклассников, даже наоборот – они невидимо то ли преклонялись, то ли втайне крепко завидовали её пиратской независимости, её чуть ли не детской и такой нескрываемой любви к маме да и к папе тоже, и они втайне жаждали быть отмеченными, выделенными среди остальных именно этой, такой независимой от них девчонкой. Лёлька не чуралась никого, ко всем была одинаково ровно открыта, была от чтива и от природы поразительно остроумна и весела, а уж когда начинала что-то рассказывать, то целые табуны вокруг неё собирались и гоготали, как молодые жеребцы – так она умела не просто рассказать какую-то совсем простую житейскую сценку, но умела изобразить её в лицах с разными интонациями: то, как на улице два попавшихся навстречу кришнаита уговаривали её купить книгу знаний или то, как цыганки обступили её и лезли погадать, ведь они не знали, что денег у неё – голый кукиш, да и много чего ещё, причём именно самые бытовые ситуации на улице ли, в метро ли. Повторить её историйки не получалось ни у кого, так артистично, так ярко она всё изображала в лицах. И хотя она привыкла чувствовать себя королевой, что было посажено в ней чуть ли не с рождения мамой, она, как ни поразительно и ни парадоксально, тем не менее не стала высокомерной, чванливой, хотя некоторые, особенно, сверстницы именно таковой её и называли и всячески это своё отношение демонстративно выказывали, но Лёля просто не обращала на это внимания. Не было в ней надменности, презрения, заносчивости, чванливости, гонора, ну, хоть убей – не было, не поселились.
Наташа очень трезво понимала, что, если в школьные года Лёльку необъяснимо миновала первая любовь, которая у всех именно в эти годы шарахает по мозгам кувалдой, то она всё равно настигнет её девочку рано или поздно, это неминуемо, от этого не может удрать ни один человек на свете, потому что «…любви прозрачная рука Однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пенье в каждой дверце…». Наташка знала: грянет и ещё как, не знала только когда именно, и от этого, только от этого она уже заранее паниковала, она совсем не знала, как повести себя тогда, когда это всё же случится, чтобы её Лёлька не пропала зазря…А ведь страшнее первой любви только последняя…А ещё смертоносней и губительней та первая любовь, которая, проскакивая обязательную ступень в отрочестве, нападает на уже повзрослевшего человека лет эдак с 18-ти, а уж если вообще после 20-ти лет – почти наверняка искалечит на всю оставшуюся жизнь. Но у любви нет никаких законов и обязанностей, она приходит и уходит, когда ей вздумается, а уж предсказать её приход совершенно невозможно. Как, почему первая любовь не схватила Лёльку за растущее её сердечко тогда, когда всех без разбора отроков хватает? Так необъяснимо бывает, когда человек, не ведая о том, что идёт по минному полю, проходит его спокойно от начала до конца.
Татьяна Викторовна ФРО
Сборник рассказов, персонажи которых никак не связаны друг с другом, но в жизни каждого из которых происходят события, изменяющие их отношения к самим себе и к родным и близким людям
Татьяна ФРО
Каждый пред Богом наг
Каждый пред Богом
наг
Жалок,
наг
и убог,
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог…
….......У каждого свой
храм
И каждому свой
гроб…
Иосиф Бродский
ТРАГИЗМ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ
Когда Лёля, единственная, до оторопи и замирания любимая дочь металлическим, но обёрнутым в мягкое голосом, очень тихо сказала: «Мама, я люблю Эльдара…Он мусульманин, мама, и, если ты мою любовь отвергнешь, то я лучше уйду от тебя, я отрекусь от православия и приму его ислам, если он так мне скажет, но я не отрекусь от него, потому что я люблю его…», Наташа взвизгнула мерзким, режущим тембром: «Только через мой труп!!!». В эти мгновения ей показалось, что она свою дочь…не-на-ви-дит, но Наташа успела прикусить язык, чтобы в следующий миг не дать ему выплюнуть: «Будь ты проклята! Ты мне больше не дочь!» – проглотила эти жуткие слова и от их смертельного яда побелела лицом и руками. Лёля страшно испугалась, подхватила маму, оттащила на кухню, влила ей сквозь синие губы валокардин, потом села напротив неё, взяла её руки в свои, уткнулась в них и затихла. Сколько времени они так просидели? Они не знали. Наташа не плакала, ни слёзки не проронила, поцеловала долгим поцелуем мягкое пушистое девичье темечко дочери и прошептала: «Лёлечка моя, пока лучше уходи…».
Лёля с почерневшими, набрякшими глазами молча собрала часть своих вещей и снова взяв мамины руки в свои, поцеловала их и безоговорочно-твёрдо сказала: «Мама, нам лучше пока пожить раздельно, я ведь это не сейчас решила, я уже нашла себе недорогую съемную квартиру, далековато, правда, но платить за неё я смогу: всё-таки и стипендия у меня повышенная, и работа на кафедре…Я всегда буду тебе звонить, и ты…Мама, я очень, очень его люблю…» и – ушла со своим большим чемоданом, тихо и мягко закрыв за собой входную дверь. А Наташа осталась стоять в прихожей. Она так и не заплакала. Ни разу за все свои больше чем 50 лет жизни Наташа не познала ненависти как калёного чувства в его самом чистом виде, ни к кому. Она знала чувства отторжения от того или иного человека, неприязни, брезгливости, гадливости и даже ужаса, но ненависти, то есть, взрывного чувства, толкающего без раздумий убить, столкнуть в пропасть, размозжить башку – не познала ни разу…И теперь она ужаснулась оттого, что оно, непознанное доселе, в какой-то миг вдруг выскочило к дочери! К дочери, любовью к которой Наташа вообще жила на белом свете – только потому, что девочка её стала взрослой и сама хочет делать свою жизнь?!
Тогда оказалось, что не только внутри Наташи, но и вообще всё вокруг неё помертвело и обесцветилось. Наташа видела на мобильнике звонки от Лёли, от бывшего мужа, Игоря, которому Лёля, видимо, всё рассказала, звонки от давних своих приятельниц, даже звонки от Лёлькиных подруг – она не взяла трубку ни разу, как бы ни надрывался бедный мобил. Она читала эсэмэски от них: «Срочно позвони, это важно», «Возьми трубку! Это важно!», «Нужно поговорить, это важно!» – не звонила, не брала, не поговорила: было бы действительно что-то катастрофическое – обязательно сообщили бы в эсэмэске, но такого не было, а, значит, ничего страшного и не случилось.
Она очень быстро уволилась с работы в лицейской библиотеке ничего никому не объясняя, но – категорически: невыносимо было находиться среди сотрудников, волей-неволей вести какие-то, даже и бытовые, разговоры, но и дома ей было было мучительно невыносимо. Она нигде не находила себе места и уходила из дома, едва проснувшись, не проглотив ни куска, а возвращалась поздно Она догадывалась, что несколько раз приезжал Игорь, бывший муж (у него оставался ключ от квартиры), ждал её, но так и уезжал не дождавшись. Нормальный человеческий сон превратился для неё в ошмётья забытья, о еде она просто забывала и всё колесила и колесила то по городу в каких-то незнакомых автобусах от края до края, то на трамваях с длинными маршрутами, то уезжала на дальних электричках куда придётся. Она совсем перестала читать, и это она-то – запойная книгочея, совсем не включала телек: всё, всё было пусто, ненужно, не для чего, не для кого…Проскочила мыслишка о самоубийстве, но не нашла достаточно плодородной почвы и исчезла…
Наташа и в детстве, и в пору юного, казалось бы, самой природой определённого цветения была до жути, до оторопи несимпатична, не уродлива, нет, а просто очень несимпатична внешне, но у неё была её мама, которая укрывала её, как защитным плащом-панцирем, своей любовью от насмешек и ядовитых стрел, как укрывала много лет спустя Наташа свою дочь Лёльку. И в этом коконе маминой любви Наташа спаслась и выросла такой искристо остроумной, легкой и веселой в общении с любым человеком, так отзывчиво впитывала выплакиваемые ей в плечо несчастья и горести, что люди, узнававшие её хоть чуточку ближе, почти сразу начисто переставали видеть её некрасивость, потому что подпадали под нежнейший, мягкий и тёплый свет её удивительной души, которая как будто и перелилась потом, много лет спустя огромной сияющей частью в дочь Лёльку.
Свою некрасивость как девочки, девушки, женщины Наташа сознавала с детства, но, даже в жуткую и жестокую пору отрочества, когда так жаждется всем нутром – нравиться всем, она воспринимала себя, свою некрасивость с лёгкостью непримечательной, бесцветной бабочки, легко и смешливо порхая. И эти лёгкость и смешливость держались на двух незыблемых опорах, невозможных для разрушения: светлой, объемлющей всё Наташкино существо с самого явления на свет, любви её мамы, а ещё – на потрясающей свободе внутри Наташинова существа, то есть, свободе от тяжёлого стремления нравиться, особенно мальчикам, юношам, и это были лёгкость и неземная воздушность оттого, что не надо из себя ничего корчить в жутких потугах нравиться, а можно просто быть собой – такой, какая есть, и вот это было божественной роскошью, мало кому вообще знакомой, мало кому дарованной небесами. Это была потрясающая награда то ли природы, то ли кого-то неведомого и невидимого за некрасивость. Именно эта лёгкость от трезвого осознания своей внешности и влила в Наташину душу незримый свет, притягивающий к ней, теплоту и искристость натуры, не скованной калечащими скрепами «нравиться, лидировать, повелевать, подчинять, владеть». Наташке же свет этот достался от её мамы, как если бы живая вода перелилась из одного сосуда в другой.
Отца своего Наташа совсем не помнила, она была крошечкой, когда он, военный лётчик, погиб где-то на севере, но погребён был здесь, в Москве, так что иногда они с мамой ездили к нему на могилу. Мама замуж больше не вышла, потому что, как она говорила, невозможно было встретить в жизни второго точно такого же человека, как её муж, Наташин отец, а никого другого она не хотела. Но для Наташи безотцовщина не была травмой, во-первых, потому что она отца не помнила, не помнила его рук, его голоса, его лица, и поэтому не тосковала по нему, а, во-вторых, потому что ведь рядом с ней всегда была её МАМА. В детстве отец представлялся ей недосягаемым сказочным принцем с прекрасной внешностью того, кого мама на фотографии указывала как отца, и этот сказочный образ отца был ей несравнимо ближе того реального, о котором говорила мама.
После школы она легко поступила в вожделенный Химико-технологический институт (так он тогда назывался), а окончив его работала в некоем оборонном НИИ по специальности. В эти годы и умерла мучительной смертью её мама, то есть, ещё до Наташиного замужества и до явления в мир внучки – ах, как бы мама ей радовалась! Смерть мамы на всю жизнь осталась для Наташи горем, лютее которого потом для неё не было ни в чём. Больше года после смерти мамы Наташа ездила только на работу и никуда и ни к кому более, ни на дни рождения, ни на праздники, не отвечала ни на какие приглашения, звонки, никто вообще тогда не узнавал в этой девушке ту лёгкую, весёлую и всегда потрясающе остроумную девчонку, какой её и знали все друзья, сотрудники и многочисленные просто знакомые. Даже в Новый год ей ни к кому не хотелось, она запиралась в одиночестве, не наряжала ёлку, никаких яств и вообще ничего не готовила, никого не поздравляла и только плакала в такую ночь немерено, потому что «…мам, мам…а помнишь, как мы с тобой и бабушкой Новый год всегда встречали? Помнишь, как любили мы встречать каждый новый год, как без конца вламывались к нам соседи – деды-морозы, толстые снегурочки с бумажными косичками от ушей, старые зайцы с доморощенными повисшими ушами, серые волки с самодельными картонными мордами, чуть не из всех квартир чуть не со всех этажей вваливались к нам, мы даже дверь не запирали, помнишь, как трезвонил наш древний телефон, а трубку хватал любой из вломившихся зайцев, волков, дедов-морозов, кто оказывался рядом, помнишь, как было это всегда потрясающе весело, мам? Помнишь, как мы песни все вместе орали, мам?..» И вот теперь первый Новый год без мамы, Наташа не открыла дверь квартиры ни на один трезвон, и всё плакала, плакала. Лишь брала мамину старую гитару и тихо пела и пела все те песни, которые когда-то пели они с мамой, а уж на Новый год – особенно. Мамину гитару Наташа не отдала бы никому на свете.
Лишь спустя больше года она чуть приоткрыла наглухо ею задраенную дверь в мир и сделала шажок: позвонила давним друзьям, которые захлебнулись от радости слышать Наташку, и опять начала с ними выкатываться на слёты КСП, без которых раньше и жить-то не могла (так называемые клубы самодеятельной песни, при совке эти КСП, эти слёты были как глотки чистой родниковой воды в непроглядной мути жизни), и это тогда стало единственным местом, где душа её переставала метаться и кровоточить от тоски, и новые, и старые песни, которые она там впитывала, как живительные соки, заживляли её.
…А замуж она выскочила вдруг, именно – вдруг ! – за лихого парня Игоря, с которым познакомилась на одном из таких слётов. Оба они уже лет 10, а то и больше шлялись по одним и тем же слётам, на которых можно было свободно, легко дышать и говорить, только каждый в своей закадычной компании, а познакомились почему-то лишь теперь, вот ведь чудачка-судьба, как хочет, так и рулит! Игорь был хорош собой удивительно, к тому же весел, отчаян, лёгок в любом общении и какого-то глубинного, врождённого, что ли, добросердечия, с которым на деле прекрасно жить в монастыре, но очень тяжело – в миру. Они были ровесники и, когда познакомились, обоим было уже аж за 30, однако, и он и она умудрились до сих пор ни разу не вляпаться в семейную жизнь, и не имело никакого значения, что юность уже отгромыхала, что вроде бы пора и остепениться, только вот никак не получалось остепениться, потому что энергия жизни била в них фонтанами, хотя, казалось бы, с этого возрастного порога должна бы, вроде, затихать…
Она узнала, что после армии Игорь отучился и прекрасно закончил авиационный ВУЗ и, хотя его уговаривали остаться на кафедре вести научную работу и преподавать, он всё-таки решил пойти на завод, как когда-то его любимый дедушка, и с тех пор работал в сборочном цехе одного крупного авиазавода, причём трудился с гигантским энтузиазмом, с энергией, переливающей через все края его натуры, ему и в самом деле нравилась работа на живом производстве, каким бы нелепым и смешным это нынче кому угодно ни показалось.
…Девки же любили его так, что пух и перья летели, причём девки самого разного калибра и полёта, в том числе и очень, очень высокого, благодаря высокопоставленным отцам и всемогущим мамашам, да и что греха таить, и он девчонок любил, но чтобы взять и – жениться, нет, нет, такого уговора с судьбой не было пока, и тут никакие девчоночьи ультиматумы, рыдания с оплеухами по чудесной Игоряшиной физиономии, обманки, мольбы или картины потрясающих возможных перспектив профессионального роста не действовали, отскакивали от него, как гуттаперчевые мячики.
И тут вдруг нарисовалась Наташка, страшненькая, отнюдь уже не молоденькая, без малейших блестящих родственных связей или хотя бы одного, но влиятельного родственника…Все родные Игоря, все друзья онемели и окаменели, когда он вдруг нежданно-негаданно женился на Наташе, как если бы Тунгусский метеорит на башку грохнулся…Но Игорь-то точно знал: никого, кроме Наташки, он не хочет, никого! Эти два чудака как будто вылупились из одного яйца – так они чувствовали друг друга, так слышали, так понимали друг друга. И всё, что другие, то есть, нормальные люди делают с оглушительным шумом, треском и гамом, чтоб уж гульба, свадьба – так чтоб уж вся Вселенная содрогалась, чтобы у всех инопланетян уши вытянулись от зелёного изумления и недоумения: эк, эту маленькую голубую планетку колбасит, вся ходуном ходит – война там, что ли? – так вот, всё что у нормальных людей с грохотом, как и полагается, происходит, эти два инопланетянина, Игорь и Наташа, проделали втихаря ото всех вообще: в ЗАГСе они были лишь вдвоём, в обычных одёжках, а вот столик в дорогом весьма ресторане всё же заказали заранее и позвали на скромное торжество лишь лучшего его, онемевшего друга и её точно так же онемевшую подругу. Они были поразительно счастливы и по-настоящему весело всего лишь вчетвером отгрохали своё событие, а на следующий день тихо отметили всё то же самое у его разобидевшихся родителей. На житьё они поселились у Наташи, в её опустевшей без мамы двухкамерной конурке, хотя родители Игоря, очень солидные, состоятельные люди и звали их к себе, в роскошную квартиру на Кутузовке.
Так и получилось, что КСП (вроде даже нелепо звучит) и Игорь вытянули Наташу из трясины, в которую она неминуемо и добровольно погружалась больше года после смерти мамы.
А меньше, чем через полгода родилась крепенькая, большая и здоровая дочь, имя которой они с наслаждением выбрали вместе – Лёля, Лёлька, Лёлечка !!! Как же им нравилось повторять это имя на все лады, хотя никого с таким именем не было в роду ни у него, ни у неё.
Наташа любила свою дочь с самого её явления на свет, полностью уничтожив всю себя как индивидуальность, как иную, чем дочь, личность, иного, чем дочь, человека, всю себя подчинив дочери, точь-в-точь так ведёт себя медведица, или волчица, или ещё какой дикий большой зверь. А уж Игорь в доченьке души не чаял, и всё повторял: «Не девчонка, а – золото…». Это было почти полное и крайне, крайне! редкое родительское самозабвение.
Любовь на разрыв аорты – мучительнейшее, но осознанное и полностью добровольное самоуничтожение. Однако…разве хоть у кого-то она спрашивает разрешения на вселение? Она просто вселяется в сердце, разрастается в нём и часто разрывает его в клочья, а это всегда так больно… Любая любовь: к ребёнку, к маме или отцу, или любовь двух совсем уже взрослых людей друг к другу. Таким цветком зацвела, распустилась в Наташиной душе любовь, посаженная когда-то её мамой, то есть, любовь как неотъемлемая черта натуры. Любовь не имеет чёткого и универсального определения, в отличие от математических и геометрических понятий, потому что у неё нет единого, узнаваемого лика, потому что она многолика, и лики эти не схожи почти ни в чём, у неё нет никаких законов и границ. Она не подчиняется ни мольбам, ни уговорам, ни просьбам, ни угрозам, ни требованиям, ни слезам, она приходит, когда хочет, и уходит, когда захочет. И не надо искать ей никаких объяснений. Наташина любовь к дочери была так же несопоставима с обычными, понятными и общепринятыми любовями других мам к своим дочерям, как Жар-Птица несопоставима ни с какой птицей, даже самой чудесной, даже с Райской птицей. И как Жар-Птица не относится ни к одному птичьему семейству, так Наташина любовь к дочери не относилась ни к какому семейству или хотя бы классу-подклассу любовей матерей к своим дочерям.
Ах, как счастливо Игорь и Наташа могли бы прожить всю жизнь: они были одной крови, одной породы, одной касты, несмотря на то, что их социальные слои пересекались лишь в одной точке: слой, из которого происходил Игорь, набирал домработниц из того слоя, из которого происходила Наташа, однако по уровню интеллекта второй слой не только частенько не уступал первому, но и частенько возвышался над ним…Ах, могли бы, могли бы, если бы…если бы Игорь не начал круто слетать с резьбы. Он и в молодости, что началось ещё во время службы в рядах тогда ещё советской армии, любил не просто выпить, а напиться в хлам, абсолютно сохраняя при этом, как ни поразительно, и здравость рассудка, и память, и работоспособность, и умение держаться корректно с людьми. На работе он даже после самых, казалось бы, смертоудавочных попоек оставался здравым и чётким, хотя, чёрт его знает, как ему это удавалось, может быть, просто молодость тогда ещё была в нём сильнее водки, может быть…
Есть только две, но очень чёткие категории алкашей: первые, упившись, впадают в неистовство, ненависть ко всему и ко всем, в неконтролируемую и самую чёрную агрессивность и злобность, вторые – как на другом полюсе: упившись, становятся распахнутыми, открытыми для всех, готовыми отдать и сделать всё что угодно для любого, кто только об этом заикнётся, неконтролируемая распахнутая доброта правит ими неуправляемо. Игорь относился ко вторым, напившись, он становился размазнёй, ласковым телёнком, который от поднимающейся в нём нежности ко всем, тычется в каждого мягкой тёплой мордой и всех-всех-всех хочет сделать счастливыми, только не знает – как. С ним тогда можно было делать всё что угодно: попросить у него деньги – и он тотчас отдавал всё, что у него оставалось при себе, снять с него дорогущую кожаную куртку, подбить его на любую авантюру, именно его башку подставив под удар…А протрезвев и мучаясь дикой головной болью, он не помнил ни-че-го. И этот день сурка повторялся и повторялся без окончания.
Он медленно, но верно сползал в эту трясину, то ли потому что оказался всё же слаб духом, то ли потому, что ему это нравилось, то ли и по тому и по другому вместе, но он не отказывался, когда рабочие его цеха, с которыми у него сложились изначально очень уважительные отношения, стали всё чаще и чаще звать его после работы с собой, особенно в дни получки – отметить то одно, то другое, а то и просто так, вообще без повода. Он соглашался и шёл с ними в их прикормленное, глухое местечко за гаражами, и пил с ними по-чёрному, хотя насильно его никто не тянул. Он не видел, что изначальное, прежнее уважение к нему пролетариата постепенно переродилось в снисходительное презрение – он не заметил этого. Не мог им отказать или не хотел отказываться, потому что ему было в кайф? И то и другое. Даже когда дочь, Лёля, родилась – даже после этого он не бросил, не завязал, а погружался всё глубже и глубже. Наташа как умела изо всех силёнок пыталась за него бороться, пыталась с ним договориться, и он с ней соглашался во всём, но…хватало его максимум на месяц, а потом всё катилось туда же. Наташка патологически не умела закручивать смерчи скандалов с битьём тарелок, с хлестанием по физиономии пьяного в дупелину мужа, с воплями неземных субъектов – не умела и всё тут, она могла лишь горько плакать, видя вернувшегося Игоря вот таким, могла лишь пытаться просить его о чём-то, в общем делать всё то, что остальные, то есть, полностью нормальные бабы называют «быть тряпкой», размазнёй и чему без сомнений лепят с размаха ярлык «так тебе и надо!». Ей было очень трудно: новорожденная дочь и – муж, уже неумолимо становившийся махровым алкоголиком. Однако он целых 2 раза согласился на «зашивание» на 3 месяца каждый раз и даже стойко выдерживал зазывные кличи рабочих своего цеха, но…буквально на следующий день после того, как 3 месяца заканчивались, он напивался в дупелину. Жить с мужем-алкашом, даже и не бушующим, а тихим, всё равно очень тяжко, как будто тащить на своём горбу невыносимую ношу, раздавливающую в месиво.
Лёлька, когда была маленькая, обожала папу, причём, особенно, когда он возвращался домой такой странный, мотающийся из стороны в сторону, едва стоявший на ногах, и даже мерзкий дух, исходящий от него в такие дни, не отвращал Лёлю…Мама почему-то каждый раз тихо плакала и в чём-то его уговаривала, а Лёлька – кидалась к нему на шею и умирала от распирающей её существо любви к папе, он такой был особенно ласковым, каким-то настежь распахнутым для Лёльки, любимой им до умопомрачения доченьки, он еле ворочал языком, но всё равно начинал играть с Лёлей во всё, чего бы она ни захотела. Она любила папу любым, а таким – особенно, это лишь с годами она поняла, как тяжко приходилось тогда маме…А Наташа ничего не могла с собой поделать: она до кишок ненавидела алкашество Игоря, но она всё ещё, как прежде, до оторопи, до замирания сердца любила того родного и ненаглядного, который был замурован в ненавистный толстый панцирь алкаша, причём даже годы совместной жизни не сняли с её любви ни одного кольца даже самой тонкой стружки, она любила его, любила, любила, потому что под мерзким коконом алкаша жил по-прежнему всё тот же самый – безмерно любимый парень, но Наташа не знала, как сбросить с него и сжечь этот мерзкий кокон. В ней билась болезненная, жгучая жалость к Игорю и такая же жгучая, неистребимая нежность, но ведь так не бывает, не бы-ва-ет!!! А вот и бывает…
Но в конце концов она стала уставать бороться, не знала, как удавить эту дрянь…И наконец совсем устала. Они не разводились, а просто разъехались, когда Лёле было 5 лет. Уход из дома папы стал для Лёли ударом хлыста, она ещё не могла знать, что такое жить бок о бок с запойным алкоголиком, даже если этот алкаш – всё ещё безмерно любимый муж, а для Лёли он был просто такой любимый папка, тогда зачем, зачем он уехал от них??? Ведь они с мамой так его любят! Игорь уехал жить к родителям, которые безоговорочно винили во всём Наташу. К тому времени Игоря уволили с завода, да и сам завод в те годы стал клониться к развалу вместе с совком. Игорь стал чередой сменять какие-то никчемные, бросовые работы, с которых его быстро гнали, однако затормозить не мог, да и не хотел: то он был сборщиком какой-то мебели, то где-то что-то грузил, то в бутафорском обличье бургера раздавал флайеры, то ещё какой-нибудь хренотенью подвизался, но максимум сколько он мог продержаться на любой работе – месяц, потом опять и опять искал другую.
От родителей он вскоре переехал жить к какому-то давнему другу, тоже капитально пьющему, тоже подвизающемуся время от времени на всяких бросовых, ничтожных, но кому-то очень нужных работах. Оставаться совсем без работы Игорь не мог: он хотел и давал жене и дочке почти все свои смешные заработки, оставляя себе лишь на бухло с другом-собутыльником. Игорь приходил к жене и дочке часто, даже очень часто и, хотя видно уже было, что он спивался, но любовь в нём, в этом алкаше, не умирала. Он любил Наташку так же, как и прежде, а Лёля, оооо, Лёля! Она стала для него единственным светом души и жизни…если бы он мог завязать, ах, если бы мог! Но та алкогольная мразь, которая поселилась в нём, была сильнее его самого, она правила и рулила им, он её ненавидел, но вырвать из себя никак не мог.
Наташа из себя вылезала, пытаясь вырвать с корнем очень болезненную нежность к этому человеку, которого она и поныне называла своим мужем и никакого другого мужа, даже самого непьющего, самого успешного, во всём хорошего и положительного – не хотела. Однако теперь, когда они зажили порознь, Игорь приходил к ним почти всегда трезвый, лишь иногда в подпитии, но никогда – вдрызг упившимся. Ещё когда он жил с ними и стал почти каждый вечер возвращаться домой пьянь пьянью, Наташа, встречая его, не находила внутри себя даже тени ненависти к этому алкашу, который делает их семейную жизнь отвратительной, вонючей. Ведь должна бы вспыхнуть и разгораться ненависть, лютое раздражение, а были лишь жгучая жалость и болезненная нежность. Не относилась Наташа к нормальным тёткам, никаким боком не относилась.
Так что не было ни скандалов, ни истерик, ни выяснения отношений, даже примитивнейшего развода с отметкой в паспорте – и того не было, просто тихо-мирно разъехались в разные стороны, и тут у них всё было не как у всех людей…Ну, набили бы друг другу морды до фиолетовой расцветки, до кровоподтёков, до разбухания губ, как будто ботоксом накачанных, ну, потаскали бы крепко друг друга за волосы на глазах у орущей дочери, ну, наорали бы друг на друга так, чтобы чёрная ненависть накрыла наконец с потрохами, может, и легче бы им стало…а, может, и не стало бы…так ведь нет! Он тогда просто тихо собрал своё барахло, Наташа ему помогала, и Лёля – тоже, хотя ничего не понимала, перед выходом они присели на дорожку, потом он поцеловал своих любимых девчонок и опять же тихо – отвалил.
С деньгами становилось всё беднее, и Наташа вышла на прежнее место работы, хотя и НИИ этот, когда-то хорошо питающийся от оборонки, уже загибался, хотя зарплатки ещё какие-то выдавали, и работками ещё какими-то обязывали, но выбора у Наташи не было, хоть так…Лёлю отдала в детский сад со всеми вытекающими из этого рядовыми последствиями вроде перманентных детских болезней, горьких детских слёз от детсадовских обид, но больничные по уходу за больным ребёнком бедный, чахнущий НИИ всё же оплачивал.
Лёля росла и именно в прекрасные черты Игорева лица, черты как будто с полотен художников Возрождения, и перелилась незаметно её внешность с началом её отрочества, и от страшненькой маленькой девочки, так походившей в детстве на страшненькую лицом маму, постепенно не осталось ничего, а явилась, становясь всё явственней, как будто совсем юная Мадонна то ли Рафаэля, то ли Перуджино, а внутри этой юной Мадонны теплился неугасимый нежный свет чистоты и отзывчивости, так явно доставшийся ей от мамы. Юная Лёлька искренне, вовсе не прикидываясь и не кривляясь, не осознавала своей чудесности, и на все юные сполохи яркой влюблённости в неё мальчишек отвечала искренним добросердечием, также искренне не понимая, что тяжело влюблённым в неё мальчишкам нужны совсем от неё иные чувства, а вовсе не добросердечие и чуткость – это не нужно! А Игорь точно знал, что измордует в кровь любого, кто обидит его девочку, его Лёлю, и ведь и правда измордовал бы, даже и несовершеннолетнего – хорошо, что повода не возникло.
А ведь в детстве и раннем отрочестве Лёля была настолько страшненькой и неуклюжей, какой и мама её была в своём детстве, что дети, очень жестокие существа, не хотели, чтобы она хоть как-то участвовала в их играх, особенно в детском саду, издевались над ней, но…для всех её ранних горьких слёз и ран у неё рядом всегда была мама, которая как невидимым коконом обволакивала Лёлю любовью, и изощрённые детские жестокости не проникали в Лёлину сначала совсем маленькую, но с годами растущую и расцветающую душу, так бывает, когда непривлекательный, едва заметный, страшненький с виду бутон невидимо, в глубине, втайне от всех наливается чудесными соками и красками и однажды распускается…
А Наташа была для дочери таким камертоном, который безошибочно отзывался на любой звук Лёлиной, даже едва ещё только распускающейся души, и именно Наташа сумела не дать Лёлиной ране от ухода Игоря сделаться кровоточащей и незарастающей на всю будущую Лёлину жизнь, Наташа сумела найти для 5-летней своей доченьки такие понятные и простые слова о разверстой пропасти между мамой и папой, об уходе папы, что для Лёли разъезд родителей не перерос в чёрную трагедию, тем более, что папа часто к ним приходил, причём, что важно – всегда трезвый, и мама всегда его радушно и хлебосольно встречала, он очень много времени проводил с Лёлей, много с ней разговаривал обо всём на свете (его богатейший интеллект каким-то образом оставался в нём жив, алкоголь не мог его расплющить), много ездил с ней по всяким интересным, в том числе и для маленькой девочки, местам, да и мама часто ездила вместе с ними: то они в Музеоне весь день, где можно любую скульптуру трогать руками, а, если очень понравится, то и обнять, а то и лазить по ней, причём папа про эти скульптуры много любопытного рассказывал, то они на дизельной подлодке все углы обшаривают, все закоулки рассматривают, то они в японском садике в Ботаническом саду, то на Солярисе в АртПлей, то в захватывающих душу разных павильонах ВДНХ, то поедают сногсшибательные пирожные в жутко исторической Булошной на 5-ти углах невдалеке от Покровки и Чистых прудов, то....да где они только ни побывали, что только ни смотрели-разглядывали…То есть, маленькая Лёля очень быстро перестала ощущать трагизм в том, что папа теперь не жил вместе с ними, а лишь приезжал, зато часто и всегда это сулило что-нибудь дико захватывающее. Это притягательное и очень любовное отношение Лёли к отцу осталось у неё на всю её жизнь, но лишь во взрослости она поняла, как много вложила в это отношение её мама.
Вообще Лёлька получилась как будто единичная авторская работа то ли небес, то ли природы, то ли ненормальных её мамы и папы, то ли ещё кого-то небесно неведомого. Она никак не вписывалась в табун своих ровесников: они уже с 12-13 лет разговаривали друг с другом только матершиной, Лёлька – никогда, ни разу. Сверстники её почти постоянно, на ходу ли, сидя ли на уроках в школе, были уткнуты в свои смартфоны, Лёлька ни за что не позволяла себе уткнуться в свой смарт при учителе, вообще при человеке, который им что-то рассказывает или просто говорит. Её одноклассники в жуткие годы отроческой ломки чуть ли ни ненавидели своих родителей, на любые мнения которых по любому поводу, вопросу плевали открыто, демонстративно, они – ничего не читали, кроме чудовищно безграмотных и жутко тупых сообщений друг другу, кроме чудовищно дебильных соцсетей, ничего не слушали, кроме до крайности дебильных блогеров, Лёлька же, не гнушаясь и перепиской в чатах, запойно читала в электронной книге и родных, и импортных авторов, и классиков, и современников, и для Лёльки даже в этот жуткий период взросления мама и только мама стала настоящей и единственной подругой, перед которой она не боялась быть собой в любом проявлении, то есть даже в те годы, когда дети начинают люто ненавидеть своих родителей ни за что-то, а просто так – за то, что вечно лезут в их взрослеющие дела, за то, что вечно лезут со всякими своими требованиями, вопросами, наставлениями, за то, что не дают им жить в свои 13, 14, 15 и более лет так, как хочется, да и вообще за то, что они, родители, вообще есть и деваться от них некуда. Этим отрокам не приходило в башку, что, будь они без родителей, то есть, сиротами, они бы совершенно по иному смотрели на всё. И вот при том, что Лёлька ненавидела быть как все, делать всё, как все, вести себя, как все, не выносила бегать в табуне – при всём этом она почему-то не стала изгоем среди ровесников, одноклассников, даже наоборот – они невидимо то ли преклонялись, то ли втайне крепко завидовали её пиратской независимости, её чуть ли не детской и такой нескрываемой любви к маме да и к папе тоже, и они втайне жаждали быть отмеченными, выделенными среди остальных именно этой, такой независимой от них девчонкой. Лёлька не чуралась никого, ко всем была одинаково ровно открыта, была от чтива и от природы поразительно остроумна и весела, а уж когда начинала что-то рассказывать, то целые табуны вокруг неё собирались и гоготали, как молодые жеребцы – так она умела не просто рассказать какую-то совсем простую житейскую сценку, но умела изобразить её в лицах с разными интонациями: то, как на улице два попавшихся навстречу кришнаита уговаривали её купить книгу знаний или то, как цыганки обступили её и лезли погадать, ведь они не знали, что денег у неё – голый кукиш, да и много чего ещё, причём именно самые бытовые ситуации на улице ли, в метро ли. Повторить её историйки не получалось ни у кого, так артистично, так ярко она всё изображала в лицах. И хотя она привыкла чувствовать себя королевой, что было посажено в ней чуть ли не с рождения мамой, она, как ни поразительно и ни парадоксально, тем не менее не стала высокомерной, чванливой, хотя некоторые, особенно, сверстницы именно таковой её и называли и всячески это своё отношение демонстративно выказывали, но Лёля просто не обращала на это внимания. Не было в ней надменности, презрения, заносчивости, чванливости, гонора, ну, хоть убей – не было, не поселились.
Наташа очень трезво понимала, что, если в школьные года Лёльку необъяснимо миновала первая любовь, которая у всех именно в эти годы шарахает по мозгам кувалдой, то она всё равно настигнет её девочку рано или поздно, это неминуемо, от этого не может удрать ни один человек на свете, потому что «…любви прозрачная рука Однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пенье в каждой дверце…». Наташка знала: грянет и ещё как, не знала только когда именно, и от этого, только от этого она уже заранее паниковала, она совсем не знала, как повести себя тогда, когда это всё же случится, чтобы её Лёлька не пропала зазря…А ведь страшнее первой любви только последняя…А ещё смертоносней и губительней та первая любовь, которая, проскакивая обязательную ступень в отрочестве, нападает на уже повзрослевшего человека лет эдак с 18-ти, а уж если вообще после 20-ти лет – почти наверняка искалечит на всю оставшуюся жизнь. Но у любви нет никаких законов и обязанностей, она приходит и уходит, когда ей вздумается, а уж предсказать её приход совершенно невозможно. Как, почему первая любовь не схватила Лёльку за растущее её сердечко тогда, когда всех без разбора отроков хватает? Так необъяснимо бывает, когда человек, не ведая о том, что идёт по минному полю, проходит его спокойно от начала до конца.