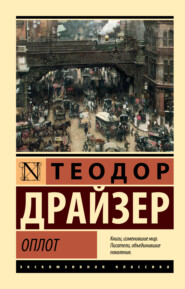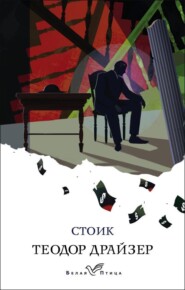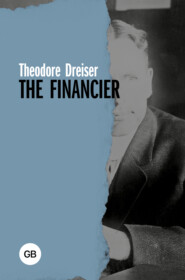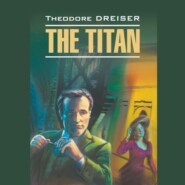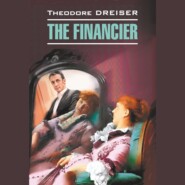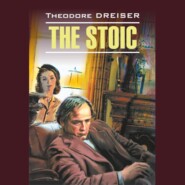По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Это безумие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это безумие
Теодор Драйзер
Neoclassic проза
«Это безумие», получившее подзаголовок «Первый правдивый из когда-либо написанных романов о любви», Теодор Драйзер считал своим самым значимым и личным произведением.
Как признавался сам автор, в его жизни романтические отношения всегда играли первостепенную роль. Они тонизировали его, будоражили мысль и укрепляли дух. Неудивительно, что любовная жизнь Драйзера была крайне насыщенной: он разошелся с женой, регулярно менял любовниц и изменял даже постоянной спутнице жизни.
Именно воспоминания о нескольких наиболее ярких отношениях в жизни Драйзера легли в основу романа. «Это безумие» публиковалось по частям на страницах журнала «Херст интернешнл» c февраля по июль 1929 года. Писатель планировал включить в текст еще несколько очерков, но так никогда и не вернулся к этой теме.
На русском языке роман публикуется впервые!
Теодор Драйзер
Это безумие
Theodore Dreiser
THIS MADNESS
© Перевод. А. Ливергант, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
От автора
Какую сторону жизни ни возьми: будь то коммерция, религия, политика, общественная жизнь, – не любовь ли лежит в ее основе?
В моей жизни, в чем я не раз себе признавался, любовные отношения всегда играли первостепенную роль. Более того, не было случая, чтобы я хотя бы раз усомнился в том, какое значение имеет любовь во всех ее проявлениях. И не только для меня, но и для любого человека. Я говорил себе: вот она, любовь, вот как она действует на нас с вами. Для одних это чувство постыдно, для других – прекрасно, но разве этот великий романтический порыв от этого менее поразителен, даже восхитителен? К чему отрицать любовь, к чему обманывать себя, пытаться ее игнорировать в наших социальных и религиозных раздумьях, в иллюзиях, которым мы в отношении ее предаемся?
Верно, иной раз мне начинало казаться, что любовь может помешать моему продвижению по жизни и даже загнать в тупик. Бывало, впрочем, и так, что у меня не вызывало сомнений: мои любовные порывы не только благотворны, но и совершенно необходимы, ведь они тонизируют, будоражат мысль и тем самым укрепляют дух. Когда любишь, ты либо прямодушен, либо, наоборот, неискренен, уклончив, замыкаешься в себе. И в стремлении к честности, к отказу от увиливания я обретал интеллектуальную отдушину, которая придавала мне сил и убеждала в том, что публичного порицания, даже самого беспощадного, бояться мне нечего.
Несмотря на все вызванные ею смятения и страдания, а также бурные восторги, любовь служила мне утешением в минуты уныния, давала возможность вступить с унынием в бой – и одержать победу. Из сердечных мук, причитаний, гнева, презрения, а также поражений и побед, вырастала красота, иной раз исступленная красота. Чувство это было столь сильным, что, несмотря на все жизненные неурядицы, компромиссы, постыдные поступки, несмотря на упадок сил, несправедливость, неспособность противостоять злу, жизнь казалась не столь тяжкой и жалкой, как без любви – прекрасного, пусть временами и мрачного цветка.
Словно бы в доказательство всего вышесказанного и в качество неотъемлемой части моей очень напряженной, крайне невеселой и в то же время необычайно увлекательной, а также целеустремленной жизни предлагаю читателям эту книгу, три новеллы (три этюда, если угодно) о трех влюбленных женщинах: Аглае, Элизабет и Сидонии. Уверен, и интеллектуально, и эмоционально они будут со мной заодно, поймут меня, как никто.
Аглая
Все эти рассуждения не могут не сказываться на восприятии жизни, на настроении. Мое же настроение в то время было, прямо скажем, не самое лучшее. Шли годы, а я до сих пор не написал ни одной книги из некогда задуманных. Подстерегали меня и любовные неудачи.
Недовольный собой, я пребывал в скверном настроении и, словно бросая нескладывающейся жизни вызов, ушел в себя. Женщины! Да бог с ними! Обойдусь без них!
А между тем еще совсем недавно, в весенние и летние, такие погожие дни, у меня над головой проплывали лучезарные курчавые облака. Я и не обратил внимания, как, точно птицы, поющие в зелени распустившихся деревьев, незаметно пролетало это чудесное время. Ах, эти полуобморочные, сладострастные весенние и летние ночи, когда я бродил и говорил с той, что, набравшись духа, от меня скрылась! Сохраню ли я ее образ? Не сотрется ли он в моей памяти? Воспоминание о ее мечтательном взоре, гибкой, слегка раскачивающейся походке, ее улыбке расслабляли меня, принуждали к бездействию.
Но вот наступила осень, и с ней медленно, словно нехотя, пришла новая жизнь. Как же часто в те дни из-за отсутствия интереса к жизни жертвовал я работой ради вечеринок, пьянства, разгула, столь способствующих забвению. И вот однажды вечером, в конце ноября, в студии одного венгерского художника собрались гости; был среди них некий Савич Мартынов, русский по рождению, издатель, певец, поэт, litterateur, переводчик русских и немецких пьес на английский для британских и американских театров. И пьяница. А еще, как я вскоре обнаружил, человек диковатый, резкий, неуравновешенный, при этом незаурядный и очень обаятельный.
Русский мечтатель, неудавшийся романист, этот пятидесятипятилетний Мартынов был женат и имел трех детей. В свое время он воевал на Кавказе, когда-то писал стихи, пел в опере, неплохо разбирался в литературе и теперь, человек угрюмый, себе на уме, стремился найти себя в этом ускользающем мире.
Да и внешне был Мартынов весьма примечателен: свирепые вздернутые усы, взлохмаченные волосы, – я был заинтригован его внешностью; заинтригован и околдован. Мы с ним увлеченно болтали о книгах и изобразительном искусстве. Еще совсем молодым, тридцатилетним, рассказал мне Мартынов, он – взыграло ретивое – порвал с Россией и отправился в западную Канаду создавать там новое искусство и прогрессивную общественную жизнь. Увы, он просчитался: подобным начинаниям редко сопутствует успех.
Тогда сей ощетинившийся юнец, обзаведясь в Саскатчеване женой и родив дочь, которую любил больше жизни, перебрался в Нью-Йорк, где вскоре заявил о себе в издательских и журналистских кругах и разбогател. Друзья у него были везде – в театрах, в опере, в картинных галереях.
Трудно сказать, что нас сблизило, однако спустя некоторое время мы стали закадычными друзьями. Он был вхож ко многим знаменитостям, которые были мне интересны. Не приду ли я к нему в гости? У него квартира на Риверсайд-драйв. Жена и старшая дочь увлекаются музыкой, искусством, театром и не выпускают книги из рук. Они будут рады со мной познакомиться, хотя ни они, ни он сам раньше никогда обо мне не слышали.
Мартынов мне нравился, и, простившись с ним на рассвете, я обнадежил его, сказав: «Обязательно», – а через минуту забыл, как его зовут.
А вот он про меня не забыл. Незадолго до Дня благодарения пришло от него приглашение на ужин. Я хандрил и прийти отказался. Перед Рождеством, однако, я был приглашен вновь. Они с женой и дочь прочли за это время «Сестру Керри». В сочельник у Мартыновых должен был состояться праздничный ужин, после чего гостей позвали поехать в православную церковь[1 - Русская православная церковь Святого Николая на Восточной 97-й улице в Нью-Йорке. – Здесь и далее примеч. пер.].
Письмо с приглашением написала их старшая дочь, Аглая. В том, как это письмо написано, было что-то задорное, лихое, дружелюбное. Я ее приглашение принял и в семь часов вечера, в сочельник, присоединился к многочисленным гостям Мартыновых, его русским и американским родственникам и близким друзьям, подобно которым раньше не встречал никого. Многие говорили с акцентом, держались при этом с апломбом.
Давно не получал я приглашений на домашние праздники и, должен сказать, принят был на удивление тепло и радушно. У жены Мартынова, госпожи Жени Мартыновой, было смуглое изящное матовое лицо, высокий восковой лоб, спадавшие на плечи густые, гладкие, иссиня-черные волосы. Из-под подведенных бровей сверкали миндалевидные глаза, руки были тонкие и тоже восковые.
Аглая была выше матери и на нее совсем непохожа; отличалась она завидным изяществом форм и бросающимся в глаза достоинством, весь ее облик дышал американской свежестью и неуемной энергией, которые говорили сами за себя и в комплиментах не нуждались.
Глаза – огромные, карие, с поволокой; лоб низкий, волосы шелковистые, вьющиеся; рот, нос и подбородок своей образцовой симметрией радуют глаз; руки и ноги маленькие, красивые. И мать и дочь произвели на меня впечатление самое благоприятное.
Но ведь не они же одни были в гостиной. Сколько гостей! Самой разной внешности, самых разных профессий. За стол сели никак не меньше двадцати человек, а к десяти часам вечера число приглашенных удвоилось. Еще бы, гостеприимство Мартынова, радушие, забота били через край.
Кому только меня – не прошло и нескольких минут – не представили: и оперным дивам, и скрипачам, и пианисту, и нескольким юристам, и художнику, и книжному графику, и двум писателям. И, сколько помню, еще десятку приглашенных: военным, морякам, русским, и американским дипломатам. Светский экспромт, одним словом!
За ужином госпожа Женя засыпала меня вопросами, тогда как ее дочь лишь роняла отдельные реплики, удостаивая меня быстрыми тревожными взглядами. Я исправно отвечал на вопросы матери, сам же думал о том, в самом ли деле ее дочь неравнодушна к лощеному красавчику офицеру, сидевшему по ее правую руку.
Мартынов, со свойственной идеалистам непосредственностью, всячески меня опекал и расхваливал. «Если б вы написали такую книгу в России, с вами бы все носились, проходу бы вам не давали! Уж эти мне американцы!» И с этими словами он подкрутил кончиками пальцев свои огненно-рыжие пышные усы и устремил на меня сверкавшие из-под густых светлых бровей глаза. Говорил он не переставая, и перед моим мысленным взором возникали несущиеся галопом казаки, дипломаты и генералы, перепоясанные орденскими лентами.
– Послушай, Аглая, давай-ка, перед тем как идти в церковь, помузицируем! Бриллов, сначала спойте, а уж потом будете пить! Знаю я вас! Ну а вы, Фердыщенко, поиграйте нам после Бриллова и Аглаи!
– Савич! – воскликнула госпожа Мартынова. – И не стыдно тебе? Ишь, раскомандовался! Вы его еще не знаете, – добавила она, обращаясь ко мне.
Аглая послушно села за пианино и принялась листать ноты, а Бриллов вышел из-за стола, встал, выпятив грудь, рядом с Аглаей и громовым голосом исполнил арию из «Андре Шенье». Аглая подыгрывала ему с чувством и с каким-то особым изяществом.
Певцам нравилось, когда Аглая им аккомпанировала. Она знала, как надо играть, чтобы не заглушить голос поющего, не довлеть над ним. Она ведь и сама пела и в искусстве вокала знала толк. Отцу, когда тот пел, аккомпанировала только она.
Я описываю все это так подробно, потому что испытывал в эти минуты откровенную зависть. Здесь так уютно, говорил я себе, после моей скромно обставленной съемной комнаты. Я с интересом наблюдаю за всей этой разношерстной компанией, люди эти мне симпатичны, но ведь меня бы здесь не было, не заинтересуйся мной всего один человек, хозяин дома к его комплиментам в мой адрес все эти гости, мужчины и женщины, вряд ли прислушаются. И то сказать: они знать меня не знают, не знают и не хотят знать. Неутешительно, прямо скажем.
Ни в какую церковь я с ними сегодня не поеду, решил я. Люди эти мне чужие, и я им чужой, один из многих.
Но мой хозяин, человек куда более наблюдательный, чем мне сначала показалось, и не думал меня отпускать. И госпожа Женя тоже. Мои слова, точнее говоря, мое дурное расположение духа были восприняты негативно: «Почему вы уходите?» Хозяева дома не рассчитывали на мой уход: надеялись, что после ужина я поеду вместе со всеми в церковь, после церкви останусь ночевать, а утром приму участие в рождественском завтраке.
Я уступил: сейчас мне уже было не так одиноко, как вначале, да и нарушать компанию друзей-единомышленников не хотелось. После пения и перед уходом в церковь появились еще двое детей Мартыновых, дочь и сын, Джулия и Адер, оба моложе Аглаи. Джулия тут же бросилась к матери, прижалась к ней и выложила все, что произошло за день.
Хотя Аглая – она была в темной шубке и в шапочке, – пригревшись в автомобиле между мной и матерью, всю дорогу весело щебетала о том, что будет в церкви, я заметил, что в ее отношении ко мне чувствуется что-то личное, даже интимное.
В ответ на мои вполне формальные вопросы Аглая объяснила, как проходит православная служба. Женщины стоят по одну сторону от прохода, мужчины – по другую, а дети – отдельно, перед алтарем. Джулии и Адеру тоже придется выйти вперед. Сказала и засмеялась. А потом, сверкнув из-под меховой шапочки своими нежными карими глазами, обронила:
– Вашу книгу я прочла еще месяц назад.
– Да?
– Мне очень понравилась, только грустная она.
Теодор Драйзер
Neoclassic проза
«Это безумие», получившее подзаголовок «Первый правдивый из когда-либо написанных романов о любви», Теодор Драйзер считал своим самым значимым и личным произведением.
Как признавался сам автор, в его жизни романтические отношения всегда играли первостепенную роль. Они тонизировали его, будоражили мысль и укрепляли дух. Неудивительно, что любовная жизнь Драйзера была крайне насыщенной: он разошелся с женой, регулярно менял любовниц и изменял даже постоянной спутнице жизни.
Именно воспоминания о нескольких наиболее ярких отношениях в жизни Драйзера легли в основу романа. «Это безумие» публиковалось по частям на страницах журнала «Херст интернешнл» c февраля по июль 1929 года. Писатель планировал включить в текст еще несколько очерков, но так никогда и не вернулся к этой теме.
На русском языке роман публикуется впервые!
Теодор Драйзер
Это безумие
Theodore Dreiser
THIS MADNESS
© Перевод. А. Ливергант, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
От автора
Какую сторону жизни ни возьми: будь то коммерция, религия, политика, общественная жизнь, – не любовь ли лежит в ее основе?
В моей жизни, в чем я не раз себе признавался, любовные отношения всегда играли первостепенную роль. Более того, не было случая, чтобы я хотя бы раз усомнился в том, какое значение имеет любовь во всех ее проявлениях. И не только для меня, но и для любого человека. Я говорил себе: вот она, любовь, вот как она действует на нас с вами. Для одних это чувство постыдно, для других – прекрасно, но разве этот великий романтический порыв от этого менее поразителен, даже восхитителен? К чему отрицать любовь, к чему обманывать себя, пытаться ее игнорировать в наших социальных и религиозных раздумьях, в иллюзиях, которым мы в отношении ее предаемся?
Верно, иной раз мне начинало казаться, что любовь может помешать моему продвижению по жизни и даже загнать в тупик. Бывало, впрочем, и так, что у меня не вызывало сомнений: мои любовные порывы не только благотворны, но и совершенно необходимы, ведь они тонизируют, будоражат мысль и тем самым укрепляют дух. Когда любишь, ты либо прямодушен, либо, наоборот, неискренен, уклончив, замыкаешься в себе. И в стремлении к честности, к отказу от увиливания я обретал интеллектуальную отдушину, которая придавала мне сил и убеждала в том, что публичного порицания, даже самого беспощадного, бояться мне нечего.
Несмотря на все вызванные ею смятения и страдания, а также бурные восторги, любовь служила мне утешением в минуты уныния, давала возможность вступить с унынием в бой – и одержать победу. Из сердечных мук, причитаний, гнева, презрения, а также поражений и побед, вырастала красота, иной раз исступленная красота. Чувство это было столь сильным, что, несмотря на все жизненные неурядицы, компромиссы, постыдные поступки, несмотря на упадок сил, несправедливость, неспособность противостоять злу, жизнь казалась не столь тяжкой и жалкой, как без любви – прекрасного, пусть временами и мрачного цветка.
Словно бы в доказательство всего вышесказанного и в качество неотъемлемой части моей очень напряженной, крайне невеселой и в то же время необычайно увлекательной, а также целеустремленной жизни предлагаю читателям эту книгу, три новеллы (три этюда, если угодно) о трех влюбленных женщинах: Аглае, Элизабет и Сидонии. Уверен, и интеллектуально, и эмоционально они будут со мной заодно, поймут меня, как никто.
Аглая
Все эти рассуждения не могут не сказываться на восприятии жизни, на настроении. Мое же настроение в то время было, прямо скажем, не самое лучшее. Шли годы, а я до сих пор не написал ни одной книги из некогда задуманных. Подстерегали меня и любовные неудачи.
Недовольный собой, я пребывал в скверном настроении и, словно бросая нескладывающейся жизни вызов, ушел в себя. Женщины! Да бог с ними! Обойдусь без них!
А между тем еще совсем недавно, в весенние и летние, такие погожие дни, у меня над головой проплывали лучезарные курчавые облака. Я и не обратил внимания, как, точно птицы, поющие в зелени распустившихся деревьев, незаметно пролетало это чудесное время. Ах, эти полуобморочные, сладострастные весенние и летние ночи, когда я бродил и говорил с той, что, набравшись духа, от меня скрылась! Сохраню ли я ее образ? Не сотрется ли он в моей памяти? Воспоминание о ее мечтательном взоре, гибкой, слегка раскачивающейся походке, ее улыбке расслабляли меня, принуждали к бездействию.
Но вот наступила осень, и с ней медленно, словно нехотя, пришла новая жизнь. Как же часто в те дни из-за отсутствия интереса к жизни жертвовал я работой ради вечеринок, пьянства, разгула, столь способствующих забвению. И вот однажды вечером, в конце ноября, в студии одного венгерского художника собрались гости; был среди них некий Савич Мартынов, русский по рождению, издатель, певец, поэт, litterateur, переводчик русских и немецких пьес на английский для британских и американских театров. И пьяница. А еще, как я вскоре обнаружил, человек диковатый, резкий, неуравновешенный, при этом незаурядный и очень обаятельный.
Русский мечтатель, неудавшийся романист, этот пятидесятипятилетний Мартынов был женат и имел трех детей. В свое время он воевал на Кавказе, когда-то писал стихи, пел в опере, неплохо разбирался в литературе и теперь, человек угрюмый, себе на уме, стремился найти себя в этом ускользающем мире.
Да и внешне был Мартынов весьма примечателен: свирепые вздернутые усы, взлохмаченные волосы, – я был заинтригован его внешностью; заинтригован и околдован. Мы с ним увлеченно болтали о книгах и изобразительном искусстве. Еще совсем молодым, тридцатилетним, рассказал мне Мартынов, он – взыграло ретивое – порвал с Россией и отправился в западную Канаду создавать там новое искусство и прогрессивную общественную жизнь. Увы, он просчитался: подобным начинаниям редко сопутствует успех.
Тогда сей ощетинившийся юнец, обзаведясь в Саскатчеване женой и родив дочь, которую любил больше жизни, перебрался в Нью-Йорк, где вскоре заявил о себе в издательских и журналистских кругах и разбогател. Друзья у него были везде – в театрах, в опере, в картинных галереях.
Трудно сказать, что нас сблизило, однако спустя некоторое время мы стали закадычными друзьями. Он был вхож ко многим знаменитостям, которые были мне интересны. Не приду ли я к нему в гости? У него квартира на Риверсайд-драйв. Жена и старшая дочь увлекаются музыкой, искусством, театром и не выпускают книги из рук. Они будут рады со мной познакомиться, хотя ни они, ни он сам раньше никогда обо мне не слышали.
Мартынов мне нравился, и, простившись с ним на рассвете, я обнадежил его, сказав: «Обязательно», – а через минуту забыл, как его зовут.
А вот он про меня не забыл. Незадолго до Дня благодарения пришло от него приглашение на ужин. Я хандрил и прийти отказался. Перед Рождеством, однако, я был приглашен вновь. Они с женой и дочь прочли за это время «Сестру Керри». В сочельник у Мартыновых должен был состояться праздничный ужин, после чего гостей позвали поехать в православную церковь[1 - Русская православная церковь Святого Николая на Восточной 97-й улице в Нью-Йорке. – Здесь и далее примеч. пер.].
Письмо с приглашением написала их старшая дочь, Аглая. В том, как это письмо написано, было что-то задорное, лихое, дружелюбное. Я ее приглашение принял и в семь часов вечера, в сочельник, присоединился к многочисленным гостям Мартыновых, его русским и американским родственникам и близким друзьям, подобно которым раньше не встречал никого. Многие говорили с акцентом, держались при этом с апломбом.
Давно не получал я приглашений на домашние праздники и, должен сказать, принят был на удивление тепло и радушно. У жены Мартынова, госпожи Жени Мартыновой, было смуглое изящное матовое лицо, высокий восковой лоб, спадавшие на плечи густые, гладкие, иссиня-черные волосы. Из-под подведенных бровей сверкали миндалевидные глаза, руки были тонкие и тоже восковые.
Аглая была выше матери и на нее совсем непохожа; отличалась она завидным изяществом форм и бросающимся в глаза достоинством, весь ее облик дышал американской свежестью и неуемной энергией, которые говорили сами за себя и в комплиментах не нуждались.
Глаза – огромные, карие, с поволокой; лоб низкий, волосы шелковистые, вьющиеся; рот, нос и подбородок своей образцовой симметрией радуют глаз; руки и ноги маленькие, красивые. И мать и дочь произвели на меня впечатление самое благоприятное.
Но ведь не они же одни были в гостиной. Сколько гостей! Самой разной внешности, самых разных профессий. За стол сели никак не меньше двадцати человек, а к десяти часам вечера число приглашенных удвоилось. Еще бы, гостеприимство Мартынова, радушие, забота били через край.
Кому только меня – не прошло и нескольких минут – не представили: и оперным дивам, и скрипачам, и пианисту, и нескольким юристам, и художнику, и книжному графику, и двум писателям. И, сколько помню, еще десятку приглашенных: военным, морякам, русским, и американским дипломатам. Светский экспромт, одним словом!
За ужином госпожа Женя засыпала меня вопросами, тогда как ее дочь лишь роняла отдельные реплики, удостаивая меня быстрыми тревожными взглядами. Я исправно отвечал на вопросы матери, сам же думал о том, в самом ли деле ее дочь неравнодушна к лощеному красавчику офицеру, сидевшему по ее правую руку.
Мартынов, со свойственной идеалистам непосредственностью, всячески меня опекал и расхваливал. «Если б вы написали такую книгу в России, с вами бы все носились, проходу бы вам не давали! Уж эти мне американцы!» И с этими словами он подкрутил кончиками пальцев свои огненно-рыжие пышные усы и устремил на меня сверкавшие из-под густых светлых бровей глаза. Говорил он не переставая, и перед моим мысленным взором возникали несущиеся галопом казаки, дипломаты и генералы, перепоясанные орденскими лентами.
– Послушай, Аглая, давай-ка, перед тем как идти в церковь, помузицируем! Бриллов, сначала спойте, а уж потом будете пить! Знаю я вас! Ну а вы, Фердыщенко, поиграйте нам после Бриллова и Аглаи!
– Савич! – воскликнула госпожа Мартынова. – И не стыдно тебе? Ишь, раскомандовался! Вы его еще не знаете, – добавила она, обращаясь ко мне.
Аглая послушно села за пианино и принялась листать ноты, а Бриллов вышел из-за стола, встал, выпятив грудь, рядом с Аглаей и громовым голосом исполнил арию из «Андре Шенье». Аглая подыгрывала ему с чувством и с каким-то особым изяществом.
Певцам нравилось, когда Аглая им аккомпанировала. Она знала, как надо играть, чтобы не заглушить голос поющего, не довлеть над ним. Она ведь и сама пела и в искусстве вокала знала толк. Отцу, когда тот пел, аккомпанировала только она.
Я описываю все это так подробно, потому что испытывал в эти минуты откровенную зависть. Здесь так уютно, говорил я себе, после моей скромно обставленной съемной комнаты. Я с интересом наблюдаю за всей этой разношерстной компанией, люди эти мне симпатичны, но ведь меня бы здесь не было, не заинтересуйся мной всего один человек, хозяин дома к его комплиментам в мой адрес все эти гости, мужчины и женщины, вряд ли прислушаются. И то сказать: они знать меня не знают, не знают и не хотят знать. Неутешительно, прямо скажем.
Ни в какую церковь я с ними сегодня не поеду, решил я. Люди эти мне чужие, и я им чужой, один из многих.
Но мой хозяин, человек куда более наблюдательный, чем мне сначала показалось, и не думал меня отпускать. И госпожа Женя тоже. Мои слова, точнее говоря, мое дурное расположение духа были восприняты негативно: «Почему вы уходите?» Хозяева дома не рассчитывали на мой уход: надеялись, что после ужина я поеду вместе со всеми в церковь, после церкви останусь ночевать, а утром приму участие в рождественском завтраке.
Я уступил: сейчас мне уже было не так одиноко, как вначале, да и нарушать компанию друзей-единомышленников не хотелось. После пения и перед уходом в церковь появились еще двое детей Мартыновых, дочь и сын, Джулия и Адер, оба моложе Аглаи. Джулия тут же бросилась к матери, прижалась к ней и выложила все, что произошло за день.
Хотя Аглая – она была в темной шубке и в шапочке, – пригревшись в автомобиле между мной и матерью, всю дорогу весело щебетала о том, что будет в церкви, я заметил, что в ее отношении ко мне чувствуется что-то личное, даже интимное.
В ответ на мои вполне формальные вопросы Аглая объяснила, как проходит православная служба. Женщины стоят по одну сторону от прохода, мужчины – по другую, а дети – отдельно, перед алтарем. Джулии и Адеру тоже придется выйти вперед. Сказала и засмеялась. А потом, сверкнув из-под меховой шапочки своими нежными карими глазами, обронила:
– Вашу книгу я прочла еще месяц назад.
– Да?
– Мне очень понравилась, только грустная она.