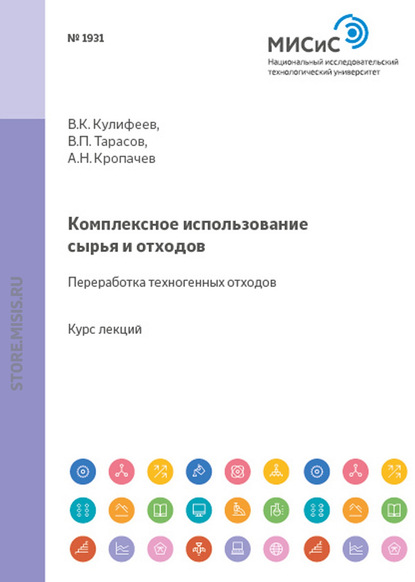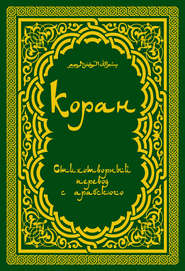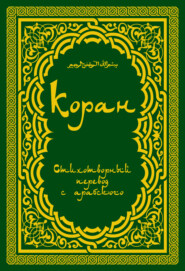По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет с Востока
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дальнейшие шаги выводили меня на параллельную улицу, и тут сразу открывался вид на пролегавший далеко внизу караванный путь. На нем прямо перед глазами возвышается Джума – Соборная, то есть Пятничная, мечеть с пересохшим бассейном для омовения, превращенная новыми властями в зернохранилище. Далее по пятницам – в Шемахе это выходной день – кипит жизнью «нижний базар», как выражаются горожане. Теперь часть лавок переехала в верхний город – говорят, что там слабее ощущаются подземные толчки, посещающие Шемаху. Но за бывшими лавками встает еще одно святилище – мечеть Сары Топрак – «Желтая Земля». Она еще втихомолку действует, но кажется, городские власти решили разместить в ней тюрьму.
Узорный минарет оставался позади, я выходил за город. Вот они: один, еще один, за ним еще – древние тутовые (шелковичные) сады, где ягоды – лакомство для людей, листья – для червяка-шелкопряда. Меж садов струится речка шириной пару метров, глубиной полметра. Искусственное разведение шелкопряда являлось в середине века одним из главных занятий местных жителей, шемахинский (талеманский) шелк высоко ценился в Италии.
Идти дальше. В стороне от садов – мусульманское кладбище. Вертикально стоящие и наклонные плиты густо покрыты надписями. Что в этих надписях? Я не знал ни одной арабской буквы. Как эти буквы вьются, сплетаются, образуя художественное кружево!.. Однако, мысль важнее красоты. Она творит красоту, а красота лишь отображает мысль.
По мостику – на другой берег речки. От воды круто подымается гора. Узкая тропинка, впадающая в широкую дорогу, выводит меня наверх. Снова кладбище, но здесь кроме обычных могил – склепы, мавзолеи, группы памятников, собранных за высокими стенами без кровли. И вновь надписи, выполненные прекрасным, как музыка, таинственным, как вечность, арабским письмом.
Люди умерли, они молчат. Буквы бессмертны, поэтому они говорили, говорят и будут говорить людям о людях. Арабские буквы поведали нам о Шехерезаде и ее чудесных повествованиях в течение тысячи и одной ночи. Но ведь это – первые струйки, исток великой реки арабской письменности, которую мне предстоит узнать, чтобы точно представить себе истории загадочного народа, создавшего эту письменность.
Справлюсь ли? Можно ли когда-нибудь овладеть всеми тайнами арабистики? Или хотя бы вплотную приблизиться к этому? Можно ли? В одиночестве, среди усыпальниц старого кладбища спрашиваю себя, тревожусь больным сомнением.
В 1928 году, 18 декабря, умер наш отец. Папу схоронили в пятницу 20 декабря, за четыре дня до его 55-летия. Он был верующим. Ксендза для заупокойной молитвы в Шемахе не нашлось, Иосиф пригласил армянского священника. Потом заказал и поставил на могиле памятник с надписью, которую сам составил.
Прошло некоторое время, и городские власти сняли с единственного русского кладбища все памятники, вывезли их в неизвестное место якобы для постройки какого-то водопровода, между тем как в Шемахе из фонтанных труб днем и ночью бежала хрустальная горная вода. Опустошенное от памятных знаков место упокоения превратили в пастбище для скота, потом отдали переселенцам – азербайджанским крестьянам – под застройку. Новые шемахинцы рыли землю под фундаменты, выбрасывали на поверхность кости и черепа, мальчишки играли черепами в футбол. Безумная жестокость. Или жестокое безумие.
Как стать арабистом?
Путь мой был и простым, и сложным. Дело жизни было выбрано сразу, без колебания и чьих-нибудь советов. Большой семье, оставленной покойным отцом, жилось трудно. С мыслью о том, что все равно буду заниматься арабистикой в свободные часы, я подал заявление в Бакинский техникум нефтяного машиностроения, чтобы скорей получить специальность и заработок. Но жить на три дома было нелегко, и я вернулся в Шемаху. В следующем году пытался поступить в сельскохозяйственный институт, но по формальным мотивам меня не приняли. Все шло к лучшему. Окончив школу, я заявил ома, что поеду в «вуз по арабскому языку», не зная, есть ли такой на свете. Мачеха ворчала: «Добро бы выучиться на инженера, врача, агронома, на худой конец, стать педагогом, а какой прок в мертвых языках?» Но я стоял на своем и, уезжая, сманил на избранную стезю и своего школьного друга, азербайджанца Халила Рагимова. В Баку мы около месяца терпеливо обивали пороги Наркомпроса и наконец 9 сентября 1931 года, вне себя от счастья, выехали по наркоматскому литеру учиться в Ленинградский институт живых восточных языков!..
Ленинград встретил нас проливным дождем. В институте, который мы нашли с трудом, нас недоуменно оглядели: «Мальчики, здесь комвуз…» Халил был так подавлен, что сразу вернулся в Азербайджан и поступил в педагогический институт, окончив который вернулся в Шемаху. А я задержался в Москве с надеждой поступить в тогдашний учебный Институт востоковедения. Но прием уже давно закончился.
– На что тебе эти мертвые языки? – удивленно спрашивала меня дальняя родственница, влиятельная и доброжелательная дама, у которой я временно остановился. – Кем ты будешь, окончив институт по языкам? Учителем с мизерным окладом, переводчиком? Что? Научная работа? Дорогой мой, это допотопно. Сейчас не то время, сейчас нужны инженеры, их ценят, они хорошо зарабатывают… Хочешь, я тебя устрою в ВЭИ? В МАИ? В МВТУ? Туда попасть трудно, но ты будешь там учиться, я поговорю с кем нужно!
И она повезла меня в Лефортово, в ВЭИ (Всесоюзный электротехнический институт) – мечту многих. Я с ней не спорил из вежливости – все-таки я жил в ее доме/ Но, когда, сияющая, она вышла из чьего-то кабинета в приемную и объявила, что меня уже зачислили, я не смог изобразить радости на своем лице и второй раз в ВЭИ не поехал.
Неугомонная москвичка возила меня в МАИ и МВТУ, визиты опять были успешными, но я выказал полное равнодушие и к этим прославленным институтам. «Ну, Петя, – в сердцах сказала моя покровительница своему брату, – займись теперь ты с ним, сил моих нет!»
Вежливый, с мягкими манерами инженер из наркомата повез меня в Горный институт, и я, подумав, что учебный год уже на полном ходу и не годится мне оставаться «в подвешенном состоянии», стал там заниматься.
Потянулись унылые дни. Из общежития на Никольской улице, здания, где двумя веками ранее в греко-латино-славянской семинарии начинал свой великий путь Ломоносов, я морозными серыми утрами ездил на Большую Калужскую, входил в новый корпус и до вечера выслушивал чинную череду лекций. В памяти и сейчас еще звучит рык математика Израиля Григорьевича Кабачника: «Втор-рая пр-роизводная игр-рек по икс, диффер-ренциал икс!» Я слышу мягкий голос старого преподавателя теоретической механики Николая Николаевича Путяты, обращенный ко мне: «Приди… Приди, пожалуйста, к доске, возьми эти цветные мелки, начерти вектор…» И я покорно чертил заученные секторы и векторы, а отойдя от доски, сразу их забывал. Вот химик Лбов… Пользуясь его глухотой, мы на уроках безбожно подсказывали друг другу формулы. Потом – час от часу не легче! – ввели курс горного искусства: потянулись речи про штреки и квершлаги, пласты наклонные, пласты крутопадающие, а меня во всем этом интересовало одно – откуда произошли имена пластов: почему этот называется «Никанор-восток», а тот «Никанор-запад», третий – «Алмазный», а четвертый зовется совсем непонятно – «Бераль»? Уголь-то везде одинаков! Кто и почему дал эти имена? Никто не мог мне ответить, да я и не настаивал. Мысли были заняты другим.
«Что же, может быть, и нет еще у нас востоковедных вузов? У кого ни спроси, никто не знает о них, и в газетах никогда не бывает объявлений о приеме на восточные факультеты… Зато технических институтов много… Может быть, так и нужно или время такое? «Техника в период реконструкции решает все». Но что же мне делать?.. А вот что: учиться в техническом вузе, учиться как следует, скорее окончить, получить назначение на работу, а потом, приглядевшись, начать по вечерам изучать арабский язык… По вечерам… В свободное время…
Интересно, а много ли свободного времени и здоровых нервов оставит мне должность горного инженера по технике безопасности?»
Примечательно и следующее мое приключение…
Выросшему в глухом захолустье, мне с детства хотелось увидеть вождей нашей страны, которых я представлял себе только по их портретам. Оказавшись в Москве, я 1 мая 1932 года подошел ко входу на Красную площадь у Москворецкого моста и протянул проверяющему единственный бывший при мне документ – членский билет профсоюза горняков. Билет был заключен в красивую красную обложку с тиснением. Проверяющий, скользнув глазами по золоченым буквам? сказал: «Проходите». Я стремительно пошел вверх на площадь, доныне помню, как летела из-под моих ног черная с отливом брусчатка. На Красной площади мне указали место на второй гостевой трибуне слева от Мавзолея. Неподвижно глядя перед собой, я старался ничего не пропустить, вобрать в свою память весь этот особый, никогда больше не повторившийся день. Передо мной прошел весь первомайский парад – мерно колыхавшиеся стройные ряды людей в разноцветных фуражках, я доныне помню мелодию сопровождавшего их марша. Прошла демонстрация – тысячи возбужденных лиц, освещенных весенним солнцем, над которыми взлетали многократные возгласы «Ура!» К вечеру все кончилось, площадь стала пустынной и пространной. Разошлись и те, кто сидел рядом со мной. Остался одинокий юноша в стареньком плаще, я, ждавший заключительной части праздника. И вот она пришла: с трибуны Мавзолея спустились люди, стоявшие там, и направились мимо меня к Никольским воротам Кремля. Нас разделяло менее десяти шагов, узнавать лица, помня их по портретам было нетрудно. «Теперь пойдем обедать», – сказал Молотов, обращаясь к спутникам. Бухарин и Коганович шли рядом. Вожди двигались не стройной, но тесной группой и вполголоса переговаривались. Впереди группы, заметно отделившись от нее, шагал Сталин. Знакомая нависшая фуражка, знакомые усы; руки были глубоко засунуты в карманы длинной серой шинели. Низкорослый генеральный секретарь тяжело ступал по брусчатке и молчаливо глядел себе под ноги, отрешенный от почтительно пониженных голосов за его спиной. Процессия свернула к воротам, я направился в свое общежитие. Годом позже вряд ли удалось бы мне попасть на Красную площадь и тем более близко увидеть сильных мира сего, но на пятнадцатом году революции еще сохранялись последние остатки демократичности первых послеоктябрьских лет…
Думаю, думаю. В аудитории зашумели: профорг Ланенков, сидевший впереди меня, достал часы-луковицу и важно проговорил: «Время кончать занятия». В новом корпусе звонок из главного здания не слышен, а преподаватели наши все как один почему-то не имеют часов. Они начинают и кончают лекции по ланенковской луковице, и это, вероятно, прибавляет ему гордости. Ланенков – эмансипированный студент: с преподавателями держится на равной ноге и говорит им «ты». Уложив часы в карман и бросив на ходу лектору «будь здоров», он выходит из аудитории, за ним тянутся другие ребята. Я выхожу во двор, на улицу и продолжаю думать о своем.
«Что же предпринять?»
«Неужели я никогда не стану «освобожденным арабистом», как бывают на заводах «освобожденные секретари», «освобожденные председатели»?»
«Неужели нет выхода?»
Февраль. Закончился «теоретический отрезок» первого курса, наша группа едет на практику. Ночь, день, ночь, день… За окном вагона замаячили высокие терриконы. Донбасс. Ирмино, шахта 4/2 бис, соседняя с «Центральной», которая через три с половиной года стала знаменита стахановским рекордом. Маленький заснеженный шахтерский поселок. Люди угля, стальная рабочая гвардия – забойщики, крепильщики, откатчики, со спокойным умением делающие свое трудное дело; отчаянные коногоны и милые ламповщицы… Первый спуск в шахту… Ух! Клеть пролетела верхний горизонт – 420 метров, а вот наш – 605. В квершлаге с кровли ручьем льет подземная вода. В штреке то и дело плотно прислоняемся к стене: мимо по узкоколейке с грохотом проносятся вагонетки, груженные мутно поблескивающим углем; их мчит лошадь, бедная белая лошадь, которой уже никогда не видеть солнца. Первые дни мы провели на очистных работах, потом нас перевели в забой. Здесь, в толще земли, в шестистах пяти метрах от ее поверхности, лежа по углу падения пласта, я «рубаю уголек». Тусклая лампочка Дэви заменяет мне весь свет мира. Матовые куски угля, отбиваемые от пласта глухо звенящим обушком, шурша, слетают вниз, к штреку, один за другим, один за другим…
«Что же предпринять? Какой выход?»
«Как стать арабистом?»
Впереди еще целая жизнь. Жизнь, которую надо прожить как можно красивее… Лучше… Достойнее… С полной отдачей сил. Не гожусь я для шахты, как горный инженер не годится для арабистики. Каждому свое. Ищи путь к своему, ищи, думай. Точное решение придет обязательно.
Еще день… Уголь, обушок, лампа Дэви.
Еще день… Лампа Дэви, обушок, уголь.
Еще день… Обушок, лампа Дэви, уголь.
Дни за днями… А практики еще много.
И вдруг – да, это было в конце февраля, – я вздрогнул от неожиданной мысли. Обушок чуть не выпал из рук.
«Марр! Надо написать Марру!»
Как же это я раньше не догадался? Николай Яковлевич Марр, творец яфетической теории, перевернувший традиционные представления о происхождении и развитии языка и мышления, языковед со всемирной славой, он ли не знает, где учат арабскому языку? Его имя, мелькавшее в газетах в связи то с «бакинским курсом» лекций, то с очередным юбилеем, помнилось мне со школьных лет. Как же это я раньше не подумал? А ответит ли Марр какому-то безвестному юнцу из Горного института? Иные люди, достигнув и не очень высокого положения, заболевают гипертрофированной черствостью. Когда, окончив шемахинскую школу, я пришел в районное учреждение за направлением в вуз и, волнуясь (вдруг откажут!), стал сбивчиво рассказывать инструктору, чему я хочу учиться, он с сожалением оглядел меня и сказал: «Да ты и говорить толком не умеешь, какой из тебя студент! Оставайся уж в Шемахе, найдем тебе работу – что-нибудь переписывать!»
В Баку, когда мы с моим другом Халилом тоже обратились за направлением, высокопоставленный ответственный работник, ни о чем не расспросив, сказал Халилу: «Тебя могу послать! Поедешь в Москву, в Институт народного хозяйства имени Плеханова! А тебе, – он повернулся ко мне, – отказываю! Нужно и здесь кому-то работать!» Мой друг, в знак солидарности со мной, отказался от предложенной вакансии; мы вышли из высокого учреждения с тяжелым сердцем. Юношеская доверчивость к людям сменилась опасением найти неожиданный отказ или оскорбление. Так уж писать ли Марру-то? Да и дойдет ли письмо?
Весной – это был уже 1932 год – вернувшись в Москву, я смог получить в справочной Центрального телеграфа адрес Марра. Тщательно составленное, по-юношески многословное и горячее послание души ушло в Ленинград. Ответ пришел скоро. Бесценная реликвия пропала в 1938 году вместе с остальными моими вещами, но память бережно хранит ее текст:
Академия наук СССР Институт языка и мышления
г. Ленинград, Университетская наб., 5
Уважаемый тов. Шумовский.
По поручению академика Н. Я. Марра сообщаю, что Вам, прежде всего, необходимо получить образование в одном из языковедных ВУЗов, например в Ленинградском историко-лингвистическом институте (ЛИЛИ), после чего Вы, в зависимости от Ваших успехов, сможете рассчитывать на место в аспирантуре.
Ученый секретарь ИЯМ (проф. Л. Башинджагян)
Наконец-то!
Я написал в Ленинградский историко-лингвистический институт, получил ответ и написал снова: меня интересовали разнообразные подробности, связанные с обучением там. Галина Николаевна Грабовская, заведующая канцелярией, терпеливо отвечала мне.
Дальше все было уже сравнительно просто: ушел из Горного института, 14 июля 1932 года отправил документы в ЛИЛИ; 28 сентября, не получив извещения о приеме, приехал «на авось» в Ленинград. С вокзала прибежал в институт, увидел себя в списке зачисленных. Я пишу эти даты по памяти: разве их можно забыть?
Первый учитель
Сырым темным утром 11 ноября 1932 года я спешил на первый урок арабского языка. Полутора месяцами ранее мне удалось стать студентом заведения с нежным именем ЛИЛИ – Ленинградский историко-лингвистический институт. В октябре я записался на специальность «Новая история арабских стран», ближайшую к интересовавшему меня арабскому средневековью, мидиевистике, а в ноябре к нам был назначен преподаватель языка – доцент Юшманов. Наконец-то, наконец увидим, что за язык у этой загадочной и трудной науки – арабистики…
Мост Строителей, по-старому Биржевой, соединяющий Петроградскую сторону с Васильевским островом, неожиданно оказался разведенным: медлительно скользя по черной воде, Малой Невой шел караван барж. Я бросился к Тучкову мосту, и не могу доныне понять, как не опоздал: обход велик. В аудитории, Первой аудитории, в самом конце длинного узкого коридора, вся наша группа была уже в сборе. Спустя несколько минут старинная дверь быстро отворилась: вошел Николай Владимирович Юшманов.
Его внешность разочаровывала: преподаватель арабского языка являлся воображению высоким, худощавым, бронзоволицым, с огненными глазами – так, должно быть, выглядит каждый араб! – а Николай Владимирович имел плотную фигуру среднего роста и пышные рыжие усы на округлом, с мягкими чертами лице. В глазах светился юмор, губы то и дело раздвигала мягкая улыбка. Идеал был разрушен, а вместо этого на уроке с первых минут установилась непринужденная, домашняя обстановка: мы весело следили за тем, как Юшманов писал на доске арабские буквы, сопровождая свои объяснения прибаутками, весело учились узнавать эти буквы в учебнике – тоненькой хрестоматии Оде-Васильевой, весело поправляли друг друга, когда перешли к связному чтению. На душе было легко и радостно, туда проникал какой-то еще неяркий, но сильный свет, излучаемый нашим преподавателем; предстоящие трудности перестали казаться неразрешимыми – чувствовалось, что при Николае Владимировиче все это не так страшно, он-то сможет терпеливо и понятно объяснить все это, его безграничное добродушие – отзвук отзывчивой души: если будешь заниматься, он не даст тебе пропасть, все будет хорошо… Хорошо… Хорошо! Только не обольщаться, не обольщаться, чтобы потом не разочароваться. Посмотрим… Посмотрим дальше, что за человек этот доцент Юшманов… Доверие… Как хочется доверять… А не раздавит ли он впоследствии твои мечты стать арабистом, арабистом-медиевистом? Не обернется ли его общительность, его заразительная веселость жизнелюба равнодушием к тебе, стремлением избавиться от тебя, когда начнешь не успевать, отставать от других? Николай Владимирович, путь студента неровен, вы это должны знать… Каким вы станете, если я начну спотыкаться? Арабский-то язык, кажется, не из легких, ох, совсем не из легких…
Резкий звонок за дверью прерывает мои мысли. Юшманов попрощался и вышел.
Узорный минарет оставался позади, я выходил за город. Вот они: один, еще один, за ним еще – древние тутовые (шелковичные) сады, где ягоды – лакомство для людей, листья – для червяка-шелкопряда. Меж садов струится речка шириной пару метров, глубиной полметра. Искусственное разведение шелкопряда являлось в середине века одним из главных занятий местных жителей, шемахинский (талеманский) шелк высоко ценился в Италии.
Идти дальше. В стороне от садов – мусульманское кладбище. Вертикально стоящие и наклонные плиты густо покрыты надписями. Что в этих надписях? Я не знал ни одной арабской буквы. Как эти буквы вьются, сплетаются, образуя художественное кружево!.. Однако, мысль важнее красоты. Она творит красоту, а красота лишь отображает мысль.
По мостику – на другой берег речки. От воды круто подымается гора. Узкая тропинка, впадающая в широкую дорогу, выводит меня наверх. Снова кладбище, но здесь кроме обычных могил – склепы, мавзолеи, группы памятников, собранных за высокими стенами без кровли. И вновь надписи, выполненные прекрасным, как музыка, таинственным, как вечность, арабским письмом.
Люди умерли, они молчат. Буквы бессмертны, поэтому они говорили, говорят и будут говорить людям о людях. Арабские буквы поведали нам о Шехерезаде и ее чудесных повествованиях в течение тысячи и одной ночи. Но ведь это – первые струйки, исток великой реки арабской письменности, которую мне предстоит узнать, чтобы точно представить себе истории загадочного народа, создавшего эту письменность.
Справлюсь ли? Можно ли когда-нибудь овладеть всеми тайнами арабистики? Или хотя бы вплотную приблизиться к этому? Можно ли? В одиночестве, среди усыпальниц старого кладбища спрашиваю себя, тревожусь больным сомнением.
В 1928 году, 18 декабря, умер наш отец. Папу схоронили в пятницу 20 декабря, за четыре дня до его 55-летия. Он был верующим. Ксендза для заупокойной молитвы в Шемахе не нашлось, Иосиф пригласил армянского священника. Потом заказал и поставил на могиле памятник с надписью, которую сам составил.
Прошло некоторое время, и городские власти сняли с единственного русского кладбища все памятники, вывезли их в неизвестное место якобы для постройки какого-то водопровода, между тем как в Шемахе из фонтанных труб днем и ночью бежала хрустальная горная вода. Опустошенное от памятных знаков место упокоения превратили в пастбище для скота, потом отдали переселенцам – азербайджанским крестьянам – под застройку. Новые шемахинцы рыли землю под фундаменты, выбрасывали на поверхность кости и черепа, мальчишки играли черепами в футбол. Безумная жестокость. Или жестокое безумие.
Как стать арабистом?
Путь мой был и простым, и сложным. Дело жизни было выбрано сразу, без колебания и чьих-нибудь советов. Большой семье, оставленной покойным отцом, жилось трудно. С мыслью о том, что все равно буду заниматься арабистикой в свободные часы, я подал заявление в Бакинский техникум нефтяного машиностроения, чтобы скорей получить специальность и заработок. Но жить на три дома было нелегко, и я вернулся в Шемаху. В следующем году пытался поступить в сельскохозяйственный институт, но по формальным мотивам меня не приняли. Все шло к лучшему. Окончив школу, я заявил ома, что поеду в «вуз по арабскому языку», не зная, есть ли такой на свете. Мачеха ворчала: «Добро бы выучиться на инженера, врача, агронома, на худой конец, стать педагогом, а какой прок в мертвых языках?» Но я стоял на своем и, уезжая, сманил на избранную стезю и своего школьного друга, азербайджанца Халила Рагимова. В Баку мы около месяца терпеливо обивали пороги Наркомпроса и наконец 9 сентября 1931 года, вне себя от счастья, выехали по наркоматскому литеру учиться в Ленинградский институт живых восточных языков!..
Ленинград встретил нас проливным дождем. В институте, который мы нашли с трудом, нас недоуменно оглядели: «Мальчики, здесь комвуз…» Халил был так подавлен, что сразу вернулся в Азербайджан и поступил в педагогический институт, окончив который вернулся в Шемаху. А я задержался в Москве с надеждой поступить в тогдашний учебный Институт востоковедения. Но прием уже давно закончился.
– На что тебе эти мертвые языки? – удивленно спрашивала меня дальняя родственница, влиятельная и доброжелательная дама, у которой я временно остановился. – Кем ты будешь, окончив институт по языкам? Учителем с мизерным окладом, переводчиком? Что? Научная работа? Дорогой мой, это допотопно. Сейчас не то время, сейчас нужны инженеры, их ценят, они хорошо зарабатывают… Хочешь, я тебя устрою в ВЭИ? В МАИ? В МВТУ? Туда попасть трудно, но ты будешь там учиться, я поговорю с кем нужно!
И она повезла меня в Лефортово, в ВЭИ (Всесоюзный электротехнический институт) – мечту многих. Я с ней не спорил из вежливости – все-таки я жил в ее доме/ Но, когда, сияющая, она вышла из чьего-то кабинета в приемную и объявила, что меня уже зачислили, я не смог изобразить радости на своем лице и второй раз в ВЭИ не поехал.
Неугомонная москвичка возила меня в МАИ и МВТУ, визиты опять были успешными, но я выказал полное равнодушие и к этим прославленным институтам. «Ну, Петя, – в сердцах сказала моя покровительница своему брату, – займись теперь ты с ним, сил моих нет!»
Вежливый, с мягкими манерами инженер из наркомата повез меня в Горный институт, и я, подумав, что учебный год уже на полном ходу и не годится мне оставаться «в подвешенном состоянии», стал там заниматься.
Потянулись унылые дни. Из общежития на Никольской улице, здания, где двумя веками ранее в греко-латино-славянской семинарии начинал свой великий путь Ломоносов, я морозными серыми утрами ездил на Большую Калужскую, входил в новый корпус и до вечера выслушивал чинную череду лекций. В памяти и сейчас еще звучит рык математика Израиля Григорьевича Кабачника: «Втор-рая пр-роизводная игр-рек по икс, диффер-ренциал икс!» Я слышу мягкий голос старого преподавателя теоретической механики Николая Николаевича Путяты, обращенный ко мне: «Приди… Приди, пожалуйста, к доске, возьми эти цветные мелки, начерти вектор…» И я покорно чертил заученные секторы и векторы, а отойдя от доски, сразу их забывал. Вот химик Лбов… Пользуясь его глухотой, мы на уроках безбожно подсказывали друг другу формулы. Потом – час от часу не легче! – ввели курс горного искусства: потянулись речи про штреки и квершлаги, пласты наклонные, пласты крутопадающие, а меня во всем этом интересовало одно – откуда произошли имена пластов: почему этот называется «Никанор-восток», а тот «Никанор-запад», третий – «Алмазный», а четвертый зовется совсем непонятно – «Бераль»? Уголь-то везде одинаков! Кто и почему дал эти имена? Никто не мог мне ответить, да я и не настаивал. Мысли были заняты другим.
«Что же, может быть, и нет еще у нас востоковедных вузов? У кого ни спроси, никто не знает о них, и в газетах никогда не бывает объявлений о приеме на восточные факультеты… Зато технических институтов много… Может быть, так и нужно или время такое? «Техника в период реконструкции решает все». Но что же мне делать?.. А вот что: учиться в техническом вузе, учиться как следует, скорее окончить, получить назначение на работу, а потом, приглядевшись, начать по вечерам изучать арабский язык… По вечерам… В свободное время…
Интересно, а много ли свободного времени и здоровых нервов оставит мне должность горного инженера по технике безопасности?»
Примечательно и следующее мое приключение…
Выросшему в глухом захолустье, мне с детства хотелось увидеть вождей нашей страны, которых я представлял себе только по их портретам. Оказавшись в Москве, я 1 мая 1932 года подошел ко входу на Красную площадь у Москворецкого моста и протянул проверяющему единственный бывший при мне документ – членский билет профсоюза горняков. Билет был заключен в красивую красную обложку с тиснением. Проверяющий, скользнув глазами по золоченым буквам? сказал: «Проходите». Я стремительно пошел вверх на площадь, доныне помню, как летела из-под моих ног черная с отливом брусчатка. На Красной площади мне указали место на второй гостевой трибуне слева от Мавзолея. Неподвижно глядя перед собой, я старался ничего не пропустить, вобрать в свою память весь этот особый, никогда больше не повторившийся день. Передо мной прошел весь первомайский парад – мерно колыхавшиеся стройные ряды людей в разноцветных фуражках, я доныне помню мелодию сопровождавшего их марша. Прошла демонстрация – тысячи возбужденных лиц, освещенных весенним солнцем, над которыми взлетали многократные возгласы «Ура!» К вечеру все кончилось, площадь стала пустынной и пространной. Разошлись и те, кто сидел рядом со мной. Остался одинокий юноша в стареньком плаще, я, ждавший заключительной части праздника. И вот она пришла: с трибуны Мавзолея спустились люди, стоявшие там, и направились мимо меня к Никольским воротам Кремля. Нас разделяло менее десяти шагов, узнавать лица, помня их по портретам было нетрудно. «Теперь пойдем обедать», – сказал Молотов, обращаясь к спутникам. Бухарин и Коганович шли рядом. Вожди двигались не стройной, но тесной группой и вполголоса переговаривались. Впереди группы, заметно отделившись от нее, шагал Сталин. Знакомая нависшая фуражка, знакомые усы; руки были глубоко засунуты в карманы длинной серой шинели. Низкорослый генеральный секретарь тяжело ступал по брусчатке и молчаливо глядел себе под ноги, отрешенный от почтительно пониженных голосов за его спиной. Процессия свернула к воротам, я направился в свое общежитие. Годом позже вряд ли удалось бы мне попасть на Красную площадь и тем более близко увидеть сильных мира сего, но на пятнадцатом году революции еще сохранялись последние остатки демократичности первых послеоктябрьских лет…
Думаю, думаю. В аудитории зашумели: профорг Ланенков, сидевший впереди меня, достал часы-луковицу и важно проговорил: «Время кончать занятия». В новом корпусе звонок из главного здания не слышен, а преподаватели наши все как один почему-то не имеют часов. Они начинают и кончают лекции по ланенковской луковице, и это, вероятно, прибавляет ему гордости. Ланенков – эмансипированный студент: с преподавателями держится на равной ноге и говорит им «ты». Уложив часы в карман и бросив на ходу лектору «будь здоров», он выходит из аудитории, за ним тянутся другие ребята. Я выхожу во двор, на улицу и продолжаю думать о своем.
«Что же предпринять?»
«Неужели я никогда не стану «освобожденным арабистом», как бывают на заводах «освобожденные секретари», «освобожденные председатели»?»
«Неужели нет выхода?»
Февраль. Закончился «теоретический отрезок» первого курса, наша группа едет на практику. Ночь, день, ночь, день… За окном вагона замаячили высокие терриконы. Донбасс. Ирмино, шахта 4/2 бис, соседняя с «Центральной», которая через три с половиной года стала знаменита стахановским рекордом. Маленький заснеженный шахтерский поселок. Люди угля, стальная рабочая гвардия – забойщики, крепильщики, откатчики, со спокойным умением делающие свое трудное дело; отчаянные коногоны и милые ламповщицы… Первый спуск в шахту… Ух! Клеть пролетела верхний горизонт – 420 метров, а вот наш – 605. В квершлаге с кровли ручьем льет подземная вода. В штреке то и дело плотно прислоняемся к стене: мимо по узкоколейке с грохотом проносятся вагонетки, груженные мутно поблескивающим углем; их мчит лошадь, бедная белая лошадь, которой уже никогда не видеть солнца. Первые дни мы провели на очистных работах, потом нас перевели в забой. Здесь, в толще земли, в шестистах пяти метрах от ее поверхности, лежа по углу падения пласта, я «рубаю уголек». Тусклая лампочка Дэви заменяет мне весь свет мира. Матовые куски угля, отбиваемые от пласта глухо звенящим обушком, шурша, слетают вниз, к штреку, один за другим, один за другим…
«Что же предпринять? Какой выход?»
«Как стать арабистом?»
Впереди еще целая жизнь. Жизнь, которую надо прожить как можно красивее… Лучше… Достойнее… С полной отдачей сил. Не гожусь я для шахты, как горный инженер не годится для арабистики. Каждому свое. Ищи путь к своему, ищи, думай. Точное решение придет обязательно.
Еще день… Уголь, обушок, лампа Дэви.
Еще день… Лампа Дэви, обушок, уголь.
Еще день… Обушок, лампа Дэви, уголь.
Дни за днями… А практики еще много.
И вдруг – да, это было в конце февраля, – я вздрогнул от неожиданной мысли. Обушок чуть не выпал из рук.
«Марр! Надо написать Марру!»
Как же это я раньше не догадался? Николай Яковлевич Марр, творец яфетической теории, перевернувший традиционные представления о происхождении и развитии языка и мышления, языковед со всемирной славой, он ли не знает, где учат арабскому языку? Его имя, мелькавшее в газетах в связи то с «бакинским курсом» лекций, то с очередным юбилеем, помнилось мне со школьных лет. Как же это я раньше не подумал? А ответит ли Марр какому-то безвестному юнцу из Горного института? Иные люди, достигнув и не очень высокого положения, заболевают гипертрофированной черствостью. Когда, окончив шемахинскую школу, я пришел в районное учреждение за направлением в вуз и, волнуясь (вдруг откажут!), стал сбивчиво рассказывать инструктору, чему я хочу учиться, он с сожалением оглядел меня и сказал: «Да ты и говорить толком не умеешь, какой из тебя студент! Оставайся уж в Шемахе, найдем тебе работу – что-нибудь переписывать!»
В Баку, когда мы с моим другом Халилом тоже обратились за направлением, высокопоставленный ответственный работник, ни о чем не расспросив, сказал Халилу: «Тебя могу послать! Поедешь в Москву, в Институт народного хозяйства имени Плеханова! А тебе, – он повернулся ко мне, – отказываю! Нужно и здесь кому-то работать!» Мой друг, в знак солидарности со мной, отказался от предложенной вакансии; мы вышли из высокого учреждения с тяжелым сердцем. Юношеская доверчивость к людям сменилась опасением найти неожиданный отказ или оскорбление. Так уж писать ли Марру-то? Да и дойдет ли письмо?
Весной – это был уже 1932 год – вернувшись в Москву, я смог получить в справочной Центрального телеграфа адрес Марра. Тщательно составленное, по-юношески многословное и горячее послание души ушло в Ленинград. Ответ пришел скоро. Бесценная реликвия пропала в 1938 году вместе с остальными моими вещами, но память бережно хранит ее текст:
Академия наук СССР Институт языка и мышления
г. Ленинград, Университетская наб., 5
Уважаемый тов. Шумовский.
По поручению академика Н. Я. Марра сообщаю, что Вам, прежде всего, необходимо получить образование в одном из языковедных ВУЗов, например в Ленинградском историко-лингвистическом институте (ЛИЛИ), после чего Вы, в зависимости от Ваших успехов, сможете рассчитывать на место в аспирантуре.
Ученый секретарь ИЯМ (проф. Л. Башинджагян)
Наконец-то!
Я написал в Ленинградский историко-лингвистический институт, получил ответ и написал снова: меня интересовали разнообразные подробности, связанные с обучением там. Галина Николаевна Грабовская, заведующая канцелярией, терпеливо отвечала мне.
Дальше все было уже сравнительно просто: ушел из Горного института, 14 июля 1932 года отправил документы в ЛИЛИ; 28 сентября, не получив извещения о приеме, приехал «на авось» в Ленинград. С вокзала прибежал в институт, увидел себя в списке зачисленных. Я пишу эти даты по памяти: разве их можно забыть?
Первый учитель
Сырым темным утром 11 ноября 1932 года я спешил на первый урок арабского языка. Полутора месяцами ранее мне удалось стать студентом заведения с нежным именем ЛИЛИ – Ленинградский историко-лингвистический институт. В октябре я записался на специальность «Новая история арабских стран», ближайшую к интересовавшему меня арабскому средневековью, мидиевистике, а в ноябре к нам был назначен преподаватель языка – доцент Юшманов. Наконец-то, наконец увидим, что за язык у этой загадочной и трудной науки – арабистики…
Мост Строителей, по-старому Биржевой, соединяющий Петроградскую сторону с Васильевским островом, неожиданно оказался разведенным: медлительно скользя по черной воде, Малой Невой шел караван барж. Я бросился к Тучкову мосту, и не могу доныне понять, как не опоздал: обход велик. В аудитории, Первой аудитории, в самом конце длинного узкого коридора, вся наша группа была уже в сборе. Спустя несколько минут старинная дверь быстро отворилась: вошел Николай Владимирович Юшманов.
Его внешность разочаровывала: преподаватель арабского языка являлся воображению высоким, худощавым, бронзоволицым, с огненными глазами – так, должно быть, выглядит каждый араб! – а Николай Владимирович имел плотную фигуру среднего роста и пышные рыжие усы на округлом, с мягкими чертами лице. В глазах светился юмор, губы то и дело раздвигала мягкая улыбка. Идеал был разрушен, а вместо этого на уроке с первых минут установилась непринужденная, домашняя обстановка: мы весело следили за тем, как Юшманов писал на доске арабские буквы, сопровождая свои объяснения прибаутками, весело учились узнавать эти буквы в учебнике – тоненькой хрестоматии Оде-Васильевой, весело поправляли друг друга, когда перешли к связному чтению. На душе было легко и радостно, туда проникал какой-то еще неяркий, но сильный свет, излучаемый нашим преподавателем; предстоящие трудности перестали казаться неразрешимыми – чувствовалось, что при Николае Владимировиче все это не так страшно, он-то сможет терпеливо и понятно объяснить все это, его безграничное добродушие – отзвук отзывчивой души: если будешь заниматься, он не даст тебе пропасть, все будет хорошо… Хорошо… Хорошо! Только не обольщаться, не обольщаться, чтобы потом не разочароваться. Посмотрим… Посмотрим дальше, что за человек этот доцент Юшманов… Доверие… Как хочется доверять… А не раздавит ли он впоследствии твои мечты стать арабистом, арабистом-медиевистом? Не обернется ли его общительность, его заразительная веселость жизнелюба равнодушием к тебе, стремлением избавиться от тебя, когда начнешь не успевать, отставать от других? Николай Владимирович, путь студента неровен, вы это должны знать… Каким вы станете, если я начну спотыкаться? Арабский-то язык, кажется, не из легких, ох, совсем не из легких…
Резкий звонок за дверью прерывает мои мысли. Юшманов попрощался и вышел.