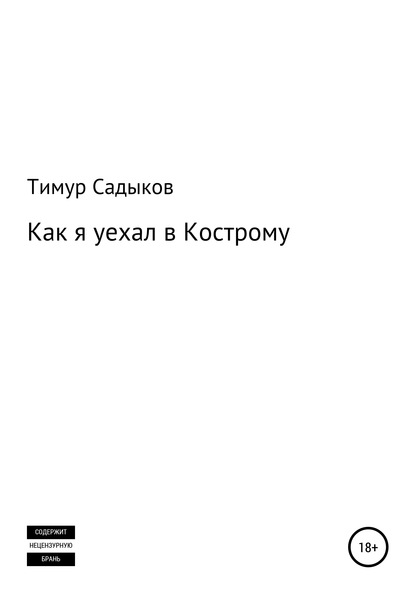По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как я уехал в Кострому
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я мало что понимаю в женских городах. Как и в женских странах. Они открыты случайным знакомствам? Они доступны? Любят выпить? Ласковы во хмелю? Я не знаю, как любить женский город. И женскую страну. Я бы мог любить ирландскую глубинку так же, как русскую: разбавить скрипочки пастушьими рожками, запить ржаной самогон темным элем. Начать день с коддла, а завершить котлетами с тушеной капустой. И любить этот симбиоз свинцовых небес, прибрежных дюн, лиственных лесов, кикимор и лепреконов. Любить без памяти. Безоглядно. Так, чтобы эта любовь не испустила дух на третий день.
Любовь живет три дня. Это поразительное открытие я совершил еще в девятом классе, когда первая красавица школы повела плечом и проплыла мимо. Знаете, как это обидно… Три дня, три дня ты готовился. Репетировал. Репетировал! Главное – не гримасничать и смущаться в меру. И цветы. Какие цветы могут быть куплены на уворованную у родителей мелочь? Букет тюльпанов с толстыми короткими стеблями, перевязанными нитками. Но я наскреб на розу. Вы знаете, она была роскошной. Лучшая роза в моей жизни. У нее был большой и довольно плотный цветок и длинная мясистая ножка. Если бы розу можно было есть, я бы тут же нашинковал ее в салат. Она была аппетитна, если так можно говорить о цветке.
Посмотрите на меня, я стою с цветком. Отрепетированной речью. Причесанный. Это важно. Рубашечка заправлена. Выпуск спереди чуть больше, сзади – поплотнее. Красивый до жути. Вы вообще понимаете, на какой подвиг я пошел, через какой позор проходил в этот момент?..
Я стою в школьном коридоре. Мимо меня туда-сюда шастают одноклассники, пацаны из параллельных классов. Тычут пальцами, прячут улыбочки эти глумливые. А я стою: гордый, красивый, в заправленной рубашечке. Причесанный! Это важно. Жду. Внутри затеплилось. Забилось. Вдруг понимаешь, что у тебя есть сердце. Оно может кричать, бить в барабаны, даже прыгать через лужи.
И вот по школьному коридору плывет она. Я весь обмер, сердце гулко стучит, в коленях слабость предательская. И язык, язык к небу прилип, не шевелится. Надо же что-то говорить, она уже поравнялась со мной, надо выдавить из себя хоть слово… Ну, ты же репетировал! Репетировал! И ты что-то мычишь и протягиваешь ей цветок. И даже как-то не весь цветок. Только часть. Так бывает, когда руки не слушаются, а ты хочешь цветок протянуть, и он не цветком вперед протягивается, а стеблем. И рука полусогнутая, пальчики дрожат. А потом цветок – бац! – и выпадает. Вот вся эта роскошная роза и на полу. И первая красавица школы смотрит на тебя, а потом плечиком так поводит и уходит. И уже неважно, что самый лучший цветок валяется на полу, что ты заправленный и причесанный. Внутри вдруг становится пусто и удивительно легко: все, отпустило. Щелк – словно кто-то могущественный и неподвластный твоей воле вдруг опустил рубильник. Поднимаешь с пола эту розу, бежишь к самой некрасивой девчонке в классе, суешь ей эту розу: «Дормидонтова, на!» Выправляешь рубашечку, взлохмачиваешь прическу и выбегаешь на улицу. А там – весна! Птицы орут как оглашенные. Свежесть дурманящая, солнце! Да к черту ее, эту Ингу, тут такая весна!
Если честно, то я не был обделен женским вниманием. Женщины были в моей жизни всегда. Каждый час моего существования был пропитан ими. Юбки падали или задирались с завидной регулярностью. Меня любили женщины миниатюрные, такие хрупкие, что казалось, подуй легкий ветерок, и они сломаются пополам, рассыплются на тысячу мелких осколков. Эти маленькие березки оказались самыми стойкими. Гнулись и не ломались. Простите за двусмысленность, но одна такая фарфоровая девчонка выдерживала атаку моего бронепоезда несколько лет. Она ушла от меня сама. Когда у меня на перегоне что-то заклинило, и я перестал стремиться в ее депо.
Монументальные женщины любили меня не меньше. Им не хватало стойкости, но они старались. Страстно и сильно, так же сильно, как мечтали о счастье. Одна грандиозная женщина из Ростова как-то крепко прижала меня в танце и жарко зашептала на ухо:
– Мы заведем с вами котеночка и комнатную розу. Вы же любите комнатные растения? Помните, как в «Маленьком принце»: роза, что ждала тигров? У нас будет такая же. А еще мы станем с вами ходить в электрический театр. Вы же любите электрический театр? Там сейчас дают прелестную вещицу. А в ванной мы повесим розовую штору. Вы же любите розовый цвет?
Я сбежал от нее через пару месяцев. На память остались упреки, розовая штора и жгучая любовь к большим округлым женским прелестям. Я так полюбил монументальных женщин, что когда одна из моих бывших миниатюрных девчонок спросила: «А как выглядит твоя нынешняя любовь?», я ответил: «Видела когда-нибудь нефтяной танкер? Ну, собственно, вот». Одна беда: мне с ними скучно. Милашки тоскливы. Сумасбродки предсказуемы. Развратницы банальны. Правда, моралистки веселят, но надо очень любить пранк, чтобы связать жизнь с такой дамочкой.
Где-то под океаном белого цвета на моем глобусе прячется Куба. Я уверен, она поможет мне развеять тоску. Если бы уже завтра мне пришлось выбирать между рыжими и темненькими, я бы выбрал темненьких. Любовь должна быть с привкусом шоколада, а не пива. О Кубе я знаю даже больше, чем об Ирландии. Оба острова роднит любовь к подручным плавательным средствам и к Новому Свету. Но вот Новый Свет не любит кубинцев. Америка не хочет, чтобы кубинцы ее строили. Видимо земли стало меньше. И согнать с нее остатки истинных хозяев уже не получится. Это все чертовы права человека! В новом веке геноцид стал предосудительным развлечением. Но я не Америка, меня восхищают креолки, переплывающие Флоридский пролив в поисках белого жениха.
Однажды ирландки покорили Голливуд. «Гиннесс» и пара капель виски двигают жернова ирландской истории. Мохито – напиток пожиже. Кубинский ром создан для наслаждения жизнью. Тростниковый спирт не пробуждает в жителях кубинских островов боевого духа древних завоевателей. Он помогает лучше двигаться в такт кубинской сальсе. Но движения креольских женских бедер под сальсу лучше прыжков и подскоков ирландской джиги.
А еще я обнаруживаю в себе любовь к новоорлеанскому джазу. Он иногда напоминает мне танец теней на асфальте жарким летним днем. И грешное влечение к холодным красавицам нордического типа с неожиданно-страстным разрезом платья. Я чувствую в себе тягу к старым кадиллакам. Современные машины скучны. Их много, они одинаковы. Это жестяные коробки на колесах, различающиеся только продолжительностью вашего финансового рабства. В старых же автомобилях есть свой шарм. Даже то, что ручка переключения скоростей под рулем, спереди не два кресла, а сразу целый диван, это очень впечатляет. В таком автомобиле чувствуешь себя королем Нигерии, открывающим парад по случаю очередного военного переворота.
Я представляю, как рассекаю на моем Cadillac Eldorado вдоль кромки моря, скажем, где-нибудь в кубинском Варадейро. Я в парусиновых брючках, светлом поло классического кроя и шляпе «на панаму». А потом это становится похожим на клип Питбуля и Бруно Марса, где крепкозадые темнокожие танцовщицы исполняют тверк на капоте, натирая его воском и своими прелестями. Обывательская мечта. Мещанская. Прав Антон Палыч. Но что вы хотите, я уже засматриваюсь на молоденьких девочек – стремительно старею. Что мне остается – Бруно Марс, Cadillac Eldorado и лето. Лето самой большой любви.
Лето – это любовь. В наших краях она не великая. У нас не принято быть в тепле долго, можно размякнуть, подобреть. Чего доброго потом начнешь частокол разбирать, скрепы духовные гнуть и задавать главному агроному вопросы, почему у нас урождается только лопух да крапива, когда могли бы ананасы и рябчики. Потом перестанешь ждать врагов, а после вовсе саксофон и бомбу в царя. Поэтому любовь у нас короткими перебежками, да и то чтоб вспотеть, а не согреться.
Я помню лето самой большой любви, не великой, просто большой. Такой любви хватает на несколько несчастных месяцев и еще на пару лет волнующих воспоминаний. Дни сохраняются в памяти как засвеченные фотографии. В них было слишком много солнца и яркости. И самые темные ночи, которые я до сих пор ощущаю всей кожей. Шепот. Вздохи. Скрипы. И твой «Мадди Уотерс» (ту-ду-ду-ду-ду!), который, как известно, «просто класс». Я жил тобой одно безнадежно короткое лето. Раз за разом я растворялся в тебе, как лед в стакане с бурбоном. И ты была для меня солнцем, бризом, океаном, который я никогда не видел. Шептала во мне, рождая внутри теплоту и необычайную легкость.
Юная любовь – самая яркая. Вот эта сопливая, щенячья и ярче любого фейерверка! Любовь после первых ожогов такая осторожная, вдумчивая, техничная. Немного расчетливая. А вот эта незрелая, но удивительно сочная и вкусная, все равно самое заметное, ничем не выводимое пятно на рубашке любви. Но она до обидного быстротечна: еще вчера ты исследовал все изгибы и обводы ее тела, а сегодня она выставляет тебя за порог с ничего не объясняющим «не хочу».
Тем летом мы научились разводить дешевый бренди спрайтом. Получалось мерзко, сладко и липко. Вот так мы тогда и слиплись, те самые две половинки.
Знаете, как выглядели летние дискотеки в середине девяностых? Вот там отмечают, тут скандалят, а вот в том углу кто-то уже прячет труп. И не танцуют, а жмутся по углам… Вру, конечно. Дискотеки были не только поводом подраться – мы приходили туда потискаться. В темном зале под шумок можно было незаметно ухватить зазевавшуюся нимфу за задницу и быстренько смыться незамеченным. А в тот вечер меня подвел наш дешевый коктейль. Слиться не удалось. И вот нимфа уже сидит у меня на коленях, долго и путано объясняет что-то про свое имя, то ли греческое с белорусской транскрипцией, то ли украинское с датскими корнями. Как сейчас помню – Одиллия. Алкоголь подсказывал, что она красива. И мои руки под ее футболкой это подтверждали. Одиллия сочно целовала меня мягкими чуть полноватыми губами.
И как-то случайно получилось: я оторвался от нее, вышел из зала и не вернулся. На скамейке у входа сидела некрасивая девчонка. Она что-то активно писала в блокнот. Нет, вокруг кипела жизнь, а она сидела и конспектировала. Я, по-моему, даже протрезвел от такого диссонанса. Что-то спросил, она буркнула в ответ. Я не смолчал, съязвил. Она парировала. И эта пикировка получилась такой увлекательной, что я не заметил, как оказался на улице. Оказывается, мы уже отмахали три квартала. Я держал ее за руку и слушал. Я редко слушаю. Я – вещаю. Друзья даже называют меня Центнер-FM. Они у меня сволочи, когда-нибудь я отомщу – приду к ним домой и съем вместе с домашними питомцами. Но в тот вечер – в тот вечер я молчал.
Она была не красива. Она была ошеломительна. Мы проговорили всю ночь. Шатались по улицам и говорили. Пытались поймать мотор. Улицы были пустые, тихие, безлюдные. Мы встретили рассвет на балконе подъездной площадки какой-то многоэтажки – и расстались. Утром я вспомнил про ту, с губами и грудью, Одиллию. Она успела мне на ладони написать свой номер. А некрасивая девчонка свой номер не оставила. Я потом несколько раз приходил на ту дискотеку, сидел на той скамейке. Так и просидел все лето. Вместе с Одиллией. Ждал, но чаще целовался.
Любовь – самый жестокий бог. Вернее, богиня. Вы замечали, как жестоки могут быть женщины, лишенные любви? Задумайтесь, ведь на самом деле Любовь никого не любит. Ей не до этого. В мире мало любви, и надо всех одарить. Все семь миллиардов! Чем больше любви, тем больше людей. Чем больше людей, тем меньше любви. Без любви – как без приправы: жить можно, но пресно. Вот и живем. Семь миллиардов никем не любимых болванчиков. Глиняных големов.
Любовь – это дверь. Но – сюрприз – без глазка. Так что неизвестно, кому ты откроешь. По этому поводу у меня есть две волшебные истории о любви. Я помню, тогда ларьки были на каждом шагу, пиво-водка-сигареты. Ну и всегда толпа страждущих у окошка. Стою возле ларька, а передо мной девочка. Сейчас таких принято называть «няша». Моя няша была образца девяносто шестого года. Стройная крашеная блондиночка в узенькой джинсовой юбочке и растянутой футболке с принтом. Сама хорошенькая, ну просто девочка-отличница.
И вот она подходит к окошку ларька, наклоняется, чтобы туда что-то заказать. Кто не застал – расскажу: ларьки были грубо сколоченными киосками типа советской «Союзпечати», а в них окошки на уровне вашего пояса, поэтому надо было складываться в два, иногда в три раза и почти нырять в это окошко. Вот моя няша нагибается (стоит отметить – зрелище приятное), краем глаза замечает в дальнем конце улицы парня, тут же все бросает и бежит к нему. Парень тоже видит ее и мчит навстречу. Играет лирическая мелодия. Она – красивая, в этой юбочке, футболочке с принтом, длинные волосы развеваются, и он – коротко стриженный, почти лысый, в спортивном костюме, но выглядит, знаете, мужественно; и они бегут навстречу друг другу.
И вот она падает в его объятья и кричит:
– Тоха, сука, я тебя хер больше отпущу! Я, бля, две ночи рыдала!
А он ей так успокаивающе в ответ:
– Да, ладно, все ж обошлось. Хрен ли так волноваться.
Любовь.
А потом возле того же ларька наблюдал другую картину. Она маленькая, как японская фарфоровая статуэтка, а он огромный, ни дать ни взять – американский гризли. Представьте, как миниатюрная девочка тащит на себе этого гризли. Это было похоже на диснеевский мультик про храброго мышонка, который поймал огромного страшного кота и теперь тащит его к себе в нору – то ли сразу съесть, то ли сперва судить, а уж потом съесть. И вот этот гризли молча висит на девочке мешком, иногда что-то пьяно булькнет и снова затихает. В конце концов она не выдерживает, прислоняет своего медведя к стенке ларька, трясет его и плачет:
– Гриша, я же просила! А ты опять напился!
Гриша отрывается от стенки ларька, принимает на секунду героическую позу, отвечает:
– Да я люблю тебя, ептель! – и падает прямо на нее.
Девочка успевает его перехватить, взваливает на себя и шустро уволакивает. Наверное, к себе в норку.
Тоже любовь.
А вы заметили, что у нас больше нет бабьего лета в сентябре? Вот этого длинного теплого угасания, с летающей паутиной, с прохладными вечерами. Как-то сразу раз – и октябрь, заряжают холодные дожди, изо всех щелей лезет сырость. Летние кафе сворачиваются. Убираются веранды, тенты, столики, зонтики. Даже шашлычники разбирают мангалы. И последнее августовское вино из одуванчиков не радует – слишком горчит. В это лето опять не случилось. А сколько было планов… Знаете, что такое просрать лето на самом деле? Это когда за три восхитительных летних месяца ты не завел себе человека.
У нас жестокая зима. Особенно беспощадна она к тем, кто не успел за лето завести себе человека. Взять человека «про запас» – это ведь как медведю накопить подкожный жир. Кто будет вас согревать долгими зимними ночами? Кто напитает теплом? Кто станет лучшим средством от авитаминоза ранней студеной весной? Ваш летний человек! Не всем везет, но так случается, что этот человек дотянет до следующего лета, а потом еще до одного. И еще… Человек человеку – лучший витамин. А про волка придумал несчастный одиночка. У него не было лета, бренди со спрайтом, скамейки и некрасивой девчонки.
Знаете, это становится похожим на сентиментальное путешествие Иванушки-дурачка в Царствие небесное: открыл дверь, поймал попутку и бесцельно едешь в никуда. Одно радует: в качестве транспорта – не серый волк. И хоть все дороги ведут в Кострому, добраться по ним из пункта «А» в пункт «Б» очень непростая задачка.
Скажем, поезда. Я не испытываю к ним любви. Кто-то рад упасть в купе на полку и всю ночь проспать под стук колес. Эти счастливчики наверняка могут сладко спать под грохот артиллерийской канонады или под звуки интимных утех соседей сверху. Я думаю, что канонада даже предпочтительнее: ничто не раздражает сильнее неровного ритма и стонов невпопад. А в поезде даже стук колес не помогает.
Железнодорожная Россия скучна необыкновенно. Картинки в окне разнообразием не балуют. Железнодорожная Россия своего зрителя не любит. В окне какие-то чахлые березки вдоль откоса, изломанные, жалкие, будто дети-сиротки, жмущиеся к обочине. Еще – ивняк, царь горы, блатной король железнодорожных откосов. Растет всюду, везде ему хорошо, везде блатует. И тополя. Иногда мне кажется, что тополя у нас – незаконные эмигранты: их много, они везде, и даже там, где всегда росли березы или ивняк, теперь они. И вот этот зеленый живой забор вдоль откоса, он как паранджа: смотри на это обилие листвы и гадай, что же за ней прячется.
Иногда попадаются деревеньки. Пяток дворов, деревянные дома, покосившиеся, почерневшие фасады. А сверху – спутниковая тарелка. Здесь тоже смотрят «Игру престолов». Болеют за Тормунда.
Железнодорожные пейзажи – это самое скучное зрелище. Ни тебе резких поворотов сюжета, ни мастерских актерских работ, на спецэффекты вообще не тратились. Сразу хочется заорать: «Опять бюджет распилили?!» или «А почему сценариста не позвали?», «Режиссер бездарь!», а потом обязательно: «Просрали Россию».
Любому поезду я предпочитаю самолет. Я люблю самолеты и обожаю аэропорты. Аэропорт – это обещание. Это даже лучше поцелуя. Поцелуй – это практически обязательство, после него надо приступать к телу. Аэропорт же ничего не обещает. Вот ты целуешься, стараешься соответствовать ожиданиям, а аэропорту на твои ожидания плевать. Он может запросто не принять: нелетная погода, забастовка диспетчеров в Венесуэле… или кто-то опять на машине по залу ожидания катается. Аэропорт принял и отправил. Он не дом, не приют, он к вам абсолютно равнодушен. По сути, все воздушные гавани – двери. Открыл – и ты в Майами. Или в Токио. И, конечно же, в Дублине. Хоть и с пересадкой во Франкфурте. И Брендан Глисон у стойки прибытия с моим именем на табличке. Выглядывает меня в толпе прибывших. Волнуется. Ждет солянку.
Я не понимаю тех, кто боится летать и предпочитает самолету поезд. Нет, я признаю, что это немного страшно. Вот эта огромная железная махина, которая не должна летать, несет тебя в своем чреве на высоте десяти тысяч метров. Такую высоту даже представить страшно. У меня на краю крыши пятиэтажки ноги подкашиваются, а тут – десять тысяч! Но это как с морскими путешествиями: под тобой неспокойный океан, а глубина такая, что ни один Джек ни к какой Розе не вернется. Но ведь плывешь. Аэрофобы тоже все равно летят. Молятся и летят. Летят и молятся. Самолет трясет, а эти – молятся. Истово, очень искренне.
Меня всегда это удивляет. Как молитва поможет? Самолет летит с божьей помощью и святым благословением, что ли? Или помолился и в случае чего выжил? Не надейтесь. Если вдруг что, молитва поможет только к божьему престолу без лишней толкотни пройти. Хотя и тут я не уверен. Верующих много, плюс атеисты и агностики… пока всех рассортируют, долгую очередь отстоять придется. А для таких вот желающих на святом слове в рай без очереди въехать – отдельная очередь. С другой стороны, возможно, эта многотонная махина и летит только благодаря молитвам. Сначала молился первый конструктор, чтоб этот трельяж с пропеллером полетел, потом первый пилот: «Ну, пожалуйста, ну, лети!» А уж после и пассажиры: «Только не в океан, только не в океан, я и плавать то не умею!» Не удивлюсь, если святым словом можно будет червоточины открывать и попадать в другие галактики. Тоже, кстати, двери.
И вот мы летим, удерживаясь в воздухе реактивной тягой и словом святым, торопимся в пункт «Б». Стюардессы улыбаются, разносят напитки. Капитан бубнит в интерком непонятное на нескольких языках: «Дамы и господа, говорит капитан, наш полет проходит на высоте десять тысяч метров, температура за бортом минус двадцать пять градусов, в аэропорту прибытия температура хорошая, экипаж желает вам приятного полета… Ladies and gentleman, this is your captain speaking…» А потом вдруг четко и хорошо различимо добавляет: «Вашими молитвами, никто не умрет сегодня».
Мысли о смерти занимали меня с детства. Мне казалось это удивительным. Мне пять лет, я живу с мамой и папой в большой квартире с удобствами во дворе. Сплю на диване в самом сердце мира. Засыпаю под уютное тиканье огромного металлического будильника и мерное гудение газовой горелки в печи. Я есть. Я живой. А потом – мертвый. И меня нет.
Нет этого противного лампового света темным зимним утром, чада дровяной печи, ледяного деревянного пола на кухне. Нет даже будильника. Металлического. С расцарапанным боком и небольшой трещиной на стекле. Меня нет ни в своей постели, ни в зале под столом, где я изображаю танкиста. Меня нет во дворе, где мы с отцом пилим двуручной пилой толстые липовые бревна. Меня нет нигде. Вообще. Разве это не странно?..
Но всерьез это не воспринимаешь. Смерть – это такая игра. Вот умру, думал я, они все будут плакать, причитать, какое чудо они потеряли, а я встану и скажу: «Ладно, я пошутил». И тут уж они все меня на руках носить будут, конфеты без счета давать, даже бутерброд с маслом и вареньем сделают. С малиновым! Я буду сидеть довольный, жевать батон, запивать сладким чаем… А что, вот так помирать мне нравится! Надо будет повторить.
С возрастом эти мысли отошли на задний план. Жизнь кипела и грозила бессмертием. Во всяком случае, мы именно так проживали нашу жизнь. Смерть оказалась рядом как-то неожиданно. Надо быть честным: когда умирают престарелые родственники, даже любимые, это оказывается ожидаемой потерей – старость и смерть идут рука об руку. Но когда вдруг «взрывается» где-то рядом, нас накрывает. Мы ведь бессмертные, с нами нельзя так, мы никогда не умрем. Наша жизнь бесконечна, прекрасна и насыщена яркими событиями. Мы вечно юные боги. А тут нам показывают, что веселье может закончиться в любой момент.
У меня тогда была четырехстрочная «Моторола» – между прочим, весомая причина для гордости. Как и Sony Walkman. Легендарный был кассетник. Я так и ходил: сбоку на ремень вешал плеер, а спереди – пейджер. Четырехстрочный. Серьезный аппарат, не чета вашим дешевым однострочникам. Каким же невероятно успешным, каким значительным я себя тогда ощущал… На этот пейджер и пришло сообщение. Длинное, в четыре строки не уместилось. Я перечитывал его несколько раз, но никак не мог взять в толк, разве это возможно – вот так взять, открыть эту дверь, шагнуть вниз и больше не встать? Даже за конфеты и бутерброд с малиновым вареньем?