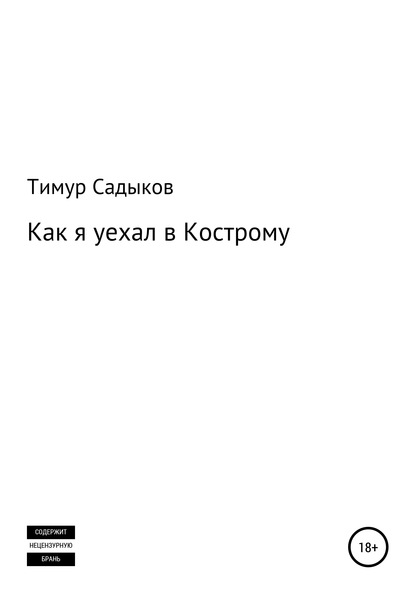По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как я уехал в Кострому
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы с ним не дружили. Мы хорошо знали друг друга. Выпивали, дурачились. Влипали в разные веселые истории. Он был чуточку отстраненным, слегка надменным. Любил принарядиться. В нынешние времена он бы наверняка стал хипстером. Но он ушел первым. Неожиданно и ожидаемо. У него была записка – что-то невнятное, она ничего не объясняла. Да нам и не надо было. Мы и так понимали, что его зависимость добром не кончится. Но когда на пейджер пришло многострочное сообщение, меня оглушило: я не верил, что это произошло. Рассказал всем, до кого дотянулся. Я надеялся, что кто-нибудь мне скажет, что это неправда, в двадцать четыре не умирают. Двадцать четыре – это самый пик бессмертия. Но мне в ответ только сочувственно кивали головами. Я попробовал утопить это новое для себя чувство в женщине. На миг стало тише, но утром пришлось ехать на кладбище. Добровольно, а не потому что надо было проститься.
С тех пор мысль о суициде оказалась, что называется, next door. Благодаря этому соседству много позже я понял, что понимаю самоубийц. Не одобряю, не поощряю – просто понимаю. Знаете, когда в дублинском аэропорту не томится в ожидании твоего рейса Брендан Глисон или когда Кострома гасит огни маяков, на сцену выходит старый добрый Тайлер Дерден. Теперь ему недостаточно варки мыла из человеческого жира и вклеивания порно кадров в карамельные семейные фильмы, ему нужны жертвы. Может, я стану рассказчиком, перестану рвать жилы ради сверхпотребления. А может, мне повезет больше, и я стану Марлой, найду себя в саморазрушении. Мой Тайлер мог бы оставаться легендой, символом, сраным Че Геварой на майке. Тогда его можно продать, лишив бунтарской привлекательности. Но когда-то я открыл эту дверь.
Я не способен на решительные действия. Однажды я был уверен, что не переживу расставания и пора решить этот вопрос окончательно. Резать вены надо в горячей воде, и не поперек, а вдоль. Меня хватило только на то, чтобы достать лезвие из бритвы и порезаться. Вдобавок в доме отключили горячую воду. Тогда я еще не был знаком с Тайлером. Сегодня могу себе представить, как этот красавчик заходится в истерике от хохота, представляя эту картину в красках. Нет, зрелище и вправду уморительное: кран шипит и плюется, я стою с разрезанными подушечками пальцев, а на лице столько решимости – то ли газы сдержать, то ли кровь смывать. Вы простите, но вовремя пернуть – это сбить к чертовой матери весь пафос момента.
Мой Тайлер улыбается. Все-таки жизнь устроена странным образом: один раз оттуда, чтобы потом всю жизнь туда!
А вот сейчас будет неожиданное: вы знаете, какого размера член у пекинского селезня? Я спрашиваю со всей серьезностью, понимаю при этом, что вопрос задан некстати. Но почему-то именно сейчас мне захотелось вас познакомить с Варей. Варя – мой самый большой друг и лучший из учителей, что мне посылала жизнь. Знание ответа на вопрос о придатках селезня хорошо ее характеризует. Вот вы про них не знаете, а она – знает. И живет с этим.
Варя – абсолютно городской житель. Она родилась в городе, жила в нем большую часть сознательной жизни, а потом вдруг хлоп – и заделалась деревенской. Мне она это объяснила так:
– Толстый, только сельская жизнь во всей красе – когда все вот так, на виду – позволяет не просто наблюдать за ее течением, но и бесконечно охреневать от беспредельной креативности Творца.
Лично мне этого объяснения было достаточно.
Варя божественно жарила картошку. Ничего особенного: сковорода, масло, немного лука. Картошка резалась крупной соломкой. Лучше Вариной картошки я не ел никогда. Руки у нее были из правильного места, что ли? Ну или как там это у поваров называется… Но она не была поваром. Она вообще не заморачивалась ни на чем, тем более на готовке: есть поганые пельмени машинной лепки – сойдут и они, лишь бы не слишком напрягаться. Она в принципе так жила – не напрягаясь. «Белая пони» – так она однажды себя назвала. И рассказала историю про раннее утро в одном сибирском поселке. Пони тогда пропала – подробностей не было, пропала и пропала: несущественное Варя умела выносить за скобки. Просто раннее летнее утро, сибирский поселок, туман. И тут из тумана прямо к Вариному двору выходит пони. Белая. Даже молочная. Тыкается в плечо… и говорит человеческим голосом: «Угостите даму сигареткой». Я всегда ее прерывал в этом месте, а она всегда ржала, как та самая пони. Это была хорошая история, она всегда прекрасно шла под водку.
Мы любили эту белую пони, ее всегда можно было окончить так, как заблагорассудится:
– И тут она тычется мне в плечо и говорит: «Идут за мной, мне б схорониться»… Нет, не так, тут она тычется в плечо и говорит: «Же не манж па сис жур, пожертвуйте фюнф копеек бывшему депутату Государственной Думы»… Или – и тут она подходит, хлопает по плечу и говорит: «Семки есь, шоле? А еси найду?»
Этот рассказ так и не обрел долгожданный финал. Белая пони не стала быстрокрылым Пегасом, не унесла нас в тот край, где нам было бы достаточно початой бутылки водки и картошки. Жареной. Ничего необычного – сковорода, масло, немного лучка. Потому что Варя умерла.
Так получилось, что мы не виделись недели три. Я как-то замотался. И она не выходила на связь. А потом вдруг вечером пришла в гости. Я на радостях сбегал на кухню, сполоснул стаканы, достал бутылочку. Долго извинялся, что початая. Разлил по первой. Мы выпили, я долго соображал закуску, потом предложил картошки пожарить. Варя сидела необычно молчаливая. Вертела в руках стакан, потом поставила его на стол и сказала:
– Знаешь, Толстый, я ведь недавно умерла.
Это прозвучало так буднично, как бы между прочим. Умерла и умерла, подумаешь, что тут такого. Как умерла, так и воскресла, как будто у самого так не бывало. Будто рай – это такой большой зал. В нем очень много людей. И каждый находит свою ячейку, забирается в нее, и там ему так уютно, так хорошо…
Потом Варя выпила, выдохнула и ушла. Вот так я и узнал про рай.
Кстати, про член селезня – он у него два метра. Селезень для удобства сворачивает его в бухточку. Так что теперь и вам жить с этим знанием.
* * *
В моей жизни всегда незримо присутствуют два человека. Я их не знал, но они всегда со мной. Первый – это моя бабушка. Она умерла, когда я был младенцем. У каждого какой-то особенный рай. Про свой я узнал случайно. Я не умирал, но так случилось, что ощутил, какой он. Не спрашивайте, не смогу объяснить. Бабушка рассказывала, что там были цветы. Она там была, она знает. Она бежала по целому полю ярких цветов – и очень расстроилась, когда ее вернули в нашу серую реальность. В моем раю растет дерево. Вековой дуб, огромный, раскидистый, с густой кроной. Под ним расстилается мягкий мох. А земля теплая, как камни, нагретые южным солнцем. Под ним сладко спится. И там меня ждут два человека, которых я никогда не видел. Моя бабушка. И моя дочь.
Эту боль не пережить никогда. Она всегда с тобой. К ней как-то привыкаешь, смиряешься с ней. Теперь вас двое – куда ты, туда и она. Рядышком на табуреточке. Или за одним столом. Иногда она вдруг резко бьет под дых, сбивая дыхание, вколачивая диафрагму в позвоночник. Но большую часть времени ее не замечаешь. Санитарка тогда спросила: хотите открыть лицо? А я испугался: нет, не хочу.
Никогда не думал, что старая коробка из-под обуви может вместить в себя человека целиком. Я еду в машине. Коробка с человеком у меня на коленях. Я звоню другу, поздравить его с днем рождения. Желаю ему счастья и долгих лет жизни. Казалось бы – нашел время. Но ужас, что я к тому моменту испытывал, отключил чувство реальности напрочь. Это я еду на кладбище с человеком в старой обувной коробке. И не я. Я сейчас звоню другу и поздравляю его с днем рождения. И снова не я. Я остался в том коридоре, застопорился в тот миг, когда санитарка протянула мне туго спеленатый сверток и спросила: хотите открыть лицо?
Когда уезжаешь в другой город, в качестве багажа с собой стоит брать не только собственные познания о любви и смерти. Может случиться так, что Кострома перевернет мои представления, и я вновь стану подростком. У меня выскочат прыщи и способность удивляться окружающей действительности. А вместе с неудержимым либидо из меня начнет рваться гениальность. Теперь представьте, что играет музыка, что-то из Moby. Обычно в фильмах такая музыка сопровождает момент озарения главного героя. Итак, беззаботность умерла в две тысячи седьмом году, а в тысяча девятьсот шестьдесят втором ей поставили памятник. Посмертно. Меня зовут Бен. Когда я родился, то был седым, маленьким и сморщенным, меня звали Кузьмой и я умел летать. С годами седые волосы загустели, окрасились и заколосились. Я стал пухлым и поправился. Навык летать рассосался как атавизм.
Трава всегда зеленее в тени, потому что не вытоптана. Пчела садится только на вкусный цветок, а перед ураганом дует теплый ветер. Я думаю о сексе триста шестьдесят пять дней в году, иногда триста шестьдесят шесть. Но секс не думает обо мне. Все люди делятся на красных и синих. Синие умерли, но живут. А красные живы, но сломаны. Чтобы жить, синим нужен распорядок, будильник и цель. Красные просто лежат на полке и хотят любви. Но никто не любит сломанные игрушки. Если вы синий, дальше не слушайте. А если красный, знайте – беззаботность не умерла в две тысячи седьмом году, ее убили. Я знаю, кто это сделал, но не скажу. Потому что тогда красные станут синими и любовь умрет. Я снова хочу летать. А без любви могут летать только синие и только в самолетах.
Все разговоры идут по кругу. Даже когда уже не надо ничего выяснять. Мой Тайлер очень любит этот момент, когда все ранее сказанное повторяется. Ты просто бежишь по спирали, с каждым кругом переходишь на новый виток. Я был уверен, что переезд в Кострому сделает меня красным. Я буду сломан, но жив. Тайлер смеется: он любит неожиданные открытия.
Некоторые двери необходимо оставлять запертыми. А еще лучше – наглухо замурованными. Как тогда, когда я однажды вернулся в свой старый дом и не обнаружил двери. Ее попросту замуровали, заложили кирпичом и аккуратно заштукатурили. Придумать что-то более наглядное избитой фразе «никогда не возвращайся туда, где тебе когда-то было хорошо» нельзя. Что ты хотел увидеть? Поленницу в нише между печкой и стеной? Пружинный диван, оставленный умирать в этом старом заброшенном доме? Или ты пришел за тем мальчишкой, что когда-то ночами слушал дикторские объявления, доносившиеся с железнодорожного вокзала? Хочешь вернуть мечтательную беззаботность, порожденную паровозными гудками? Но ты не любишь поезда.
Тайлер любит позвенеть моими цепями. Ему нравится мучить меня несбывшимся. Вот ты, веселый, увлеченный и яркий, к своим годам получаешь бублик, фантик и фасадную штукатурку. Торс ветшает, задница отвисает, щеки прикрывают шею, глаз тускнеет, зуб крошится. Из яркости остается телевизор, из увлечений – порнография, из веселья – алкогольная абстиненция. И так до утра. А утром в Костроме туман.
В туман хочется закрыть глаза. Ты плывешь куда-то. Раньше ты жил на улице имени двух человек, а теперь у тебя седина. Туман возвращает туда, где улица имени двух человек была еще жива. Выходят люди, здороваются. Они тоже жили на улице имени двух человек. Ты видел их только на фотографиях, а они вдруг садятся на краешек кровати, что-то говорят. Но потом туман поглощает улицу вместе с автобусной стоянкой, молочным павильоном, случайным цыганенком и тремя разноцветными кошками. И оставляет только запах. Смесь табака и водки. И немного гашеной извести вперемежку с запахом сырых досок.
Мой родной город меняется. Уходят улицы, сгорают дома, иногда целыми кварталами. Вырубаются сады, вытаптываются дворики. Срываются бульдозерами старые здания времен царя гороха, от которых остались только фасадные стены, торчащие посреди улицы как гнилые зубы. Старую жизнь убивали расчетливо и методично.
В мой родной город приехали те, кто знает, как сделать его лучше. Они закатали рукава и начали его благоустраивать. За пару десятков лет мой родной город стал относительно чистым, немного облагороженным местом, в котором невозможно жить. Пришли те, кто знает, как сделать красиво. И они сделали. Даже стеклянная высотка появилась. Торговые центры выросли на месте заводов, бизнес-центры – на месте бараков. Нет, это хорошо. Действительно хорошо, когда твой город из серого, страшного, некомфортного места превращается во что-то блескучее и переливающееся огнями – в китайский спиннер. Одна беда: место, где люди жили в дискомфорте, превратилось в место, где жить не-вы-но-си-мо.
Знаете, почему мужики тогда пили? Не гламурненько выпивали в барах, а именно глухо и крепко надирались? Им было страшно. Каждый день у нас война. Каждый день надо идти в атаку, а кто ж на трезвую голову воюет… Нет, настоящие бойцы мне расскажут, что выпивать нельзя. Что пьяным только под кустом с блохами воевать можно. Они правы. Резать людям глотки сподручнее трезвому.
У меня есть приятель, он прошел три войны. Я бы никогда не сказал, что он настоящий головорез. У него открытая улыбка и глаза голубые-голубые. В отличие от многих ветеранов, он смог найти себя в мирной жизни. Но иногда его прорывало. С виду щуплый, с добрым лицом и наивным взглядом, он здорово вводил потенциального противника в заблуждение. Как-то раз его бригада решила, что с Владиком можно не делиться, а попросту отдубасить за стройплощадкой. Прораб потом долго выяснял: «Владик, ты зачем бригаду убил?» А Владик смотрел добрыми чистыми голубыми глазенками и, проморгавшись, отвечал: «Я не убивал, только калечил».
Командир так говорил Владику: «Я тебя спишу вчистую, какой ты разведчик, ты пленного расстрелять не сможешь! У тебя рожа слишком добрая». Когда Владик перерезал пленному горло, командир хлопнул себя ладонью по лбу и закричал: «Бля, так в человеке ошибиться!»
Чем мне всегда нравился Владик, так это тем, что мог задавать потрясающе парадоксальные вопросы. Например:
– Скажите, вот сказать человеку «заткнись, сука» – это нормально? Или нужны предварительные ласки?
К сожалению, даже такой боец не сможет спасти мой город. И в этой ситуации остается только глухо надираться.
Знаете, что объединяет пьяниц прошлых и нынешних? У нас до сих пор общий страх. Беспомощность перед происходящими событиями. Невозможность на них повлиять. В моем родном городе сейчас властвует стяжательство. Старый город мешал строить высотки. Его надо сжечь. И сожгли. Оставшееся превратили в убогий лубок, отданный на откуп рестораторам. На месте пепелищ у города теперь есть новые жилые комплексы – стеклянно монументальные, с подсветкой фасадов. Город отрастил новые зубы. Светящиеся, новенькие и настолько огромные, что не помещаются в челюсти.
Раньше я говорил, что не любил тот старый город, с его нищетой и грязью, хмурым небом и почерневшими фасадами домов. Меня раздражали серые бетонные мешки спальных районов, гнилые бараки трущоб, кособокие домишки царских времен, неухоженные скверики и тяжеловесный стеклобетон официальных зданий с тяжелыми бронзовыми табличками на потрескавшихся фасадах. Он был убог, мой город. Но у него была душа.
Тогда у нас было всего три праздника: Новый год, День Победы и Первомай. Город был бос и оборван. Дырявые штанцы, кургузый пиджачок, надетый поверх растянутой майки, и серенькая, низко надвинутая на брови домов кепочка неба над головой. В праздники же он наряжался: прорехи затягивал кумачом, украшал себя красными флагами, даже кепочку серую снимал. И уже на Первомай небо над городом было бирюзово-голубым с мелкими вкраплениями белого. Было празднично, мы шли веселые, с шариками и флажками, кричали «ура!».
Мой родной город – нежеланный ребенок. Его до сих сопровождает плохо скрываемое легкое презрение старших братьев – за чернявость, за говор, за обособленность. Он рос в невнимании, и это озлобило его, но стать сильнее не помогло. Он начал искать себя в подражательстве – и преуспел. Стряхнув вековой налет провинциальности, он заодно избавился от всего, что делало его самим собой. Призвав тех, кто решил сделать его столицей, он убил себя.
Я любил его. И очень хочу любить обновленным, но не выходит. Он изменился, но не стал богаче, столичнее. Его до сих пор обходят вниманием прогнозы погоды на федеральных каналах. И вот это невнимание со стороны Гидрометцентра как-то особенно обидно, по-детски. У нас те же погоды, такие же дожди. А снега и морозы у нас не чета вашим, столичным. Так отчего же регион Кавказские Минеральные Воды «Прогноз погоды» упоминает, а мой родной город обходит стороной? А ведь ненастная погода или аномальная жара ни разу его не обошли.
Да, город чище без многочисленных помоек во дворах и уличных туалетов. Да, он выше. Не два, не три этажа – больше. Не кирпич, не дерево – мо-но-лит. Теперь он стал похож на человеческий муравейник, закованный в асфальт и бетон. Над ним все то же небо. Но под небом уже не тот город.
Мы привыкли романтизировать наши декорации. Разве Кострома не лучший город на Земле? Оглянитесь вокруг! Это не улица Луначарского, это рю Даржантей. А вот это не переулок Кирова, это виа Ди Рипетта, и пересекает она не Вторую Юго-Западную улицу, а Шафтсбери-авеню. В нашей земле тысячелетняя история. Мы поем о ней в песнях. Мы пишем грандиозные полотна, на которых Кострома встает во всем своем тысячеэтажном великолепии. На таких улицах не так обидно стать жертвой поножовщины. Здесь получали перо в брюхо люди значительные, серьезные. Здесь корчились в луже крови капитаны-америки. Здесь разбивали пивной кружкой головы парацельсы. Здесь стоял на коленях Карл Первый, молясь о скорой и безболезненной кончине. Камни этих мостовых истирали подошвы бунтарей-каторжников, из них выбивала искры тяжелая конница безжалостных восточных завоевателей.
Виды центральной городской ТЭЦ живописал Тулуз Лотрек. Красотами дымных рассветов улицы Первого Мая восхищался Хемингуэй. На широких проспектах Костромы сражались капитаны революций. Рушились колоссы и гибли титаны. На ступенях свердловского дворца правосудия истекали кровью герои. И Жан Вальжан спасал возлюбленного своей воспитанницы, пряча его в ливневой канализации микрорайона Жужелино. Кострома – центр мира. Земля нибелунгов, край песьеголовых свирепых воинов, ездящих верхом на пещерных медведях. Легендарный небесный замок, в котором нет ничего – и весь мир. Теперь вы понимаете, что у меня не было шансов, я был обречен приехать в этот край? Нет?.. Вот и я не понимаю.
Дублин сверкает огнями в недостижимой дали. За иными морями. Брендан Глисон скучает где-то на лавочке в дублинском парке Сант-Стивенс-Грин. Кормит лебедей, прихлебывает Jameson из бутылочки в бумажном пакете и ждет меня. А я в Костроме. В городе, о котором знаю только одно – когда-то его дотла сжег князь Константин.
Кажется, сегодня я начал понимать одиноких пьяниц. Кострома раскрывает меня с неожиданной стороны. Оказывается, напиться в одиночестве – неплохая идея. Тебя как будто укутывают байковым одеялом. За окном сильный снегопад, а ты сидишь в тепле, в оцепенении и пялишься в окно. Иногда это похоже на медленное всплытие. Я – древний монстр, доисторический плезиозавр, поднимающийся из темных глубин океана. Как в рассказе Брэдбери, я иду на зов ревуна. Однажды я дойду и встречу его. Совершенно случайно. Он будет сидеть в баре у стойки и пить виски. Именно виски, я настаиваю. Водка – напиток для унижения или войны, а вот виски – это путешествие. Истинный гений – всегда путешественник, даже больше – бродяга. Я тоже плюхнусь за стойку, закажу порцию островного виски, мы случайно разговоримся. И я надеюсь, что мой случайный собеседник окажется гением.
Мы все стремимся найти свободные уши. Для нас езда по ушам – что-то вроде национального спорта. Это заменяет нам психоанализ. Правда, все наши разговоры сводятся к ворчанию и недовольствам. Мы недовольны работой, сексом, доходами, правительством, соседями, каннибалами в Африке. Работой и сексом – чаще всего. А то, что в Африке жрут людей, для нас хороший повод завязать непринужденную беседу. Ведь не скажешь первому встречному в баре: «У меня маленький офис и пипирошная зарплата, по понедельникам я плачу в душе, а потом дрочу. И это лучшая часть моего дня». Если собеседник окажется гением, то он пристыдит за воровство чужих монологов. Но согласится, что поонанировать с утра и вправду лучшая часть дня.
Надо ли после этого выходить из дома? Лично я не уверен. Но гений сможет обосновать, почему из душа вылезти надо. Для чего обтираться полотенцем, одеваться и ползти на работу. И это не только из чувства долга перед семьей, банком и обществом. Есть замечательная возможность подрочить в офисном туалете, фантазируя о новой сотруднице из бухгалтерии. Чувствуете разницу? То-то же! А потом можно порассуждать о творчестве Бертольда Брехта или манифест супрематистов обсудить. Но главной удачей будет… помолчать. В сорок с хвостом нам всем есть о чем похныкать. Но помолчать с гением – гениально.
Вы видите это? А я уже вижу. На стойке бара – медная табличка «Здесь 20-го числа месяца марта молчал гений». И этим все сказано. А уж если гений захочет с тобой поговорить, тут надо вытряхнуть утреннюю сперму из ушей и слушать.
Теперь вы понимаете, почему я надеюсь на встречу с ним? Осталось только понять, с чего я решил, будто гений посетит мой любимый кабак и снизойдет до беседы со мной. Возможно, я идеализирую дублинские забегаловки. Скорее всего, в пабе на Гафтон стрит глушит виски боевик ИРА. А гений сидит себе в уличном кафе на набережной Виктория Куэй, потягивает молочный улун из бумажного стаканчика и дописывает комикс про одиночество. Тот самый, где люди живут с огромной дырой в груди.
Я долго чувствовал себя героем этого комикса. И не мог смириться с этой дырой в полтела. Я заполнял ее другими людьми. Так я встретил Марлу. Мою Марлу звали Ольга. Лера. Стася. Ника. Дарья. Владилена Самитовна. И даже Амина, которую я звал Иди. За диктаторские замашки и подозрение на людоедство. Я искал свою Марлу в тысяче других. Жаждал совпадений. Я заталкивал в себя чужих, неподходящих, отстраненных и даже жаждущих, но они не смогли заполнить меня. Марла. Глупая толстая Марла. Где ты сейчас? Чья горячая сперма наполняет твой рот? Роди мне моего Тайлера. Я устал от этих смыслов, хочу другие. Марла, раздвинь ножки. Прими, опустоши. Стройной колонной я двинусь в тебя, сметая на пути все барьеры. К черту устои! Мир устал от беззубых символов, он хочет кровавых жертв. Он верит в них так, как верили в избавление от дождя древние люди, сжигавшие девственницу на жертвенном костре.